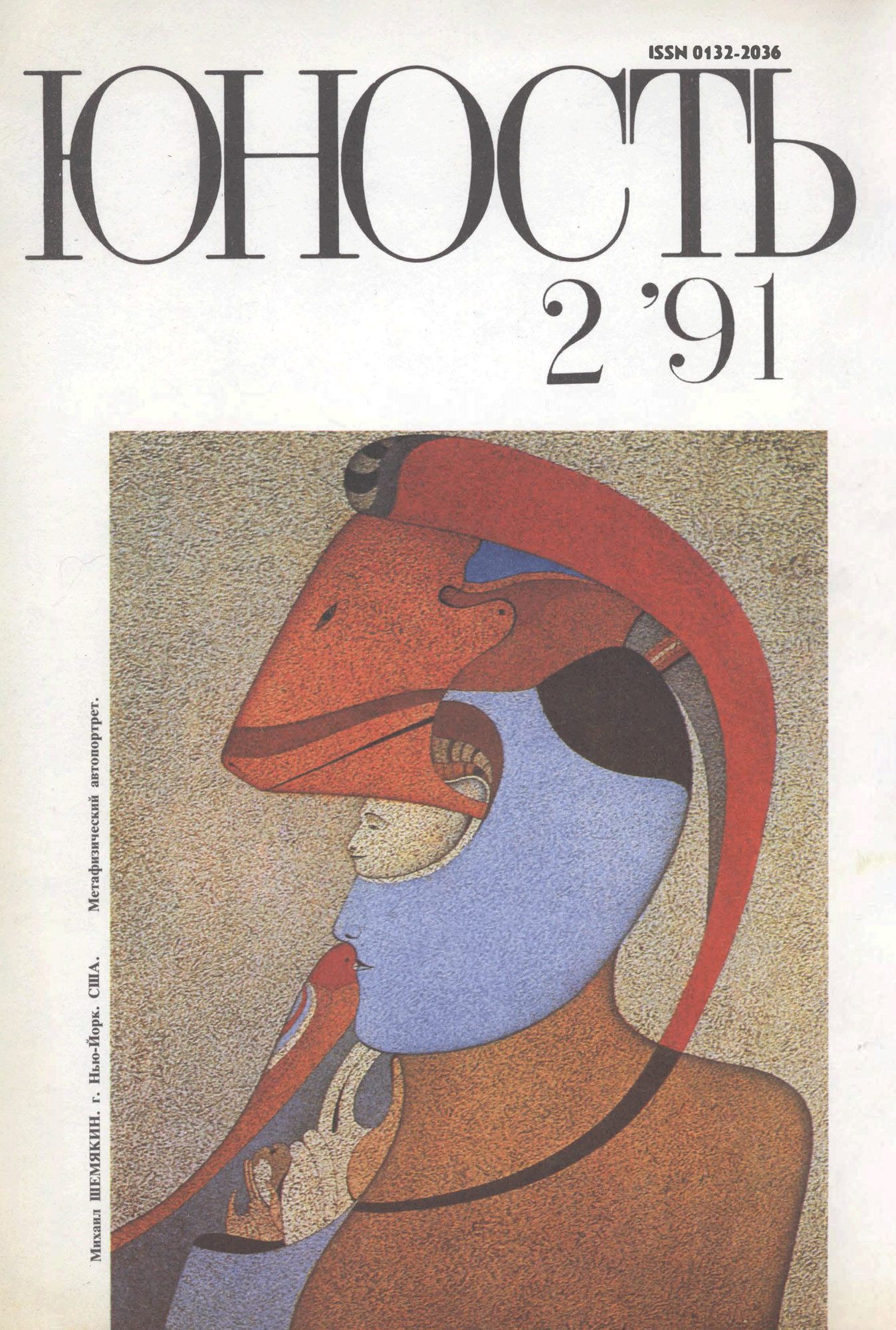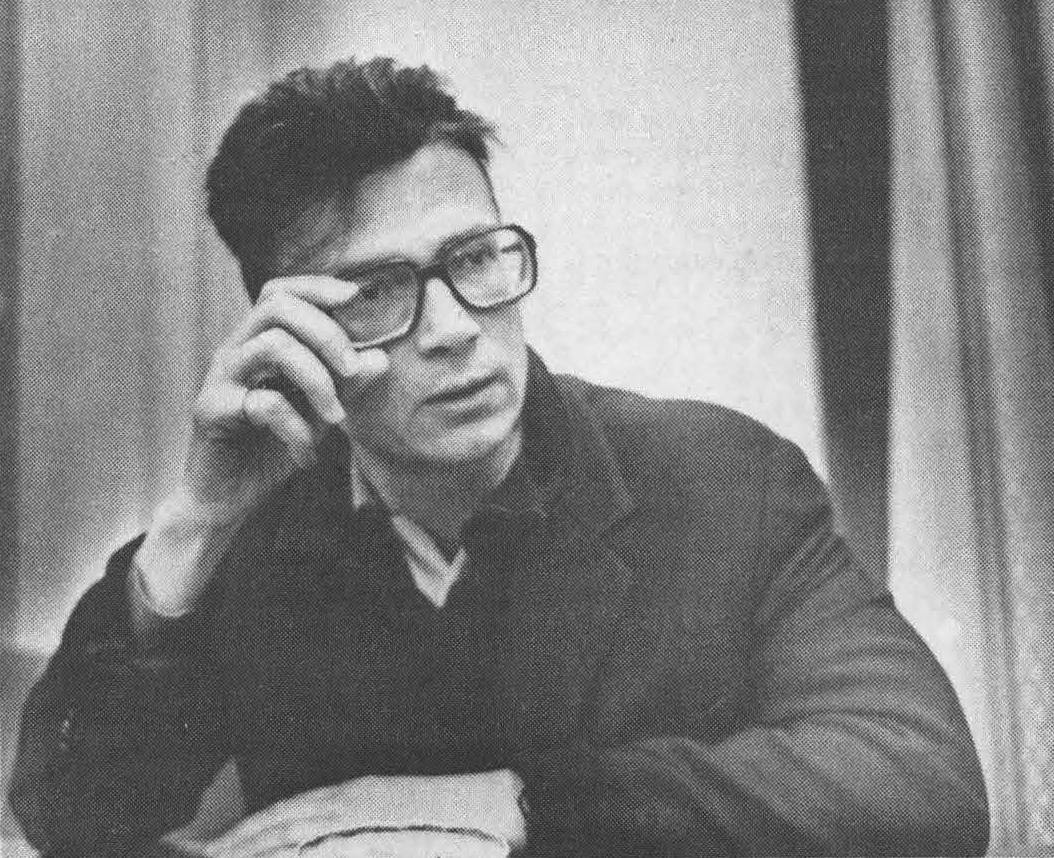Красавица, вдохновлявшая поэта
Проза • Эдуард Лимонов
Я был неимоверно нагл в ту осень. Нагл, как рабочий, забравшийся в постель графини, как наконец сделавший крупное «дело» мелкий криминал.
…Моя первая книга должна была появиться в парижских магазинах через месяц. Я взял с собой в Лондон сигнальный экземпляр. Мне хотелось плевать в рожи прохожим, выхватывать младенцев из колясок, запускать руку под юбки скромнейшим пожилым женщинам. Пьяный, выходя из Винного погреба на Слоан-сквер, я, помню, едва удержался от того, чтобы не схватить полицейского за ухо. Диана удержала меня силой. Я лишь частично насладился, показывая на розовую рожу «бобби» пальцем и хохоча. Я был счастлив, что вы хотите… Мне удалось всучить им себя. Под «им» я подразумевал «мир», «общество», «сосаяти»,— что по-русски звучало как сборище тех, которые сосут, ..есосов. У меня было такое впечатление, что я всех их обманул, что на самом деле я никакой не писатель, но жулик. Именно на подъёме, на горячей волне наглости, гордости и мегаломании я и схватил Диану, актрису, бля, не просто так. Актрису кино и теле, снимавшуюся во всяких там сериях, её узнавали на улицах… По сути дела, если употребить нормальную раскладку, Диана не должна бы была мне давать. Она была известная актриса, а я — писатель-дебютант, но наглость не только спокойным образом может увлечь и повести за собой массы, но даже может обмануть кинозвезду вполне приличного масштаба и заставить её раздвинуть ноги. Она не только мне дала, она ещё поселила меня у себя на Кингс-Роад и возила меня по Лондону и Великой Британии в автомобиле. Следует сказать, что я охмурил не только её, тёмную красотку с пышными ляжками и тяжёлым задом, игравшую истеричек в телефильмах по Мопассану, Достоевскому и Генри Джеймсу, но я обманул ещё и множество жителей Великой Британии, попавшихся мне на моем пути.
Майкл Горовиц, английская помесь Ферлингетти с Гинзбергом, с фигурой ленинградского поэта Кривулина (то есть шесть конечностей — две ноги, две руки и две палки), пригласил меня на первые в мире поэтические Олимпийские игры. Милейший Майкл и его британские товарищи желали пригласить вечнозелёных Евтушенко или Вознесенского, но, кажется, в те времена Советская власть рассердилась за что-то на Запад, и подарочные Е. и В. [Евтушенко и Вознесенский] не были высланы. Я замещал обоих на Поэтри Олимпикс. Олимпикс заблудились во времени, и вместо хиппи-годов, к которым это мероприятие принадлежало по духу своему, мы все оказались в 1980-м. У меня сохранился зеро-копированный номер журнала «Нью-Депарчурс», в котором долго и нудно восхваляются преимущества мира перед войной, лав-мэйкинг перед бомбёжкой, и т.п. Я расходился с Майклом Горовицем и его товарищами в понимании действительности и во взглядах на проблемы войны и мира, но я согласился прочитать свои стихотворные произведения в Вестминстерском аббатстве, попирая ногами плиты, под которыми якобы покоятся английские поэты. Сам кардинал Кук в красной шапочке представил нашу банду публике и сидел затем, не зная, куда деваться от стыда, на хрупком стуле, прикрыв глаза рукою. Самым неприличным по виду был панк-поэт Джон Купер Кларк: буйная головушка поэта была украшена сине-розовыми пучками волос. Джон Купер Кларк напоминал гусеницу, поставленную на хвост. Он получил серебряную медаль наглости от «Сандэй Таймз», которая почему-то взялась награждать нас, хотя никто её об этом не просил. Самым неприличным по содержанию произведений оказался реггаи-певец и поэт Линдон Квэйзи Джонсон. Симпатично улыбаясь, красивый и чистенький чёрный проскандировал стихи-частушки, каждый куплет которых заканчивался рефреном «Инглянд из зэ бич… та-тат-та…». То есть «Англия — сука…». Может быть, именно потому, что каждый рефрен заставлял бедного кардинала Кука опускать голову едва ли не в колени и вздрагивать, Линдону Квэйзи Джонсону досталась золотая медаль. Мне «Сандэй Таймз» присудила бронзовую медаль наглости. По поводу моих строк, где говорилось, что я целую руки русской революции, журналист ехидно осведомился, «не оказались ли в крови губы мистера Лимонофф после такого поцелуйчика»? Если вы учтёте, что присутствовали представители ещё двух десятков стран и что такому старому бандиту, как Грегори Корсо (он тоже участвовал!), ничего не присудили, то вы можете понять, как я был горд и нагл. Золотая медаль лучше, спору нет, но я впервые вылез на международное соревнование, подучусь ещё, думал я. Плюс и гусеница-Кларк, и реггаи-Джонсон читали на родном английском, а я на английском переводном.
Я покорил нескольких профессоров русской литературы, и они начали изучать моё творчество. Я выступил со своим номером в Оксфорде! Я шутил, улыбался, напрягал бицепсы под чёрной тишорт, плёл невообразимую чепуху с кафедр университетов, но народ не вслушивался в слова. Слова служили лишь музыкальным фоном спектакля, основное же действие, как в балете, совершалось при помощи тела, физиономических мышц и, разумеется, костюма и аксессуаров. Огненным, искрящимся шаром энергии, одетым в чёрное, прокатился я по их сонной стране. Председатель общества «Британия — СССР», жирный седовласый мэн, плотоядно глядевший на ляжки Дианы, сказал ей, что я шпион… Я излучал такой силы лазерные лучи, что, отправившись с Дианой на «одиенс» (режиссёр выбирал актрису для одной из главных ролей в новой телевизионной серии), убедил её в том, что она получит роль, и она её получила!
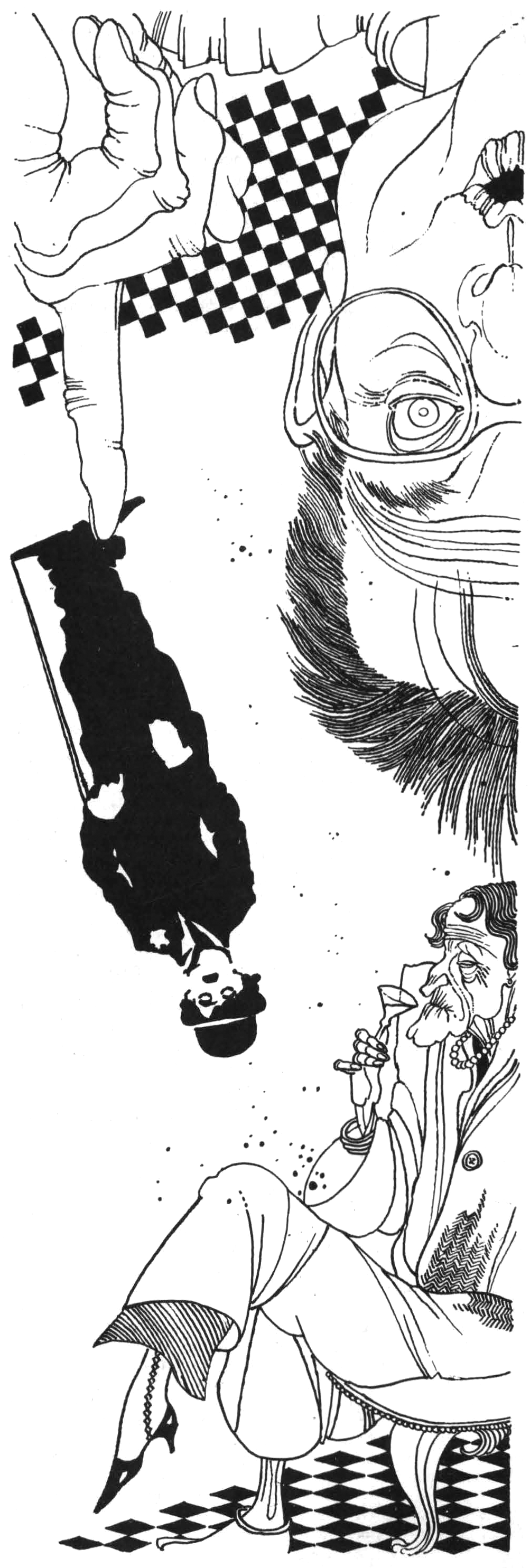
Рисунок Вячеслава Лосева
В солнечный, хотя и холодный, день Диана отвезла свою (отныне и мою) подругу — профессоршу русской литературы — в красивый и богатый район Лондона — в Уайтчаппэл. Профессорша должна была забрать книги у русской старухи, я знал вскользь, что имя старухи каким-то образом ассоциируется с именем поэта Мандельштама.
«Пошли?» — сказала профессорша, вылезя из автомобиля и держась ещё рукой за дверцу.
«Нет,— сказал я,— старые люди наводят на меня тоску. Я не пойду. Вы идите, если хотите…»
Под «вы» я имел в виду Диану. Вообще-то говоря, у меня было желание, как только профессорша скроется, тотчас же засунуть руку Диане под юбку, между шотландских ляжек девушки, но если профессорша настаивает, я готов был пожертвовать своим фингер-сеансом — несколькими минутами мокрого, горячего удовольствия — ради того, чтобы Алла (так звали профессоршу) не чувствовала себя со старухой одиноко.
«Какой вы ужасный, Лимонов,— сказала профессорша.— И жестокий. Вы тоже когда-нибудь станете старым».
«Не сомневаюсь. Потому я и не хочу преждевременно соприкасаться с чужой старостью. Зачем, если меня ожидает моя собственная, торопиться?..»
«Саломея вовсе не обычная старуха. Она весёлая, умная, и её не жалко, правда, Диана?»
«Йес,— подтвердила Диана убеждённо и энергично.— Она очень интересная…»
«Сколько лет интересной?»
«Девяносто один… Или девяносто два…» — Профессорша замялась.
«Кошмар. Не пойду. В гости к трупу…»
«Она сказала мне по телефону, что ей очень понравилась ваша книга. Она нисколько не шокирована. Неужели вам не хочется посмотреть на женщину девяноста одного года, которую не шокировала ваша грязная книжонка…»
«Потише, пожалуйста, с определениями…»
Я вышел из автомобиля. Они раскололи меня с помощью лести. Грубой и прямой, но хорошо организованной.
*
После звонка нам пришлось ждать.
«Она сегодня одна в доме,— шепнула Алла,— компаньонка будет отсутствовать несколько дней».
Женщина, вдохновлявшая поэта, сама открыла нам дверь. Высокая и худая, она была одета в серое мужское пальто с поясом и опиралась на узловатую лакированную палку. Лицо гармонировало с лакированной узловатостью палки. Очки в светлой оправе.
«Здравствуйте, Саломея Ираклиевна!»
«Пардон за мой вид, Аллочка. В доме холодно. Марии нет, а я не знаю, как включить отопление. В прошлом году нам сменили систему. Я и старую боялась включать, а уж эта — новосовременная, мне и вовсе недоступна».
«Это Лимонов, Саломея Ираклиевна, автор ужасной книги, которая вам понравилась».
Старуха увидела Диану, лишь сейчас подошедшую от автомобиля.
«А, и Дианочка с вами!» — воскликнула она. И повернулась, чтобы идти в глубину дома. «Я не сказала, что книга мне понравилась. Я лишь сказала, что очень его понимаю, вашего Лимонова».
«Спасибо за понимание!» — фыркнул я. Я уже жалел, что сдался и теперь плетусь в женской группе по оказавшемуся неожиданно темным — хотя снаружи сияло октябрьское солнце — дому. Быстрый и резкий, я не любил попадать в медленные группы стариков, женщин и детей.
Мы проследовали через несколько комнат и вошли в самую обширную — очевидно, гостиную. Много темной мебели, тёмного дерева потолочные балки. Запах ухоженного музея. Сквозь несколько широких окон видна была внутренняя, очевидно, общая для нескольких домов зелёная ухоженная лужайка, и по ней величаво ступали несколько женщин со смирными пригожими детьми.
«Идите сюда. Здесь светлее». Старуха привела нас к одному из окон, выходящих на лужайку, и села с некоторыми предосторожностями за стол, спиной к окну. Стакан с желтоватой жидкостью, несколько книг стопкой, среди них я привычно разглядел свою, пачка бумаг толщиной в палец… Очевидно, до нашего прихода старуха помещалась именно здесь.
Я сел за стол там, где мне указали сесть. Против старой красавицы.
«Вы очень молодой,— сказала старуха. Губы у неё были тонкие и чуть-чуть желтоватые.— Я представляла вас старше. И неприятным типом. А вы вполне симпатичный».
Диана положила руку на моё плечо. Сейчас этот женский кружок начнёт меня поощрительно похлопывать по щекам, пощипывать и поворачивать, разглядывать. «Ах вы, душка…»
«Не такой уж и молодой…— сказал я.— Тридцать семь. Я лишь моложе выгляжу». Почему-то мне хотелось ей противоречить, и если бы она сказала: «Какой вы старый!», я бы возмутился: «Я! Старый! Да мне всего тридцать семь лет!»
«Тридцать семь — детский возраст. У вас всё ещё впереди. Мне — девяносто один! — Сверкнув очками, старуха победоносно поглядела на меня.— Вам до такого возраста слабо дожить!»
«Ну, это ещё неизвестно. Моя прабабушка дожила до 104 лет и жила бы дольше. Погибла лишь но причине собственного упрямства: желала жить одна, отказываясь переселиться к детям. Плохо стала видеть и однажды свалилась с лестницы, ведущей в погреб. Умерла вследствие повреждений. А моей бабке уже 87 лет, так что лет на девяносто и я могу рассчитывать».
«Вашему поколению таких возрастов не видать,— сказала она пренебрежительно.— Вы все неврастеники, у вас нет стержня, нет философской основы для долгой жизни».— Она отпила из стаканчика жёлтой жидкости.
«У поколения, может быть, и нет,— обиделся я.— Но вы забываете, с кем говорите. Я сам по себе».
Рембрандтовский луч солнца из-за её спины узко ложился на моё лицо и дальше иссякал в глубине темной гостиной, случайно затронув по пути два-три лаковых бока мебели. Мне захотелось рукою сдвинуть луч, но пришлось отодвинуться от него вместе с высоким стулом.
«Хотите виски? — спросила старуха.— Возьмите, вон видите, за пьяно столик с напитками. Есть ваше «Джей энд Би»».
Вот именно в этот момент я её и зауважал. Точнее, несколько мгновений спустя, когда, налив себе виски, я проделал обратный путь к компании и увидел, что она протягивает мне стакан.
«Налейте и мне. Того же самого».
Старуха девяноста одного года, пьющая виски,— такая старуха меня разоружила. Я безоговорочно примкнул к ней. Ну, разумеется, в переносном смысле. «Минеральной воды?» — подобострастно справился я, увидев среди бутылей на столе воду.
«Нет, спасибо,— сказала она.— От воды мне хочется писать».
Профессорша и Диана захохотали. Старуха, без сомнения, служила им моделью. Этакой железной женщиной, которой следует подражать. Ведь если у мужчин есть герои, то есть они и у женщин. Почему бы, то сеть, им не быть…
«Расскажите о Мандельштаме, а, Саломея Ираклиевна?..» Профессорша взглянула на меня победно, как будто бы поняла из моих жестов происшедший только что во мне перелом, взглянула, как бы говоря: «Вот убедились, а ведь не хотели идти, глупец…»
«Ах, я же вам говорила уже, Аллочка, что я его едва помню…— Старуха пригубила «Джей энд Би».— Вы правы, Лимонов, не любя кукурузные гадости, все эти американские «бурбоны»… Я тоже не выношу сладковатых хард-ликёрс… Возьмите кракерс, Дианочка…»
«Саломея Ираклиевна, оказывается, не знала, что Мандельштам в неё влюблён».
«Понятия не имела. Только прочтя воспоминания его вдовы… Натальи…»
«Надежды, Саломея Ираклиевна!»
«…Надежды, я узнала, что он посвятил мне стихи, что «Соломинка, ты спишь в роскошной спальне» — это обо мне».
«Соломинка, Цирцея, Серафима…» — прошептала профессорша, и гладко причёсанные по обе стороны черепа блондинистые волосики даже отклеились в волнении от черепа, затрепетали. Профессорша была отчаяннейшая русская женщина, в прошлом пересёкшая однажды с караваном Сахару, убежав от чёрного мужа к чёрному любовнику, но поэты повергали её в трепет. В её квартире я обнаружил двадцать три фотографии модного поэта Бродского. Тщательно обрамлённые и заботливо увеличенные.
«А какой он был, Мандельштам, Саломея Ираклиевна?»
Диана, телезвезда — ей не потрудились перевести, никто не догадался (а мы перешли, не замечая того, все трое на русский),— однако безошибочно поняла трепет подруги. Когда я открыл рот, намереваясь объяснить ей, о чём идёт речь, она остановила меня.
«Ай ноу, зэтс абаут поэт».
«Йа, йа, Дианочка, абаут поэт,— прокаркала старуха и захватила горсть кракерс.— Какой? Неопрятный, скорее мрачный молодой человек, плюгавый и некрасивый. Знаете, существует такой тип преждевременно состарившихся молодых людей…»
«Плюгавый! Как вы можете, Саломея Ираклиевна…»
«Хорошо, Аллочка, «низкорослый»… Щадя вашу чувствительность, заменим на «низкорослый»… Я помню хорошо лишь один эпизод, случай, как хотите. Сцену скорее… Одну сцену. Это было ещё до войны, до первой мировой, разумеется, мы расположились все на пляже: большая компания. Втроём, насколько я помню, мы сидели в шезлонгах, петербуржские девушки: Ася Добужинская, она потом стала женой министра Временного правительства, Вера Хитрово, ослепительная красавица, и я… Рядом, недалеко от нас, возилась в мокром песке вокруг граммофона группа мужчин. Они вытащили на пляж граммофон, дуралеи, и корчили рожи, чтобы привлечь наше внимание. Среди них был и Мандельштам. В те времена, знаете, дамы не купались, но ходили на пляж…»
«На каком пляже, где, Саломея Ираклиевна, где?»
Профессорша трепетала теперь так, как, наверное, не трепетала во время обратного путешествия с караваном через Сахару. Всего лишь через трое суток после прибытия. За трое суток она успела убедиться в том, что больше не любит чёрного любовника. И в ней вновь вспыхнула любовь к чёрному её мужу.
«В Крыму, если не ошибаюсь… Мы все, хохоча, обсуждали мужчин в группе. Знаете, Лимонов,— почему-то обратилась она ко мне персонально,— обычные женские циничные разговорчики на тему, с кем бы мы могли, как говорят французы, «фэр л'амур». Когда мы перебрали всех мужчин в группе и речь зашла о Мандельштаме, мы все стали дико хохотать, и я вскрикнула, жестокая: «Ой нет, только не Мандельштам, уж лучше с козлом!»
«Ой, какой кошмар! Бедненький… Надеюсь, он не слышал… Как вы могли, Саломея Ираклиевна?..»
«Я была очень молода тогда. Молодость жестока, Аллочка. Но он не слышал, я вас уверяю. Мужчины лишь поглядели на нас с крайним изумлением, может быть, решив, что мы сошли с ума».
«Так что же, он даже не попытался с вами объясниться, сказать вам о своей любви? Никогда к вам не приблизился?»
Профессорша, вернувшись с караваном в свою чёрную семью, объяснилась матери мужа, призналась в измене, и обе женщины,— маленькая блондинка и чёрная стокилограммовая мамма,— прорыдав у друг друга в объятиях несколько часов, скрыли историю от мужа и сына, бывшего в отъезде.
«Так молча и прострадал, бедненький. Но почему, почему?!»
«Его счастье, Аллочка, что не признался. Я так своих любовников мучала, кровь из них пила…» Старуха, высокая, привстала на стуле и оправила, потянув его вниз, мужское пальто. Улыбнулась.
«Я, знаете ли, была злодейски красива в молодости, Лимонов. Считалась самой первой петербуржской красавицей. …Вышла замуж за богатого аристократа и вертела им, как хотела… Он меня боялся, ваш поэт, Аллочка… Мужчины вообще очень пугливы». Бывшая первая петербуржская красавица допила виски. Села.
«Я бы не взяла его в любовники. Вот Блок — другое дело. Блок был красивый».
«И если бы даже вы знали, что Мандельштам в вас очень-очень влюблён, Саломея Ираклиевна?»
«Все мужчины вокруг меня были тогда в меня влюблены, Аллочка». Бывшая красавица гордо сжала губы. Сняла очки.
«Может быть, сейчас это малопонятно,— она сухо рассмеялась.— Но уверяю вас, что так это и было. За мной ухаживали блестящие гвардейские офицеры — аристократы… Не меня выбирали, я выбирала…»
«Да, я понимаю,— сказала профессорша растерянно.— Однако где они все, ваши блестящие поклонники? А он сделал вас бессмертной… Некрасивый маленький еврей…»
Старуха пожала плечами. Мы помолчали.
«Слушайте,— начал я.— Саломея Ираклиевна, я никогда об этом старых людей не спрашивал, но вы особый случай, я думаю, я вас не обижу. Скажите, а что чувствуешь, когда становишься старым? Что с душой и с умом происходит? То есть каково быть старым? Меня это очень интересует, потому что и меня, как и всех, моя старость ожидает, если голову не сломаю, конечно».
«Вам придётся налить мне ещё один, последний виски, Лимонов».
Я исполнил её желание. Пока я это делал, они молчали. Мне показалось, что ни профессорша, ни Диана-подружка не одобрили мой вопрос о старости. Нехорошо говорить о верёвке в доме повешенного.
«Самое неприятное, дорогой Лимонов, что чувствую я себя лет на тридцать, не более. Я та же гадкая, светская, самоуверенная женщина, какой была в тридцать. Однако я не могу быстро ходить, согнуться или подняться по лестнице для меня большая проблема, я скоро устаю… Я по-прежнему хочу, но не могу делать все гадкие женские штучки, которые я так любила совершать. Как теперь это называют, «секс», да? Я как бы посажена внутрь тяжёлого, заржавевшего водолазного костюма. Костюм прирос ко мне, я в нём живу, двигаюсь, сплю… Тяжёлые свинцовые ноги, тяжёлая неповоротливая голова… В несоответствии желаний и возможностей заключается трагедия моей старости».
Невзирая на то, что бывшая первая красавица сопроводила ответ улыбкой, погода нашей встречи после моего, очевидно, всё же бестактного вопроса испортилась. Рембрандтовские лучи солнца покинули гостиную. Дети и гувернантки ушли с лужайки. Старая красавица сделалась неразговорчивой. Может быть, виски всё же действовало на неё сильнее, чем на людей нормального возраста? А может быть, она просто устала от нас? Профессорша собрала книги, прочитанные старухой, и оставила ей взамен две свежепривезённые. Мы прошли по ещё более тёмному, прохладному, хорошо пахнущему канифолью и лаком дому к выходу.
«Не меняйтесь, Лимонов. Будьте такой, как вы есть»,— сказала мне старая красавица и дружески дотронулась палкой до моего сапога. «Аллочка, Дианочка, заезжайте. Мария возвращается в понедельник, в доме будет теплее и веселее».
Мы уже сидели в автомобиле, когда засовы изнутри защёлкнулись.
«Ну, не жалеете, Лимонов, что посетили женщину, вдохновлявшую поэта?» — спросила профессорша. Диана повернула ключ зажигания. Я сказал, что не жалею, что бывшая первая красавица мне понравилась, хотел добавить, что сообщённое старухой открытие, что старится лишь тело, меня ужаснуло, но мотор взревел, и мы сорвались с места. Диана водила автомобиль чудовищно: нервно, порывами.
Женщины беседовали о женском на передних сиденьях, я же, пре доставленный самому себе, стал воображать сцену на пляже. Сидящих в шезлонгах трёх рослых красавиц и кучку мужчин вокруг граммофона в купальных костюмах 1911 года. Точных сведений о купальных костюмах того времени у меня не было, потому моё воображение нарядило их в волосатые костюмы «Игроков в мяч», такие бегают на известной картине таможенника Руссо. Но моему воображению никак не удавалось переодеть в зебровый купальный костюм Мандельштама. Вопреки моим усилиям он так и прилёг на мокрый песок в котелке и чёрном сюртуке. Маленький гном, он был похож на юношескую фотографию Франца Кафки. Утрированные, как карикатуры, оба они походили на Шарло*. Шарло, прилёгший на мокрый песок, украдкой с обожанием поглядывал на самую красивую красавицу,— грузинского царского рода княжну Саломею. И хохотали, ловя его взгляд, красавицы в шезлонгах. Как и во все времена, жестокие Соломинки, Лигейи, Серафиты… Жестокие к маленькому Шарло, но не к «блестящим» (от обилия эполет и портупей?) гвардейским офицерам. Блестящие же гвардейские вели себя из рук вон плохо и, добившись любви красавиц, приучив их к себе, как к наркотику, бросали красавиц, били их по щекам, трясли, как кукол, швыряли в грязь… А красавицы, подползая по грязи, тянулись к их брагетам, то есть ширинкам, зипперов тогда ещё не было…
Ну не в грязь, положим, сказал я себе. Символически швыряли в символическую грязь… Отвлёкшись от своих кинематографических видений, я взглянул в окно. Въехав уже на Кингс-Роад, мы стояли, ожидая зелёного огня. Высокий статный панк с ярко-красной причёской а'ля Ирокез, бил по щекам бледную высокую девочку в кожаной куртке и чёрных трико. У стены аптеки стоял молоденький маленький клерк в полном костюме — жилет и галстук — и взволнованно наблюдал за сценой.
* Чарли Чаплин.