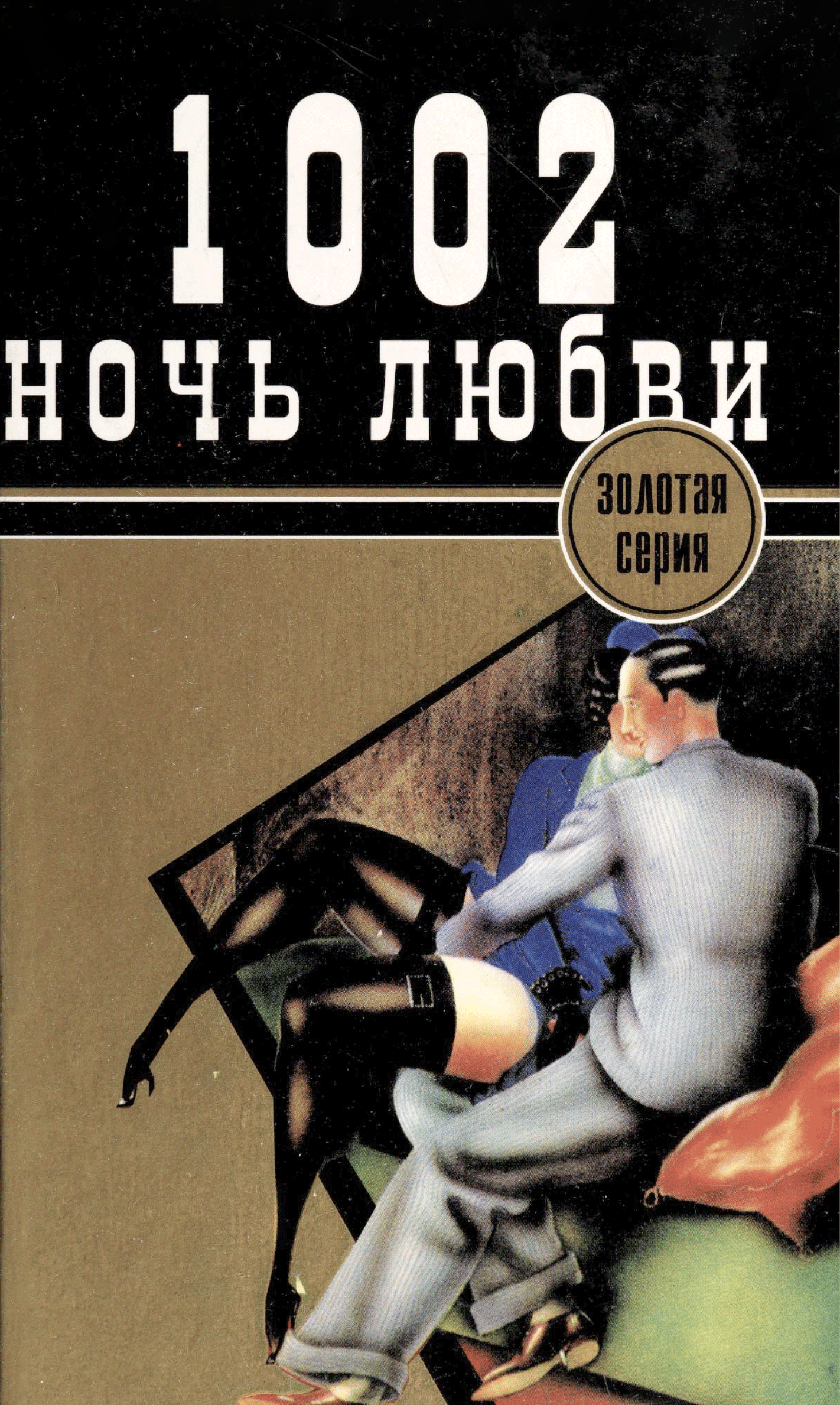Крис
Эдуард Лимонов
Я говорю, что в поисках спасения я хватался за все. Возобновил я и свою журналистскую деятельность, вернее, пытался восстановить. Мой ближайший приятель Александр, Алька, тоже пришибленный изменой своей жены и полной своей ничтожностью в этом мире, жил в это время на 45-й улице между 8-ой и 9-ой авеню в апартмент-студии, в хорошем доме, расположенном по соседству с бардаками и притонами. Он, очкастый интеллигент, осторожный еврейский юноша, вначале побаивался своего района, но потом привык и стал чувствовать в нем себя как дома.
Мы часто собирались у него, пытаясь найти пути к публикации своих статей — идущих вразрез с политикой правящих кругов Америки — в американских газетах, а вот в каких именно, мы не знали — «Нью Йорк Таймз» нас отказывалась замечать, мы туда ходили ещё осенью, когда я работал в «Русском Деле» корректором, как и Алька. Мы сидели тогда друг против друга и быстро нашли общий язык. Мы носили в «Нью Йорк Таймз» наше «Открытое письмо академику Сахарову» — «Нью Йорк Таймз» нас в гробу видела, они нас и ответом не удостоили. Между тем письмо было куда как не глупое и первый русский трезвый голос с Запада. Интервью с нами и пересказ этого письма был все-таки напечатан, но не в Америке, а в Англии, в лондонской «Таймз». В письме мы говорили об идеализации Западного мира русскими людьми, писали, что в действительности в нем полно проблем и противоречий, ничуть не менее острых, чем проблемы в СССР. Короче говоря, письмо призывало к тому, чтобы прекратить подстрекать советскую интеллигенцию, ни хуя не знающую об этом мире, к эмиграции, и тем губить её. Потому-то «Нью Йорк Таймз» его и не напечатала. А может, они посчитали, что мы не компетентны, или не отреагировали на неизвестные имена.
Факт остаётся фактом, мы так же, как и в России, не могли в Америке печатать свои статьи, то есть, высказывать свои взгляды. Здесь нам было запрещено другое — критически писать о Западном мире.
Вот мы собирались с Алькой на 45-й улице, в доме 330, и решали, как быть. Человек слаб, часто это сопровождалось пивом и водкой. Но если пиджачник государственный деятель побоится сказать, что он сформулировал то или иное решение государственное в промежутке между двумя стаканами водки или виски, или сидя в туалете, меня эта якобы неуместность, несвоевременность проявлений человеческого таланта и гения всегда восхищала. И скрывать я этого не собираюсь. Скрывать — значит искривлять и способствовать искривлению человеческой природы.
Где-то сказано, что Роденовский «Мыслитель» насквозь лжив. Я согласен. Мысль это не высокое чело и напряжение лицевых мышц, это скорее вялое опадание всех лицевых складок, отекание лица вниз, расслабленность и бессмыслица должны на нем в действительности отражаться. Тот кто наблюдателен, мог не раз заметить это на себе. Так что Роден мудак. Мудаков в искусстве много, как и в других областях. Если бы он подписал свою скульптуру «Мысль», все было бы верно — внутри человека мысль напряжена, но именно поэтому внешнее в пренебрежении в этот момент. Человек, умеющий думать, похож в период протекания мыслительного процесса на амёбу бесформенную. И точно так же вдохновенный поэт с горящим взором, когда я наблюдал за собой, оказывался с почти стёртым лицом и тусклыми глазами, насколько я мог не меняя лица показать его зеркалу.
Короче, мы с Алькой пили и работали, и обсуждали. Водку пили, и вместе с водкой пили эль, я почему-то к нему пристрастился, и пили все, что под руку попадалось. Потом отправлялись путешествовать по улицам — выходили на 8-ю авеню — девочки здоровались с нами не только по долгу службы, мы примелькались, нас знали. Два человека в очках были знакомы и распространителям листовок, призывающих ходить в бордель, и кудрявому человеку, который выдавал им листовки и платил деньги. Пройдя мимо освещённой крутой лестницы дома 300, ведущей в самый дешёвый бордель в Нью-Йорке, по крайней мере, один из самых дешёвых, мы сворачивали вниз на 8-е авеню, или вверх, по собственной прихоти. Путешествие начиналось…
В тот апрельский день все было как обычно. Тогда приступы тоски накатывали на меня несколько раз в неделю, а может быть, и чаще. Начало того дня я не помню, нет, вру, я написал сцену казни Елены в «Передаче Нью-Йоркского радио», и от обращения все к той же болезненной теме — измене Елены мне — очень устал. В коридоре против моей двери копошились люди — снимали Марата Багрова в его номере, снимали по заданию израильской пропаганды — вот мол как плохо живут те, кто уехал из Израиля. Вообще в наших эмигрантских душах заинтересовано по меньшей мере три страны — нас постоянно теребят, нами клянутся, нас используют и те и другие, и третьи. Так вот, бывшего работника московского телевидения Марата Багрова наёбывали в этот момент человек из Израиля — бывший советский писатель Эфраим Весёлый — и его американские друзья. Шнуры, приспособления, линзы и аппараты столпились у моих дверей. Я ушёл в Нью-Йорк, бродил будто без цели на Лексингтон, а потом дважды обнаруживал себя у «ее» дома, то есть возле агентства Золи, где Елена тогда жила. Грустно мне было и противно. Я вдруг поймал себя на том, что теряю сознание. Надо было спасаться. Я вернулся в отель.
Действие наёбывания продолжалось. Отвыкший от внимания бывший работник московского телевидения заливался соловьём. А злодей Весёлый был спокоен. Я постучался к Эдику Брутту и попросил у него взаймы 5 долларов. Добрая душа, Эдик согласился даже сходить со мной за вином, потому как боялся я потерять сознание от тоски.
Пошли. Он усатый и сонный, и я. Я купил галлон калифорнийского красного за 3.59 и мы пошли обратно. Встретили странного человека с русским лицом, который взглянув на меня улыбнулся и вдруг сказал: «Педераст», и свернул на Парк-авеню. Странная встреча,— сказал я Эдику. Он точно не живёт в нашем отеле.
Мы вернулись в отель, а таинство все продолжалось. Теперь другой обитатель нашего общежития, господин Левин, что-то злобно цедил о советской власти и антисемитизме в России. Мы закрылись в номере, и я упросил Эдика символически выпить со мной, хоть рюмку. А сам стал глушить свой галлон…
Постепенно я отходил, и просветлялся. Эдика кто-то позвал, может быть, его Величество Интервьюер, не помню кто, но позвали. Потом позвали меня, я пошёл — дали столик, я взял, и полку для книг взял — Марат Багров приурочил интервью ко дню своего выселения из отеля. Бывший меховщик Боря, один из наиболее достойных людей в отеле, помогал переносить мне столик в мою комнату. Я его угостил стаканчиком. Сам выпил два или три. Был мной приглашён и Марат Багров. Были бы приглашены и Эфраим Весёлый с компанией, но они смылись вместе с адской своей аппаратурой.
Когда Марат Багров и я опрокидывали свои стаканы, зазвонил телефон.
— Что делаешь,— спросил оживлённый голос Александра.
— Пью галлон вина, едва выпил треть,— говорю,— а хочу выпить весь. Обычно галлон бургундского из Калифорнии вполне меня успокаивает.
— Слушай, приходи,— сказал Александр,— бери бутыль с собой и приходи. Выпьем, у меня есть ещё эль и водка. Хочется крепко выпить,— добавил Александр. При этом он, наверное, ещё поправлял очки. Он тихий-тихий, но способен быть отчаянным.
— Сейчас,— сказал я,— упакую бутыль и приду.
На мне была узенькая джинсовая курточка, такие же джинсовые брюки, вправленные, нет, закатанные очень высоко, обнажая мои красивейшие сапоги на высоком каблуке, сапоги из трёх цветов кожи. Для собственного удовольствия я сунул в сапог прекрасный немецкий золингеновский нож, упаковал бутыль и вышел.
Внизу, от пикапа, содержащего вещи Багрова-переселенца меня окликнули,— сам Багров, Эдик Брутт и ещё какой-то статист.
— Куда идёшь?— говорят.
— Иду,— говорю, на 45-ю улицу, между 8-й и 9-й авеню.
— Садись,— говорит Багров,— довезу, я туда почти, на 50-ю и 10-ю авеню переселяюсь.
Я сел. Поехали. Мимо колонн пешеходов, мимо позолоченного и пахнущего мочой Бродвея, мимо сплошной стены из гуляющего народа. Мой взгляд любовно вырывал из этой публики долговязые фигуры причудливо одетых чёрных парней и девушек. У меня слабость к эксцентричной цирковой одежде, и хотя я по причине своей крайней бедности ничего особенного себе позволить не могу, все-таки рубашки у меня все кружевные, один пиджак у меня из лилового бархата, белый костюм — моя гордость — прекрасен, туфли мои всегда на высоченном каблуке, есть и розовые, и покупаю я их там, где покупают их все эти ребята — в двух лучших магазинах на Бродвее — на углу 45-й и на углу 46-й — миленькие, разудаленькие магазинчики, где все на каблуках и все вызывающе и для серых нелепо. Я хочу, чтобы даже туфли мои были праздник. Почему нет?
Машина двигалась по 45-й на Вест, мимо театров и конных полицейских. У одного подъезда мы удостоились чести лицезреть нашего лилипута-мэра, все эмигранты радостно узнали его, он вылез из машины ещё с какими-то отёчными лицами, и несколько репортёров без особого энтузиазма, но с профессиональной ловкостью снимали мэра. Уж такой прямо сильной охраны не было видно. Все сидящие в машине посудачили некоторое время на тему, что в такой толчее ничего не стоит пристрелить мэра, и с трудом поехали дальше, продвигаясь едва на несколько метров при каждом переключении светофора. Водитель, Багров и я прикладывались несколько раз к моей галлоновой бутыли. Я же достал нож и стал им играться.
Любовь к оружию у меня в крови, и сколько себя помню ещё мальчишкой, я обмирал от одного вида отцовского пистолета. В тёмном металле мне виделось нечто священное. Да я и сейчас считаю оружие священным и таинственным символом, да и не может предмет, употребляемый для лишения человека жизни, не быть священным и таинственным. В самом очертании всех деталей револьвера есть какой-то вагнеровский ужас. Холодное оружие с другими очертаниями не составляет исключения. Мой нож выглядел сонно и лениво. Он явно знал, что в ближайшее время ничто интересное его не ожидает, никакой хорошей работы не предстоит, потому он скучал и равнодушничал.
— Спрячь нож,— сказал Багров,— да и приехали. Я вылез, попрощался и ввергся со своим галлоном в подъезд, нож же занял место в сапоге, пошёл спать.
У Александра привычка — ему звонишь снизу, он нажмёт кнопку — откроет. Но когда подымешься, он никогда не откроет дверь заранее, не встретит на пороге, нужно звонить ещё в дверь, и он не быстро ещё открывает, даже если он меня ждёт. Я все ожидаю, что он отступит от своей привычки, нет, сегодня все было точно как всегда, с нужными паузами.
У нас разделение труда при выпивке — я готовлю еду, а он моет тарелки. Я сварил какие-то макароны, и потом всадил в густое варево пачку сосисок — мы усиленно стали переливать в себя галлон. Дело происходило за столом, который условно стоял в углу комнаты, сидели мы под настольной лампой. Говорим мы всегда о каких-то новостях и событиях, Александр приносит из газеты русско-эмигрантские сплетни. Часто никаких событий нет, тогда хуже. Очень редко я сбиваюсь на свою жену. Но очень редко, и если я что-то говорю о ней, то тотчас выправляюсь и перехожу на другой предмет.
— Зря ты её не убил,— сказал мне как-то Александр с простодушием и ясностью царя Соломона или Трибунала ВэЧеКа.— Душил, нужно было задушить. У меня хоть ребёнок, я свою убил бы, что хорошего для ребёнка, девочка одна осталась бы, а тебе нужно было Елену убить.
К маю, вы увидите, мы с ним оживимся, напишем несколько статей, которые никто не опубликует, устроим 27 мая демонстрацию против «Нью Йорк Таймз», интервью с нами опять напечатает лондонская «Таймз». Мы будем в мае пробовать и другие всякие варианты, рыть жизнь во всех направлениях, но тогда, в апреле, мы ещё часто просто рефлектировали и напивались. Он к тому же имел слабость спать со своей собственной женой, и тогда у него или ломался телефон, и я не мог к нему дозвониться, или он исчезал на субботу и воскресенье.
В тот вечер, наверное, было как обычно. Александр, очевидно, рассказал мне, что в газету пришло какое-нибудь письмо от какого-то диссидента, может, от Краснова-Левитина, может, хитрый Максимов прислал очередной свой призыв, направленный не столько против советской власти, сколько против западной левой интеллигенции, «оглохшей от пресыщения и праздности», или бородатый Солженицын удивил мир очередной глубокой мыслью по поводу мироустройства, или какой-нибудь человек предложил ещё что-нибудь отделить от СССР, какую-нибудь территорию. Эти имена наших «национальных героев» не сходили у нас с языка.
В своём желании уничтожить ненавистный галлон мы уже вели себя как рвущиеся к победе спортсмены. Я к тому же имел дурную привычку смешивать напитки. Для оживления, как я утверждал, я выпил ещё в промежутках между красным бургундским пару банок эля и несколько стаканчиков водки. Поэтому не удивительно, что время стало темным мешком, и что следующее озарение, открытие глаз, назовите как угодно, обнаружило меня и Александра в каком-то храме. Шла служба. Одного я не мог понять — синагога это или другой какой храм. Больше я склонялся к тому, что это синагога. Мы сидели на лавке, Александр почему-то все время улыбался, вид у него был очень радостный. Может, ему что-то только что подарили. Может, деньги.
Затем я обратился к себе. Продолжим наши игры. Я вынул из сапога свой любимый нож и воткнул его в пол, вернее, в доски — составляющие опору для ног — рядом целая семья верующих обменялась дикими взглядами. «Я никого не собираюсь резать, господа евреи, или католики, или протестанты, я просто люблю оружие без памяти и у меня нет своего храма, где бы я мог молиться Великому Ножу или Великому Револьверу. Нет, поэтому я молюсь ему здесь»,— так я подумал. Далее я включился в какой-то бред, несколько раз выдирал нож из доски и целовал его, опять втыкал его в подножье. Один раз я уронил Его Величество нож, и тот загремел на весь храм, потому что рукоятка была тяжёлая, металлическая у моего золингеновского немецкого друга. Кончилось это дело тем, что священник всем дал свою руку, даже глупо улыбающемуся Александру дал, а мне не дал. Я было обиделся, а потом забыл об обиде — справедливо решив, что не следует обижаться на священника неизвестной религии.
Опять была тёмная яма, и новое озарение наступило, обозначив улыбающиеся лица жриц любви, которые из особой склонности к нам, совершенно пьяным, но, я думаю, очень симпатичным очкастым личностям соглашались проделать с нами любовь за 5 долларов. Они были очень милые, эти девочки, неприятных Александр не остановил бы, и они не остановили бы его, они были светло-шоколадного цвета, их было две, они были куда красивее порядочных женщин. На 8-й авеню много красивых и даже трогательных проституток, на Лексингтон тоже много красивых, я когда там жил, всякий вечер с ними раскланивался.
Девочки лепетали что-то приятное и, обняв нас, тянули с собой. У них намётанный глаз, они точно и определённо знали, что у нас пять долларов на двоих и не больше, уж их не проведёшь. Конечно, главный их интерес — деньги, но они явно не чужды человеческих чувств. От них приятно пахло, ножки их были вызывающе длинны, девочки были куда лучше любой нормальной секретарши, или американской прыщавой студентки. Я ничего против них не имел, и почему я не пошёл тогда с ними, и отправил Александра наслаждаться одного, обещав его подождать, не знаю. Думаю, что уже поселилось во мне что-то, что заставляло меня думать: «Все женщины неприятны, проститутки куда лучше всех остальных женщин, в них почти нет лжи, они естественные женщины, и если не в дождь, не в плохую погоду, когда нет клиентов, они берутся с нами двумя делать любовь за пять долларов, то это уже явно их прихоть. Но все-таки я с ними не пойду».
Вдаваться в подробности я не хотел, но знал, что сегодня я с ними не пойду, как-нибудь в другой раз. Почему? Может, я боялся? Неправда, они были такие задушевные и свои, мне казалось, что до этого я учился с ними в одном классе. И в том моем апрельском состоянии я принципиально лишился инстинкта самосохранения, вообще никого и ничего в этом мире не боялся, потому что был готов умереть в любой момент. По-моему, я тогда несознательно, но все-таки искал смерти. Что ж мне было бояться двух красивых кошачьих созданий. Заманивали? Сутенёров боялся? Знаете, мне плевать, у меня ничего нет. Не в этом дело. Женщины для меня уже не существовали. Я был крепко пьян, почти бессознательно, но я отвергал их, тем более значит то, что произошло чуть позже в ту ночь, было неслучайно, мой организм хотел этого.
Я оставил Александра, он отправился с одной из девочек делать любовь, к ней, а я ушёл в тёмные провалы улиц Веста, куда-то в десятую и одиннадцатую авеню. Помню себя уходящего, как будто глазами постороннего смотрел себе в спину.
Следующий свет вспыхнул, когда я вошёл на территорию какого-то огороженного участка, как бы для детей. Тёмные углы всегда тянули меня. Помню, и в Москве я любил ходить в заколоченные дома, которых все боялись и где как будто жили бандиты. Прилично выпив, я вспоминал про такие дома, отправлялся к ним, и перебравшись через разбитые окна или двери внутрь, перешагивая через кучи окаменевшего дерьма и лужи мочи, ругаясь и напевая русские народные песни — обнаруживал внутри каких-нибудь несчастных личностей, алкоголиков или бродяг, с которыми познакомившись, заводил продолжительные и бестолковые беседы. Однажды меня в таком месте крепко двинули бутылкой по голове и забрали два рубля денег. Но привычка осталась.
Итак, я вошёл на территорию, где были качели и ещё какие-то аттракционы для детей, в середине сиял фонарь, а все углы были заманчиво тёмными. Я пошёл, конечно, в самую большую темноту. Пробираясь между железными балками, на которых покоился неизвестного назначения помост, я чертыхался и утопал в песке моими высокими каблуками. Зачем там был песок, до сих пор не понимаю. Или это была песочница, чтобы в ней играли дети. Но зачем тогда все эти железные балки? Или это была стоянка машин, и они во второй слой въезжали на помост. Не знаю. Это навсегда останется тайной, ибо недавно я пытался найти это место, но безуспешно. Может, там что-то построили, что невероятно в столь короткий срок, а, скорее, я перепутал улицы. Пойду туда ещё как-нибудь поищу, если найду, скажу.
Я по железной лесенке влез на деревянный помост — спустил ноги и сидел на краешке помоста болтая ногами. Хуля делать, ночь, я ждал приключений и поглядывал по сторонам. Было тихо, хотя откуда-то издалека доносились крики, топот, кто-то кого-то ловил, музыка, шарканье подошв. Я сидел и болтал ногами. Свободная личность в свободном мире. Можно было совершить все что угодно. Зарезать кого-нибудь, к примеру. Все было доступно и просто. Алкоголь выветривался. Свободной личности надоело сидеть на помосте. Она прыгнула вниз. Я прыгнул вниз, в песок.
И тут я увидел Криса. То есть я, конечно, только потом узнал, что его зовут Крис. Прислонившись к кирпичной стене, сидел чёрный парень. Широкая чёрная шляпа лежала рядом на песке. Потом я имел время её рассмотреть, она была украшена тёмно-зелёной лентой, расшитой золотыми нитками. Вообще как я потом увидел, он был одет в эти три цвета — чёрный, темно-зелёный и золотой. Эти цвета включала его жилетка, его брюки, туфли и рубашка. Но когда я спрыгнул и увидел его прямо перед собой — он предстал мне чёрным парнем, одетым в чёрное — таинственно и холодно сверкавшим мне навстречу глазами.
— Хай!— сказал я.
— Хай!— равнодушно ответил он.
— Меня зовут Эдвард,— сказал я, сделав пару шагов по направлению к нему.
Он издал какой-то ничего не значащий презрительный звук.
— У тебя ничего нет выпить?— спросил я его.
— Фак офф!— сказал он, что значит отъебись.
Я подумал — интересно, почему он тут сидит, на пьяного или наркомана он не похож, нет этой осовелости, спать если собрался здесь, так вроде на бродягу не похож. Может, скрывается от полиции? Я не из тех, кто кого-то выдаёт. Я бы ему ещё и помог спрятаться. Злой только он очень. Я посмотрел на него, и сделал несколько шагов по направлению к нему и присел рядом с ним. Он холодно наблюдал и не двигался. Я, сидя на корточках, заглянул ему в лицо.
Широкий хищный нос, глубоко уходящие ноздри, губы необычайные для чёрного — строгие и не пухлые, крепкая грудь. Здоровый парень, наверное, если встанет, будет на голову выше меня. Молодой, лет 25–30, не больше. Широкие штанины чёрных брюк лежат на песке.
— Слушай, как тебя зовут?— сказал я.
Тут уж он не выдержал, видно, я ему крепко надоел со своим разглядыванием и расспросами. Он молча и быстро бросился на меня. Прямо из своей сидячей позиции он метнулся и моментально скрутил меня, через мгновение я уже лежал под ним, и судя по всему он собирался меня придушить, и совсем, не слегка.
Я сразу отказался от борьбы с ним, у меня была слишком невыгодная позиция. Единственное, что я успел сделать когда он метнулся на меня, это подвернул правую руку под правое бедро и одновременно подогнул под себя правую ногу. Таким образом, подмятый им, я лежал на правом боку. Это была хорошая хитрость, потому что моя спрятанная кисть свободно проникала в сапог и схватилась за рукоять ножа. Если он имеет намерение придушить меня совсем — я зарежу его,— подумал я холодно. Он придавил меня всего, но правая рука могла свободно двигаться. Этого он не учёл.
Мне не было страшно. Честное слово, совершенно не страшно. Я же говорю, что имел тогда какой-то подсознательный инстинкт, тягу к смерти. Пуст сделался мир без любви, это только короткая формулировка, но за ней — слезы, униженное честолюбие, убогий отель, неудовлетворённый до головокружения секс, обида на Елену и весь мир, который только сейчас, честно и глумливо похохатывая, показал мне, до какой степени я ему не нужен, и был не нужен всегда, не пустые, но наполненные отчаянием и ужасом часы, страшные сны и страшные рассветы.
Этот парень душил меня, это было справедливо, потому что два месяца назад я душил Елену, ведь ничто не должно оставаться безнаказанным, он душил меня, а я не торопился со своим ножом. Может быть, я его и не вынул бы вовсе, или вынул, не знаю, но он внезапно ослабил руки, может, гнев его прошёл. Мы лежали, задыхаясь, он тоже задыхался от усилий, душить нелегко, я это знаю по себе, не так просто, как кажется.
Пахло сырым песком, шаркали подошвы за оградой, это по улице проходили одинокие ночные прохожие. Внезапно я высвободил свои руки и обхватил ими его спину.— Я хочу тебя,— сказал я ему,— давай делать любовь?
Я не навязывался ему, неправда, все произошло само собой. Я был невиновен, у меня встал хуй от этой возни и от тяжести его тела. Это не была тяжесть Раймоновой туши, природа тяжести этого парня была другая. Я сказал ему — «Давай делать любовь», но он и сам, наверное, понял, что я его хочу — мой хуй наверняка воткнулся в его живот, он не мог его не почувствовать. Он улыбнулся.
— Бэби,— сказал он.
— Дарлинг,— сказал я.
Я перевернулся, приподнялся и сел. Мы стали целоваться. Я думаю, мы были с ним одного возраста, или он был даже младше, но то что он был значительно крупнее и мужественнее меня как-то само собой распределило наши роли. Его поцелуи не были старческим слюнопусканием Раймона, теперь я понимал разницу. Крепкие поцелуи сильного парня, вероятно, преступника. Верхнюю губу его пересекал шрам. Я осторожно погладил его шрам пальцами. Он поймал губами и поцеловал мою руку, палец за пальцем, как я делал когда-то Елене. Я расстегнул ему рубашку и стал целовать его в грудь и в шею. Особенно я люблю обниматься как дети, закидывая руки далеко за шею, обнимая шею, а не плечи. Я обнимал его, от него пахло крепким одеколоном и каким-то острым алкоголем, а может быть, это был запах его молодого тела. Он доставлял мне удовольствие. Я ведь любил красивое и здоровое в этом мире. Он был красив, высок, силён и строен, и наверняка преступник. Это мне дополнительно нравилось. Непрерывно целуя его в грудь я спустился до того места, где расстёгнутая рубашка уходила в брюки, скрывалась под брючным поясом. Мои губы упёрлись в пряжку. Подбородок ощутил его напряжённый член под тонкой брючной материей. Я расстегнул ему зиппер, отвернул край трусиков и вынул член.
В России часто говорили о сексуальных преимуществах чёрных перед белыми. Легенды рассказывали о размерах их членов. И вот это легендарное орудие передо мной. Несмотря на самое искреннее желание любви с ним, любопытство моё тоже выскочило откуда-то из меня и глазело. «Ишь ты, чёрный совсем, или с оттенком»,— впрочем, не очень хорошо было видно, хотя я и привык к темноте. Член у него был большой. Но едва ли намного больше моего. Может, толще. Впрочем, это на глаз. Любопытство спряталось в меня. Вышло желание.
Психологически я был очень доволен тем, что со мной происходило. Впервые за несколько месяцев я был в ситуации, которая мне целиком и полностью нравилась. Я хотел его хуй в свой рот. Я чувствовал, что это доставит мне наслаждение, меня тянуло взять его хуй к себе в рот, и больше всего мне хотелось ощутить вкус его спермы, увидеть, как он дёргается, ощутить это, обнимая его тело. И я взял его хуй и первый раз обвёл языком напряжённую его головку. Крис вздрогнул.
Я думаю, я хорошо умею это делать, очень хорошо, потому что от природы своей человек я утончённый и не ленивый, к тому же я не гедонист, то есть не тот, кто ищет наслаждения только для себя, кончить во что бы то ни стало, добиться своего оргазма и все. Я хороший партнёр — я получаю наслаждение от стонов, криков и удовольствия другого или другой. Потому я занимался его членом безо всяких размышлений, всецело отдавшись чувству и повинуясь желанию. Левой рукой я, подобрав снизу, поглаживал его яйца. Он постанывал, откинувшись на руки, постанывал тихо, со всхлипом. Может быть, он произносил «О май Гат!»
Постепенно он очень раскачался и подыгрывал мне бёдрами, посылая свой хуй мне поглубже в горло. Он лежал чуть боком на песке, на локте правой руки, левой чуть поглаживая мою шею и волосы. Я скользил языком и губами по его члену, ловко выводя замысловатые узоры, чередуя лёгкие касания и глубокие почти заглатывания его члена. Один раз я едва не задохнулся. Но и этому я был рад.
Что происходило с мои членом? Я лежал животом и членом на песке, и при каждом моем движении тёр его о песок сквозь мои тонкие джинсы. Хуй мой отзывался на все происходящее сладостным зудением. Вряд ли я хотел в тот момент ещё чего-нибудь. Я был совершенно счастлив. Я имел отношения. Другой человек снизошёл до меня, и я имел отношения. Каким униженным и несчастным я был целых два месяца. И вот наконец. Я был ему страшно благодарен, мне хотелось, чтоб ему было очень хорошо, и я думаю, ему было очень хорошо. Я не только поместил его крепкий и толстый хуй у себя во рту, нет, эта любовь, которой мы занимались, эти действия символизировали гораздо большее — символизировали для меня жизнь, победу жизни, возврат к жизни. Я причащался его хуя, крепкий хуй парня с 8-й авеню и 42-й улицы, я почти не сомневаюсь, что преступника, был для меня орудие жизни, сама жизнь. И когда я добился его оргазма, когда этот фонтан вышвырнулся в меня, ко мне в рот, я был совершенно счастлив. Вы знаете вкус спермы? Это вкус живого. Я не знаю ничего более живого на вкус, чем сперма.
В упоении я вылизал всю сперму с его хуя и яиц, то, что пролилось, я подобрал, подлизал и поглотил. Я разыскал капельки спермы между его волос, мельчайшие я отыскал.
Я думаю, Крис был поражён, вряд ли он понимал, конечно, он не понимал, не мог понимать, что он для меня значит и его поражал энтузиазм, с каким я все это проделал. Он был мне благодарен, со всей нежностью, на какую он был способен, гладил мою шею и волосы, лицом я уткнулся в его пах, и лежал не двигаясь, так вот он гладил меня руками и бормотал «Май бэби, май бэби!»
Слушайте, есть мораль, есть в мире приличные люди, есть конторы и банки, есть постели, в них спят мужчины и женщины, тоже очень приличные. Все происходило и происходит в одно время. И были мы с Крисом, случайно встретившиеся здесь, в грязном песке, на пустыре огромного Великого города, Вавилона, ей-Богу, Вавилона, и вот мы лежали и он гладил мои волосы. Беспризорные дети мира.
Я никому не был нужен, больше чем за два месяца никто и рукой не прикасался ко мне, а тут он гладил меня и говорил: «Мой мальчик, мой мальчик!» Я чуть не плакал, несмотря на свой вечный гонор и иронию я был загнанное существо, вконец загнанное и усталое, и нужно мне было именно это — рука другого человека, гладящая меня по голове, ласкающая меня. Слезы собирались, собирались во мне и потекли. Его пах отдавал чем-то специфически мускусным, я плакал, глубже зарываясь лицом в тёплое месиво его яиц, волос и хуя. Я не думаю, чтоб он был сентиментальным существом, но он почувствовал, что я плачу, и спросил меня почему, насильно поднял моё лицо и стал вытирать его руками. Здоровенные были руки у Криса.
Ёбаная жизнь, которая делает нас зверями. Вот мы сошлись здесь в грязи и нам нечего было делить. Он обнял меня и стал успокаивать. Он делал все так, как я хотел, я этого не ожидал. Когда я волнуюсь, у меня поднимаются все волоски на теле, как бы мельчайшие уколы, сотни, тысячи мельчайших уколов поднимают мои волоски, мне становится холодно и я дрожу. Впервые за долгое время я не относился к себе с жалостью. Я обнимал его за шею, он обнимал меня, и я сказал ему: «Ай эм Эди. У меня никого нет. Ты будешь любить меня? Да? И мы всегда будем вместе? Да?»
Он сказал: «Да, бэби, да, успокойся».
Тогда я оторвался от него, нырнул правой рукой в сапог и вытащил мой нож. «Если ты изменишь мне,— с ещё не высохшими слезами на глазах сказал я ему,— я зарежу тебя!» По слабому знанию английского языка все это звучало очень тарабарски, такая сложная фраза, но он понял. Он сказал, что не изменит.
Я сказал ему: «Дарлинг!»
Он сказал: «Май бэби!»
— Мы будем всегда ходить с тобой вместе и не расставаться, да?— сказал я.
— Да, бэби, всегда вместе,— сказал он серьёзно.
Я не думаю, чтобы он врал. У него были свои дела, но я, охуевший от одиночества, ему подходил. Это не значило, что мы навеки соединялись в наших отношениях. Просто сейчас я был нужен ему, я мог бы с ним встречаться, он бы меня ждал в барах или просто на улицах, может быть, и наверняка я принял бы участие в каких-то его делах, возможно, криминальных. Мне было все равно, каких делах, я хотел этого — это была жизнь, я был нужен жизни, пусть такой, да какой угодно, но нужен. Он брал меня, я был совершенно счастлив, он брал меня. Мы разговаривали. Тогда-то я и узнал, что его зовут Крис. Он сказал, что утром мы пойдём к нему, туда, где он живёт, но ночь мы должны пересидеть здесь. Я не стал расспрашивать, почему, с меня было достаточно того, что он предложил мне жить у него. Я был как собака, опять нашедшая хозяина, я перегрыз бы сейчас за него глотку любому полицейскому или кому угодно.
Мы вполголоса беседовали на том же тарабарском языке. Иногда я забывался и начинал говорить по-русски. Он тихонько смеялся и я тут же научил его нескольким словам по-русски. Это не были с точки зрения порядочного человека хорошие слова, нет, это были плохие слова — хуй, любовь, и ещё что-то в том же духе.
Мне захотелось его среди этой беседы, я совсем распустился, я черт знает что начал творить. Я стащил с себя брюки, мне хотелось, чтоб он меня выебал. Я стащил с себя брюки, стащил сапоги. Трусы я приказал ему разорвать на мне, мне хотелось, чтоб он именно разорвал, и он послушно разорвал на мне мои красные трусики. Я отшвырнул их далеко в сторону.
В этот момент я действительно был женщиной, капризной, требовательной и наверное соблазнительной, потому что я помню себя игриво вихляющим своей попкой, упёршись руками в песок. Моя оттопыренная попка, которой оттопыренности завидовала даже Елена, она делала что-то помимо меня — она сладостно изгибалась, и помню, что её голость, белость и беззащитность доставляли мне величайшее удовольствие. Думаю, это были чисто женские ощущения. Я шептал ему: «Фак ми, фак ми, фак ми!»
Крис тяжело дышал. Думаю, я до крайности возбудил его. Я не знаю, что он сделал, возможно, он смочил свой хуй собственной слюной, но постепенно он входил в меня, его хуй. Это ощущение заполненности я не забуду никогда. Боль? Я с детства был любитель всевозможных диких ощущений. Ещё до женщин, мастурбирующим подростком, бледным онанистом, я придумал один самодельный способ — я вставлял в анальное отверстие всякие предметы, от карандаша до свечки, иногда довольно толстые предметы — этот двойной онанизм — хуя и через анальное отверстие был, помню, очень животным, очень сильным и глубоким. Так что его хуй в моей попке не испугал меня, и мне не было очень больно даже в первое мгновение. Очевидно, я расстянул свою дырочку давно. Но восхитительное чувство заполненности — это было ново.
Он ебал меня, и я начал стонать. Он ебал меня, а одной рукой ласкал мой член, я ныл, стонал, изгибался и стонал громче и сладостней. Наконец, он сказал мне: «Тише, бэби, кто-нибудь услышит!» Я ответил, что я ничего не боюсь, но подумав о нем, все же стал стонать и охать тише.
Я вёл себя сейчас в точности так же, как вела себя моя жена, когда я ебал её. Я поймал себя на этом ощущении, и мне подумалось: «Так вот какая она, так вот какие они!», и ликование прошло по моему телу. В последнем судорожном движении мы зарылись в песок и я раздавил свой оргазм в песке, одновременно ощущая горячее жжение внутри меня. Он кончил в меня. Мы в изнеможении валялись в песке. Хуй мой зарылся в песок, его приятно кололи песчинки, чуть ли не сразу он встал вновь.
Потом одевшись, мы устроились поудобнее чтобы спать. Он занял своё прежнее место у стены, а я устроился возле, положив голову ему на грудь, и обнявши его руками за шею — позу эту я очень люблю. Он обнял меня и мы уснули…
Я не знаю, сколько я спал, но я проснулся. Может, прошёл час, может, несколько минут. Было все так же темно. Он спал, дышал равномерно. Я проснулся и больше не мог заснуть. Я принюхивался к нему, разглядывал его и думал.
— Да, несомненно, я неисправим,— думал я. Если первая моя женщина была пьяной ялтинской проституткой, то мой первый мужчина, конечно же, должен был быть найден мною на пустыре. Ту девицу я отчётливо помню. Она подобрала меня летней ночью на автовокзале в Ялте. Ей понравился смазливый мальчишка, дремавший на лавке со своим другом. Она подошла ко мне, разбудила и нагло увела в скверик за автовокзалом, там она спокойно легла на лавку, была она под платьем совсем голая. Я помню солоноватый вкус её кожи, и ещё мокрые волосы — она только что искупалась в море, помню её поразившую меня очень развитую крупную пизду со многими складками, всю как бы текущую слизью, ведь ей хотелось мальчишку, она ебла меня не за деньги, а по желанию. Южные запахи, жирная южная ночь сопровождали мою первую любовь. Наутро мы с приятелем уехали из Ялты.
Судьба подсмеивается надо мной. Теперь я лежу с уличным парнем. Годы не внесли в меня существенных изменений. «Босяк, как есть босяк»,— подумал я с удовольствием о себе, и опять стал разглядывать Криса. Он пошевелился, как бы ощущая мой взгляд, но потом опять застыл во сне.
Косые блики света от ближнего фонаря кое-где пробивались сквозь железные переплетения помоста. Пахло бензином, я был спокоен и удовлетворён, к ощущению довольства и спокойствия примешивалось ощущение достигнутой цели.— Ну вот и стал настоящим педерастом,— подумал я и слегка хихикнул.— Не испугался, переступил кое в чем через самого себя, сумел, молодец, Эдька! И хотя в глубине души я знал, что я не совсем свободен в этой жизни, что до абсолютной свободы мне ещё довольно далеко, но все же шаг и какой огромный по этому пути был мною сделан.
Я ушёл от него в 5.20. Так показывали часы, которые я увидел, выбравшись на улицу. Я обманул его, ушёл тихо как вор, не разбудив его, соскользнув с его груди. Зачем я это сделал? Не знаю, может быть, я боялся дальнейшей жизни с ним, не сексуальных отношений, нет, может быть, я боялся чужой воли, чужого влияния, подчинения меня ему. Может быть. Неосознанное, но довольно сильное чувство двигало мной, когда я обманом вылез из его объятий, и озираясь на него, искал свои железные очки и ключ от номера в отеле. Раза два мне показалось, что он смотрит, но он спал. Я чудом разыскал в песке очки, тогда я ещё носил очки, но это меня мало портило, все равно я выглядел забубённой личностью, Эдичкой, охуевшим человеком. Я отыскал очки, кое-как выполз на улицу и зашагал прочь с каким-то странным, доселе незнакомым удовольствием, покидая Криса и наши будущие отношения, которые, возможно, были одним из вариантов моей судьбы.
Я шёл и отряхивался. В волосах у меня был песок, в ушах песок, в сапогах песок, везде был песок. Блядь возвращалась с ночных похождений. Я улыбался, мне хотелось крикнуть жизни: «Ну, кто следующий!» Я был свободен, зачем мне нужна была моя свобода я не знал, куда нужнее был мне тогда Крис, но я вопреки здравому смыслу уходил от него. Выйдя на Бродвей, я заколебался было, но всего мгновение, и снова решительно зашагал в сторону Иста.
Спустя пару недель я уже буду проклинать себя за то, что ушёл от него, мутная тишина и одиночество снова надвинутся на меня, снова будет мучить образ злодейки Елены, и уже в конце апреля будет у меня припадок, сильнейший, страшный, припадок ужаса и одиночества, но тогда, придя в отель, и спросив второй ключ, и поднявшись на свой этаж, и бросившись устало в постель, я был счастлив и доволен собой, так же как и на следующее утро, когда, проснувшись, лежал с улыбкой и думал о том, что, конечно, я единственный русский поэт, умудрившийся поебаться с чёрным парнем на Ньюйоркском пустыре. Блудливые воспоминания о Крисе, сжимавшем мою попку и его утихомиривающий мои стоны шёпот: «Тэйкит изи, бэби, тэйкит изи» — заставили меня радостно расхохотаться.
глава из романа «Это я — Эдичка» (1976 год)
Соня
Эдуард Лимонов
Меня редко куда-либо приглашают, а я так люблю общество. Как-то я явился на парти к единственному человеку, который ещё принимает меня, к фотографу и баламуту, я уже о нем упоминал, к мудиле гороховому, к мальчишке и фантазёру, все его мечты и мечты его друзей направлены на то, чтобы разбогатеть без особенного труда,— к Сашке Жигулину. Может, он сложнее, но эта характеристика тоже годна.
Он живёт в полутёмной большой студии на Исте 58-й улицы и из кожи вон лезет, чтобы удержаться в ней и платить свои 300 долларов в месяц, потому что сюда он может приглашать гостей и корчить из себя взрослого.
Пришёл я по глупой своей привычке, очень странной у русского человека, ровно в восемь часов, и, конечно, никого ещё не было, и я глупо слонялся в своей кружевной рубашке, белых брюках, бархатном лиловом пиджаке и белом великолепном жилете среди работающих, переставляющих, открывающих банки и бутылки, наклеивающих плакаты Сашкиных друзей и ничего не хотел делать. От скуки и равнодушия я ушёл — сходил за сигаретами, понаблюдал, как меркнет небо на улицах, повдыхал запах зелени, был май, недалеко был Централ-Парк и из него несло весенней погодой и волнением, и вернулся. Помощники ушли переодеваться, и был только Сашка, также скрывшийся вскоре в ванную комнату, и была нивесть откуда взявшаяся девушка маленького роста с пышными, типично еврейскими волосами и странно манерным разговором, какими-то затянутыми фразами или, наоборот, слишком быстро произнесёнными, казалось, что она плохая актриса, старательно и раздельно произносящая свою роль. Как потом оказалось, в своей Одессе она посещала-таки театральный кружок, и считалась очень талантливой. Меня всегда притягивали уродливые экземпляры. Так в мою жизнь вошла Соня.
Весь вечер мы провели вместе, я познакомил её с являвшимися поочерёдно моими друзьями и знакомыми. К числу последних относился и Жан-Пьер — художник, живущий в Сохо, первый любовник моей жены, и Сюзанна — её любовница. Сама легкокрылая Елена, мелькнув шляпкой, улетела тогда в Милан, мы все трое провожали её, и пребывала в Милане, блистая опереньем и сводя с ума итальянцев и итальянок, как я догадываюсь. Много ли нужно, чтобы свести с ума бедных простых рабочих людей — бизнесменов или художников.
Я был ещё в мутном состоянии и Соня была первая женщина, если её можно так назвать, вряд ли это справедливо по отношению к ней, как вы увидите; более точно: она была первая женского рода особь, с которой я нивесть зачем захотел сойтись. После Елены первая.
До этого были какие-то лунатические встречи в дыму выпитого алкоголя, какие-то невразумительные вечеринки, редкие парти, женщины из Австралии и женщины из Италии маячили, крутили лицами, что-то рассказывали о кенгуру и о современной живописи, отступали, исчезали, и, наконец, сливались с фоном, из которого на миг выступили, прошуршав платьями, снова уходили глубоко в хаос. Я почти всегда бывал пьян, откровенно враждебно к ним настроен, и к тому же слишком кокетлив, чтобы не казаться педерастом. Тело и душа, соединившись, на сей раз единодушные, жестоко оскорблённые Еленой, отвергали женщин, отталкивали их, и просыпался я неизменно один, и сомневаюсь, мог ли я тогда выебать женщину и вообще иметь с ней интимные отношения. И хотел ли я этого? Или считал, что «надо»? Не знаю. Соня меня не испугала. Она сама боялась всего.
Девушку из Одессы, чего она очень стеснялась, конечно же, шокировали представления, достаточно церемонные, которых она удостоилась в первый же вечер. «Это Жан, бывший любовник моей жены». «Это — Сюзанна — её любовница»,— пьяная, но хорошо пахнущая Сюзанна целует меня почти с родственными чувствами. Я не равнодушен, но Сюзанну жалею, а Жана презираю, это даёт мне силы относиться к ним спокойно. Да ещё я умею подыграть, подлить масла в огонь. Знакомя эту маленькую еврейскую мещаночку с «родственниками», я знаю, что по сути они мало чем отличаются от неё. И все же я наношу ей удар, даю урок испорченности, московской, и странности, тоже столичной, даю урок отношений между людьми куда более высокого полёта, чем отношения, с которыми она была знакома до сих пор. «Вот какие мы извращённые в нашей Москве были, и тут в Нью-Йорке есть», как бы говорю я.
Ну, что делать, я, конечно, участвую в примитивной игре, но раз она как-то интересует меня, эта еврейская провинциалочка, то я использую мелкие возможности обычного московского ещё обольщения.
Жан и Сюзанна — раз, значит, я испорченный человек, если я могу дружить с ними. Ненавязчиво, как бы между прочим говорю о своих публикациях в переводах в нескольких странах мира. Важный, значит, я человек. И третье — я рассказываю ей о своих связях с мужчинами. Шок, конечно, для неё, удар. Но ничего, переварит. Я ещё не встречал людей, которые бы отказывались от интересного, пусть оно и «дурное». И потому что на неё в этот вечер свалилось так много, она уходит очень рано, в одиннадцать часов, чего с ней больше никогда не было. Ей нужно думать, пусть едет и думает. Я провожаю её до автобуса, и говорю, что она мне нравится, одновременно замечая, что у неё очень некрасивая верхняя губа.
В этот вечер мне предстоит ещё вялая попытка к сближению с «родственницей» Сюзанной, первая и последняя. Я делаю это частью из озорства, а частью из сознания некоего морального права на неё. Пьяная Сюзанна весь вечер пристаёт к голубоглазой Жаннетте, тоже русской. Шансов у меня мало, но попробую. Мисс Гарсиа питает любовь к русским девушкам. Гарсиа такая же распространённая фамилия, как в России — Иванова. А Сюзанна по распространённости соответствует Людке. Людка Иванова.
Питает. Она обнимает Жанну, лезет к ней под юбку. Я и Кирилл, вы помните, он любовник Жаннетты, устраиваем шутовской танец педерастов, хотя ни он ни я не питаем друг к другу подобных чувств. Мне хочется помочь Кириллу и как-то рассеять образовавшуюся вокруг пары «девочек» неловкость. Кирилл хоть и дылда, но совсем ещё мальчик. Я вижу, что он растерян этими всенародными покушениями Сюзанны на его Жаннетту и не знает, что делать. Вышутить положение не удаётся. Он мог бы и заплакать. Жаннетта старше его, мне кажется, она испытывает удовольствие от прикосновений пьяной, но непреклонной мисс Гарсиа — Люды Ивановой.
Потом следует перепрыг в час-полтора. И никого уже нет, и я в квартире Сюзанны сижу на той самой кровати, где сделана фотография с голых, лежащих в обнимку и делающих, или только что сделавших любовь Сюзанны и Елены. Сделана, как я подразумеваю, голым Жаном. Он и Сюзанна вечно таскаются с фотоаппаратами. Сижу на этой кровати, жду, думаю, а в ванной неудержимо блюёт мисс Гарсиа. О Господи, что за невезение! И почему она так нажралась! Я считал, что символично было бы выебать Сюзанну на этой самой злополучной кровати. Позже входит она, бледная и искривлённая ещё мукой от спазматических движений желудка. Нелегко смотреть на неё — стареющее лицо, стёрта и расплылась краска — реснички, веки — все заляпано. Все пусто, и вечер кончен, и отгорели огни, и сбежала от неё Жаннетта, и мне её очень жалко. У меня хоть есть искусство, желание сделать из себя монумент, а что у неё — проходит её, хоть она и лесбиянка, все же бабье короткое удовольствие.
Она показывает мне — на стенке, под стеклом и в рамке — фотография Елены — её возлюбленной. Елена для неё свет в окне, она любовно повторяет всякий раз, что Елена крейзи, что она…
Конечно, если бы не культурный шок, если бы не слепота Елены, ни хуя не понимающей в новой жизни, в сословиях и группах людей, Сюзанне, честной труженице, блудящей по вечерам и уикэндам, хорошей примерной дочери, содержащей старую мать, никогда бы не видать редкой пташки с красивым оперением — Елены.
Но Сюзанну опять искривляет судорога блевотины. И я ухожу. Что ещё делать? Но она никогда уже не будет мне врагом. И я со стыдом вспоминаю, как когда-то в марте, ночью, пытался открыть дверь её дома и поджечь её. «Мерзкое гнездо!» — ругался я, дверь не открывалась. В тот вечер я сломал каблук. Отныне Сюзанна никогда не будет мне врагом, и будет неинтересна.
Соня… Второй раз мы встретились по телефонному звонку, и я пригласил её на день рождения моего друга Хачатуряна — художника и писателя-модерниста, человека с формальным умом, изобретателя ходов и техник, сейчас закопавшегося в неудержимые формальные поиски под покровительством и водительством злой мудрой маленькой жены, блестяще говорящей по-английски и работающей в фирме по изготовлению шарфиков. Мы прошли вместе длинный путь — они и я, они знали мою предыдущую жену, до Елены — Анну, даже их первая брачная ночь прошла на полу в нашей с Анной квартире. Мы часто ругаемся, они все больше не понимают меня, но это не мешает нам сохранять подобие дружбы. Мы друзья.
Короче, я и Соня приехали. Я взял заранее припасённую бутылку шампанского, советского, купленного за 10 долларов, ту самую, о которой визжала миссис Рогофф. Было с десяток гостей — всех их перечислять нет смысла, хотя каждый из них в какой-то мере входит в мою жизнь и её составляет. Соня говорила в тот вечер всякую хуйню — провинциальные глупости — я пропускал это мимо ушей, у меня было хорошее настроение, его, крепкое и прочное хорошее настроение, уже ничто не могло испортить. Я нравился себе, мне говорили комплименты, было много напитков, от общества я всегда оживляюсь, мне приятно. «Я мужчина публичный»,— как говаривал наш Пушкин. «Пушкин, Пушкин, тот самый Пушкин, который жил до меня», как написал Александр Введенский — поэт-модернист 30-х годов, гениальная личность родом из Харькова, как и я, сброшенный под колеса поезда. Так вот и я мужчина публичный.
Позже, по окончании веселья, уйдя от них, я предложил, или она, я уже не помню, но мы решили продолжить, пойти по кабакам и барам. Какие-то деньги у меня были, и мы пошли. Мы пили водку с поляком в баре на Исте, она старательно говорила с ним по-английски, в чем вовсе не было необходимости, так как было без слов ясно, личность он определённая, стареющий человечек, которому некуда деваться, вот он и сидит в третьем часу ночи в баре. Я из задиристости что-то ему запустил о Великой Польше до Киева. Он, как водится, разозлился. Меня это рассмешило.— Зачем ты его так?— спросила Соня.— Люблю оскорблять национальные чувства,— ответил я.
Около трёх часов ночи я совершил переодевание. У себя в отеле надел белый пиджак вместо лилового, и мы пошли на Вест на 8-ю авеню, которую я, слава Богу, люблю и изучил очень хорошо, и я показывал ей проституток-девочек, а потом стащил с неё трусы прямо на улице и стал её мастурбировать, сунув палец в её пизду — там было мокро и мягко, как у всех у них.
Удостоверился, за эти месяцы с ними ничего не произошло. «Это» у них по-прежнему на месте, а если закрыть глаза, то на ощупь это все равно что у Елены — так сказал я себе внутренне, продолжая водить пальцем по половым губам девушки из Одессы. Она глупо и манерно изгибалась, и даже когда я проник в неё глубже, она от испуга никак уж не могла кончить. Куда там. Ей это, наверное, казалось чем-то противоестественным. Убила же в Казахстане украинская женщина своего мужа латыша за то, что он на втором году замужества заставил её, наконец, взять его хуй в рот. Топором зарубила. А художника Чичерина жена, Марина, после многих лет жизни так и не позволила ему выебать её сзади, поставив на колени. Женщина, читавшая Тейяр де Шардена. Жена московского художника-авангардиста.
Мне очень хотелось, чтобы Соня кончила — в этой нелепой позе, со спущенными на самые лодыжки штанами и трусами, с темным комком растительности между ног, искажённая стеснением и непониманием — поэтому я стал целовать её туда. Вы знаете, что она сделала? Она умудрилась испортить все — она стала шептать и мелко быстро-быстро приговаривать — «Эдик, что ты делаешь, Эдик, что ты делаешь, Эдик, что ты делаешь?»
Я терпеть не могу, когда меня называют Эдиком. «Что я делаю, ничего плохого, хорошее тебе делаю, приятно тебе делаю…» — сказал я.
Она тупо стояла, откинувшись к стене, по-прежнему со спущенными штанами и трусами. Внезапно рассердившись, но скрывая это, я вздел на неё её тряпки и потащил её дальше.
Уже светало и я очень хотел есть. Но было около четырёх часов, все заведения на 8-й авеню только что закрылись. Наконец, после нескольких безуспешных попыток я постучался в один угловой ресторанчик и подмигнул чёрному парню. Откуда я научился так подмигивать, не знаю, но чёрный тотчас открыл двери и впустил нас. Я заказал нам по порции мяса с картофелем. Стоило на двоих это около 10 долларов…
— У тебя хватит денег, Эдик?— спросила Соня.
— Хватит, хватит, но не называй меня Эдиком, не люблю.
Я медленно начинал трезветь, нет, не то слово, я всю ночь и не был пьяным, туман вокруг меня начал рассеиваться, и я видел эту некрасивую, с усталыми и, если хотите, старыми в её 25 лет чертами лица, мещаночку без того тумана, который сам напустил. Вечное стеснение в сексе, о, многое было на этом жёлтом усталом утреннем лице. Все начинало злить меня. Какого черта я здесь сижу? Если она мне нужна как женщина, то почему я трачу время, ломаю комедию.
— Пойдём ко мне,— сказал я.
— Не могу,— сказала она,— я люблю Андрея.
Андрей был из тех парней, что помогали Сашке. Может быть, он учился на бухгалтера. Я не помню. Какое мне дело.
— Какое мне дело, кого ты любишь — Андрея или ещё кого. Я же сказал, что не посягаю на твою свободу — люби Андрея, но сейчас пойдём ко мне.
Она молчала и лопала своё мясо и картошку, хотя до того говорила, что не хочет есть. И тут врёт и стесняется. В конце концов это становится противно.
Чёрный парень принёс напитки. Он был очень симпатичный и улыбался мне — я ему явно нравился — полупьяный, в чёрной кружевной рубашке и белом изящном костюме, в жилете, с тёмной кожей, в туфлях на высоком каблуке. Их стиль. Марат Багров — злой еврей, сказал мне однажды с присущей ему бесцеремонностью: «Конечно они — чёрные и цветные — хорошо к тебе относятся — ты такой же как и они, и одеваешься так же, такой же вертлявый».
Парень поставил стаканы, и я, поглядывая на эту сжавшуюся дурочку, медленно погладил его руку. Он улыбнулся и ушёл.— Идём отсюда,— сказала она.— Идём!— сказал я, и мы пошли. Она боялась, что я пойду с ним ебаться. Может, туда, за стойку, может, в кухню, кто меня знает. Она боялась, явно.
Я отдал парню деньги и он проводил меня понимающей улыбкой. Ещё одной.
Мы плелись по 8-й авеню. Уже развозили газеты, и люди ранних профессий шествовали на работу, открылись некоторые кофе-шопы, девочек уже не было, ночные ушли спать, а дневным ещё было рано.
— Идём быстрее,— вдруг сказала она,— я хочу в туалет.
Если можете, постарайтесь никогда не видеть нелюбимых женщин в такие минуты. Нет ничего противнее и жальче, тем более стеснённых и сжатых,— и все это заливается безжалостным утренним светом. Это как сцена казни, погони и убийства на пустынных улицах. Можно снять такой фильм, где женщина бежит и на бегу испражняется, из неё течёт, фиксируем кинокамерой отпадающие от тела экскременты. Тоска и ужас. Хуже убийства.
Мы ещё довольно сносно на рысях пробежали всю 42-ю улицу между 8-й и Бродвеем. Но дальше она, скособочив лицо, неслась и тыкалась в каждую подворотню. В ней была невыносимость и страдание было, во всей её коротенькой, хотя и пропорциональной фигурке.— Она ни хуя не может, даже поссать или посрать,— подумал я со злостью. Откуда я знал, чего она точно хочет, разве она сказала бы?
Я уже не мог её направлять и контролировать. Она не хотела присесть в тёмном пустом коридоре собвея, куда я её заталкивал, она осатанела, грызла губы, выглядела загнанным зверем, только что не бросалась кусать меня.
Наконец, это было там, где моя голубушка Елена работала в своём первом американском агентстве — Бродвей 1457 — вы не удивляйтесь, вы думаете, я мог забыть этот адрес, эти адреса навеки въелись в меня — это было рядом — две, может три двери — я увидел открытую дверь, и хотя она отбивалась, я вошёл и втащил её, там было грязно, шёл ремонт.
— Давай здесь,— сказал я,— я постою, подожду за дверью,— и вышел.
Ух! Снаружи, оказывается, было свежее весеннее утро, в такое утро хорошо думать о будущем, подсчитывать свои шансы на удачу, а ты молодой и здоровый, или смотреть на спящих жену и детей. Рядом был какой-то фонтан, стекала вода, я смочил руки, шею и лицо…
Я уже довольно долго ожидал её, а она все не шла. Я стал думать, что с ней что-то случилось. Я начал понимать, что она за человек, и подумал, что к таким людям всегда липнут несчастья. Я уже несколько раз продефилировал от падающих вод до этой злополучной двери, но она не показывалась. Теряясь в догадках,— такая могла сделать все, что угодно,— я открыл дверь. Она стояла на лестнице, закрыв глаза руками. Я подошёл и сказал, не зло, впрочем:
— Идём, какого черта ты стоишь тут?
— Мне стыдно!— сказала она, не отрывая рук.
— Дура, идём,— сказал я.— Эх, дура, разве естественное может быть стыдным? Не нужно было только суетиться, могла сесть в собвее.
Она не шла. Я потянул её за руку. Она противилась. Я стал ругаться. На этот небольшой шум из глубины ремонтных принадлежностей и вещей, или из-за какой-то двери вышел человек. Обыкновенный американский человек, может, пятидесяти лет. Конечно, в клетчатых штанах.
— Вы знаете его?— обратился он к Соне, разумеется, по-английски.
— У нас все хорошо,— сказал я ему,— извините. Ей я сказал по-русски: — Дура, не устраивай скандала, идём ко мне, сейчас сюда сбежится пол-Бродвея.
Слава Богу, мы вышли. Мы шли по улицам круто на Ист, по той же 42-й. Я прекрасно мог сойти за сутенёра, а она за испанского происхождения проститутку, которые немного поскандалили, а потом помирились. Мы шли, и я временами обнимал её за талию, и думал, как мы все несчастны в этом мире, как глупо и противно устроен мир, сколько в нем лишнего. Я думал, что я не должен злиться, что это нехорошо, что я должен быть добр к людям, а я все время забываю об этом. «Ты должен жалеть их всех, ты должен нести им всем свою любовь, и отдохновение нести им, и не думать о Соне как о некрасивой еврейской женщине, играющей в девочку, нечего её презирать… Противный брезгливый эстет!» — ругал я сам себя и, в довершение всего, замысловато назвал себя мудилой гороховым и подонком, остановил Соню и как мог нежно поцеловал её в лоб. Тем не менее, заметив его морщинки. Ну, что ты будешь делать с собой. Тем временем мы свернули на Мэдисон и быстро-быстро приближались к отелю.
Ничего такого страшно особенного не произошло, кроме того, что я, конечно, её выебал. Это не был самый мой гигантский сексуальный подвиг — лёгкая победа над человеком ниже себя — гордиться нечем. К тому же, даже учитывая моё теперешнее отвращение к женщинам, я все-таки остался недоволен собой, у меня плохо стоял на неё хуй, и ею остался я недоволен в особенности — все в ней мне не подходило.
Меня злило, что она долго мылась и стиралась в моем душе — очевидно, она все-таки не донесла свои экскременты до места назначения, потому что она постирала и брюки, и колготки, и трусы.
Все происходящее было каким-то жалким, чего я не выношу. Первый раз в жизни мне было жаль себя. Она возилась в ванной, вернее, в душе, я лежал в кровати и злился сквозь дремоту. «Простые люди, еб вашу мать,— думал я,— все-то у вас через жопу. Моя Ленка и легко и просто уселась бы где придётся, смеялась бы до упаду, и ещё много раз возбудила бы меня своими мелькнувшими попкой и пипкой, и я может быть из баловства, играясь, подставил бы ладони под её струйку». Дальше я с удовольствием вспомнил, как показывал из кустов свой красный член весной, ещё мальчишкой, на кладбище, будущей жене Анне, и как она писала, отойдя в сторону, а потом мы еблись на тёплой кладбищенской плите, и медленно гасло небо.
А эта… но я вспомнил опять, что нужно любить, и Соню тоже, и прощать. Я простил ей все, и её возню со своими тряпками, но когда она легла, она ещё больше разочаровала меня, все больше и больше разочаровывала. На ней было слишком много волос. На голове они были уместны — прекрасные еврейские волосы. Но такие же были и под мышками, и такая же колючая проволока на лобке, и некоторые грубые волоски умудрились попасть на её очень крупные груди, к соскам.— Это уж ни к чему,— подумал я, пытаясь разогреть себя и её для этого дела.— И вы, Эдичка, кажется, к тому же и антисемит.
Я довольно быстро проник туда, хотя это не было ожидаемое горящее и влажное место. Не в такой степени, как мне хотелось. Когда я, перевалившись, лёг между её ног в обычной позиции, она тут же взвалила на меня свои ноги, что затрудняло мне какие бы то ни было движения. Мало того, она вела себя так, как по её мнению должна была себя вести горящая страстью женщина — она пыталась прижимать меня к себе как можно сильнее, отчего я был не в восторге, потому что это мешало мне делать любовь. Впервые я столкнулся с таким неумелым человеком…
— Соня, откройся, не сжимайся, бить буду!— прошипел я ей.
От неё не пахло никакими духами или даже мылом, запах её естественный не был неприятен, но я так любил духи, а её запах почему-то напоминал мне запах еврейских комнат, завешанных коврами, летом в Харькове, комнат, где мне приходилось бывать. Не хватало только пыльного луча света да ползающих мух. Кое-как я все-таки отцепил её от себя и стал ебать её более свободно. Но когда мой хуй по-настоящему встал и возбудился, и я стал сильно вонзать своё орудие в неё, она вдруг скорчилась от боли. Я не герой русского эпоса, Лука Мудищев, я обожаю любовь, но я и многое знаю о любви — она скорчилась не от размеров моего члена, он нормальный, но из-за какой-то болезни внутри этой дурочки…
— Ты кончил, я забыла тебе сказать, я ничего не принимаю, все говорят, из-за этих таблеток не будет детей,— прошептала она удручённо.
С чего она взяла, что я кончил?
— О, если бы я мог кончить,— сказал я ей,— это было бы счастьем для меня.
— Так ты не кончил?!— сказала она и стала целовать меня благодарно.
Боже! я опять обратил внимание на её верхнюю губу. «Не смей её презирать!— сказал мне кто-то на ухо,— ты должен любить всех кому плохо, всех закомплексованных и несчастных, всех…» Но что я мог поделать — я смотрел на её губу и видел точно такую же губу моего соседа Толика, мальчика, с которым мы вместе учились в одной школе. Бедняжка, он был горбатенький и недоразвитый, отец его был алкоголик. «Прекрати, сволочь!— сказал голос,— как тебе не стыдно, ты сам грязь, а она добрая и хорошая!»
Действительно, она была доброй. Впоследствии она часто покупала мне вино и водку, водила в кино и театры, если бы я попросил её, она отдала бы мне все деньги, я думаю. Это было хорошо, но для постели она была мало пригодна.
Я возился с ней долго. Наконец, путём всяких манипуляций мне удалось, выпрыгнув из неё, заляпать своей спермой отельную простынь. Убогое удовольствие,— отметил я с тоской. Она отчаянно хотела спать, но я не давал ей спать — мне хотелось увидеть, как же она кончает. Очевидно, тоже с дурацкой гримасой. Это уже превратилось в спорт. Я возился с ней до тех пор, пока не спросил ядовито:
— Соня, скажи, ты когда-нибудь кончала в своей жизни?
— Один раз,— ответила честная Соня.
— Я куплю тебе искусственный член, и буду ебать им тебя до тех пор, пока ты не будешь падать с постели, пока ты не станешь кончать много раз: пока от животного раздражения оргазм не станет наплывать на оргазм. Я это сделаю. А ты должна понять, что тебе это нужно. И тебе нужно много ебаться. Со всякими мужчинами, с любыми, не только со мной. Иначе ты никогда не будешь женщиной…
Я не сдержал своего обещания, хотя уверен, что сдержи я его, я сделал бы из неё человека. Я не купил ей искусственный член, я потерял к ней всякий интерес очень быстро. Причины тут классовые, это, возможно, удивительно, но это так. Она оказалась неисправимой плебейкой, уж этого я не мог ей простить. Ей нравилось быть в жизни дерьмом, навозом, у неё не было обольщений и надежд. Она ненавидела все высшие проявления человека — ненавидела великих людей в истории, саму историю, ненавидела ненавистью муравья. Может, это была её самозащита против меня, я легко мог бы её подавить, но зачем это было мне?
Тогда она уснула, а я едва спал полчаса, я хотел ебаться, даже с ней, позднее же она меня не возбуждала совершенно. Однажды я до того не хотел ебать её, что стал жаловаться на боль в хуе, и сказал, что мне кажется, будто бы у меня какая-то венерическая болезнь. Было это через день после той ночи, которую я провёл с Джонни, черным парнем с 8-й авеню, до сих пор вспоминаю его круглую попку и прекрасную фигуру, оказавшуюся под мешковатой одеждой уличного парня-бродяги, завсегдатая тёмных переулков. Доля истины в болящем хуе была, я думаю, Джонни перестарался, отсасывая мой хуй, может, он чуть переусердствовал зубами. О Джонни речь в другом месте, ей я сказал, что не могу брать на себя такую ответственность и делать с ней любовь, не сходив предварительно к доктору. Она, слава Богу, ушла, а я в тот вечер мечтательно промастурбировал на какую-то цветочно-небесную тему.
Когда я делал с ней любовь впредь, её по-прежнему нельзя было ебать глубоко, она требовала, представьте, требовала, чтобы я целовал её в шею, её как будто бы это возбуждало. Я что-то не заметил, правда. Вообще все у нас получалось хуевейше,— она оставалась корягой, не была мягкой.— Будь мягкой,— требовал я. Наконец, мне это крепко надоело и однажды, оставшись с ней ночевать у Александра, я, не слушая никаких её заявлений о боли и ни о чем другом, грубо и жутко выебал её пальцами, расширив до невероятных размеров её пизду — почти проходила внутрь моя кисть — и она кончила — да ещё как!
Пойдя по этой дороге, я бы сделал из неё удобный объект, но я же говорю — её плебейство убило меня наповал. Закончил я с ней в день её рождения. Она под конец оказалась беременной от Андрея, она ведь еблась с ним до меня — бедный парень. Беременности она очень радовалась, хотя и собиралась делать аборт. «Значит, я могу!— горделиво говорила она,— могу иметь ребенка». Я цинично замечал, что, мол, после аборта уже не сможешь.
Несколько раз она все-таки чисто по-человечески косвенно доставила мне удовольствие. Один раз это было, когда я устал, наконец, от своих ночных прогулок на Весте. Накануне я перекурил и целый день пролежал в Централ-парке в пруду, погруженный в воду по пояс. Ко мне несколько раз подходила полиция удостовериться, что я жив. Узнав, что жив, они шли дальше. А я только к вечеру нашёл в себе силы подняться и пойти в отель. Так вот, когда я лежал наутро в номере, как заключённый, и мечтал поесть — она позвонила мне и пригласила к родителям, где тогда жила, и куда всякий вечер ездила, и ездила ночью от меня через весь город, хотя вставать ей нужно было едва ли не в семь часов. Работала она тогда в какой-то фирме, я не очень интересовался, в какой. В конце концов её как-то ограбили, вырвал у неё чёрный парень сумку. С того времени она стала плохо относиться ко всем черным.
Помню, мы как-то ехали в автобусе, кусок его маршрута лежал через Гарлем. Несколько пожарных колонок были открыты — вода с шумом лилась по мостовым, прыгали вокруг весёлые и полуголые дети.
— Вот полюбуйся, что делают твои обожаемые чёрные,— сказала она.— Дикари! Им наплевать, что очищение воды стоит больших денег, им на все наплевать, они только потребляют то, что создали белые, они не хотят работать!
— Да ты расистка,— сказал я…
— А ты не расист, левый. Посмотрела бы я на тебя, если бы тебя ограбили, что бы ты тогда сказал. У меня до сих пор болит колено…
— А зачем ты держалась за эту сумку, отдала бы да и все. Потом он мог бы быть и белым. Кстати сказать, если 50% всех грабителей, действительно, чёрные, то 55% ограбленных тоже чёрные. Ты же знаешь. Соня, что я шляюсь ночью где угодно, у меня ничего нет, даже доллара, я хожу пешком, так нет и собвейного жетона. А если бы меня даже ограбили чёрные, я не стал бы выть и переносить свою ненависть с кучки грабителей на целую расу. Идиотизм!
— Это все теория,— сказала она,— когда отнимут деньги, которые ты заработал, не так заговоришь,— злилась она.
— После окончания предвыборного собрания «Рабочей партии», которое происходило в Бруклине, я с группой товарищей садился в автобус. Этот тёмный и глухой район, где состоялось собрание, в основном, населён чёрными. Пока мы садились, со скамеек в тени деревьев, где сидели местные хулиганы, чёрные хулиганы, раздавались угрозы и ругань. А потом они стали бросать в нас бутылки. Я садился последним. Бутылка ударилась об автобус рядом с моей головой. Что прикажете делать, Соня? Носить в себе ненависть ко всем черным? Те парни ни хуя в мире не понимают, сидя там на своих скамейках. Я сам был в их шкуре, и хулиганом и бандитом был — знаю психологию этих людей. Они не виноваты, что они такие…
— И на работе они что хотят вытворяют,— продолжала она накаляясь,— попробуй белый опоздать — один раз опоздает, другой, потом с работы вылетит. А чёрному хоть бы что — его боятся трогать, он может в расовой дискриминации обвинить. Житья от них нет…
— Ты возмущалась антисемитизмом в России, как ты можешь говорить такие отвратительные вещи,— сказал я.— И не одна ты, это ужасно. Ты же знаешь, что, в основном, руками их прадедов, дедов и отцов построена Америка. Они имеют не меньшее право на все здесь, чем белые. Они только последние 15 лет что-то получили. Ты думаешь, они счастливы здесь в своём Гарлеме? Многих из них больше устроил бы Ист-Сайд, но у них нет денег, чтобы жить там… Вообще прекрати пиздеть — ни хуя не понимаешь, говоришь как обыватель. Постыдилась бы …
Это только одна из наших стычек, и одна из граней её мировоззрения.
Да, я хотел рассказать о полученном от неё удовольствии. Я приехал очень запоздав, едва нашёл эту окраину — зелёную и тихую. Я был введён в квартиру, которая и отдалённо не была похожа на американскую. За мной закрылись двери, и я оказался в Одессе. Она подавала мне жареную курицу, салат из огурцов и помидоров, бульон — южно-украинский типичный обед. В Харькове тоже так ели.
Мама её была похожа на маму Юры Комиссарова, или другого моего провинциального друга, отец в пижаме изредка выныривал в коридор — он вставлял купленный недавно кондишен, отец был похож на провинциального еврейского отца, такими были отцы всех моих друзей. Наверняка он ходил в квартире в больших трусах, пижаму его заставили надеть жена и дочка ради прихода дочкиного гостя. Может, он был бухгалтер, как Андрей. Мама заботливо подавала фрукты — то персики, то арбуз. Я вежливо и солидно отказался от водки и вина.
Позже её родители отправились к больной тёте в госпиталь, а я пошёл и лёг на диван — отдыхать так отдыхать. Провинция, так нужно, как говорили на Украине,— завязать жир. Один раз можно повыебываться и побыть не в своей тарелке. Соня поставила мне пластинку каких-то одесских остряков — учеников Райкина, я не знал их фамилий — чему Соня простодушно удивилась.— Да, не знаю,— говорил я,— увы. Остряки были скушные и рассчитаны были на людей, работающих в советских научно-исследовательских учреждениях и институтах. Но я слушал их и не злился. Один день в Одессе. Ничего, потерпим. Только здесь, в Америке, я воочию убедился в огромной дистанции, разделяющей Москву и русскую провинцию.
— Может быть, пойдём погуляем в парк,— сказала она,— там есть замок, его привезли из Европы на пароходах, разобрав по кирпичику, и здесь собрали.
— Пойдём,— сказал я,— здесь все из Европы привезли.
Мы пошли, и мне было тихо и спокойно. Темнело, в парк почему-то нужно было подниматься лифтом. Поднялись. Шли по пустым аллеям, почти не говоря. Я был благодарен ей за то, что она молчит. И мы в молчании пришли к этому замку и сели на скамеечку.
Дело было не в замке — он был куда менее интересен, чем, например, замок Фра-Дьяволо, который я видел в Итри, в Италии. Так себе, скушный американский замок. Не верилось, что его привезли из Европы. Наверное, подлог.
Но отовсюду пахло свежим лесом и океаном, было очень хорошо. Тихая просторная минута. Если б я ещё был в неё хотя бы немножко влюблён, я был бы совершенно счастлив. Но и так это было моё первое тихое вечернее состояние. Я как бы бежал не глядя, бежал, устал, остановился, задумался, и мир предстал мягким, ласковым, все прощающим, все смывающим вечным миром.
— Спасибо тебе, Соня,— тихо и искренне сказал я ей.
Потом мы ехали в Сити ко мне в автобусе, который продувался ветром и старенький подгулявший чёрный дядька менял мне доллар, и Соня меня не раздражала… И ебал я её в тот вечер с благодарностью, даже старался.
В другой раз мы шлялись с ней в Вилледже — она кормила меня осьминогом на Сюлливан-стрит. Был итальянский праздник, в церковь ехали невеста и жених, отчего у меня слегка кольнуло под сердцем, я вспомнил своё венчание, толпы друзей и заторопился отойти от церкви. Маленькая Соня щёлкала фотоаппаратом, снимала меня во всех видах. Я, пожалуй, мог бы сделать её рабой, стоило мне заикнуться, что я ненавижу на женщинах брюки и люблю платья, назавтра она пришла в новом, специально купленном платье. Пожалуй, я мог сделать её рабой, но я сам искал рабства, рабыни мне были не нужны.
Как-то она повела меня в кинотеатр на Блейкер-стрит смотреть французские новые фильмы. Один фильм мне безумно понравился, о парне-убийце, которому поручают убить бывшую модель, а он в неё влюбляется, хотя он и гомосексуал. Она, Соня, вздыхала, ей, по-видимому, было неинтересно, а я очень переживал, я восторгался парнем, который впервые поверил женщине, а женщина хотела быть равнодушно одна. Я видел в этом фильме схожесть с моей судьбой, я тоже любил и хотел быть любимым, я не хотел жить один, только для себя, и вот получил — меня выбросили из жизни, женщина меня не хотела.
После этого фильма я изменил причёску — лоб мой закрывает теперь чёлка. Она же скучала в кинозале, какой бы фильм она смотрела с удовольствием — не знаю. Может быть, её возмущало искусство вообще? Она была обыватель, отличала её от обывателя только сексуальная неполноценность.
Я говорю была, потому что после её дня рождения в ресторанчике в Вилледже, продолженном уже в меньшем составе в Чайна-тауне, и закончившимся спором и руганью в собвее на темы политические и национальные, включая Че Гевару и еврейский вопрос, я с ней больше не встречался. Под конец я даже не смог выполнить своего обещания дать ей возможность полежать после аборта в моем номере в «Винслоу» — в тот день я, негодяй, был у Розанны.
Тогда как раз только появилась в моей жизни Розанна — следующий этап — первая американская женщина, которую я выебал. С Соней я больше не встречался, да. Только один раз, выходя от своей бывшей жены,— Елена уже поселилась у Жигулина, и я что-то приносил ей по её требованию,— я мимоходом видел мою жидовочку, наверняка подслушивала, и быстро смылась. Я и не подумал идти за ней, и свернул в другую сторону.
1982 г.
глава из романа «Это я — Эдичка» (1976 год)