В конце 60-х в Москве… появился этот замечательный, подобный Жюльену Сорелю или Растиньяку молодой человек, харьковчанин, поэт, решивший завоевать Москву.
Стихи были свежи, раскованны, «обэриутны»… Мы коротко сошлись, как писали в XIX веке. Надо было выяснить позиции друг друга, и, шагая по Москве, мы решили, что наш идеал в поэзии — Катулл и что столица похожа на Рим времён упадка.
Совершенно сам по себе, безумного честолюбия, поэт жаждал признания столичной богемы. Лимонов был беден и неприхотлив, но любил пофрантить. Поэт шил брюки знакомым и стал довольно широко известен, как говорится, в узких кругах. Кроме того, он печатал на машинке книжки своих стихов, переплетал их и продавал по 5–10 рублей. У меня сохранилась одна такая книжка. Переплёт из простого упаковочного картона, бумага серая, грубо скреплённая. Всё в духе времени. Вообще у Лимонова всегда было чувство времени.
Генрих Сапгир,
поэт, прозаик
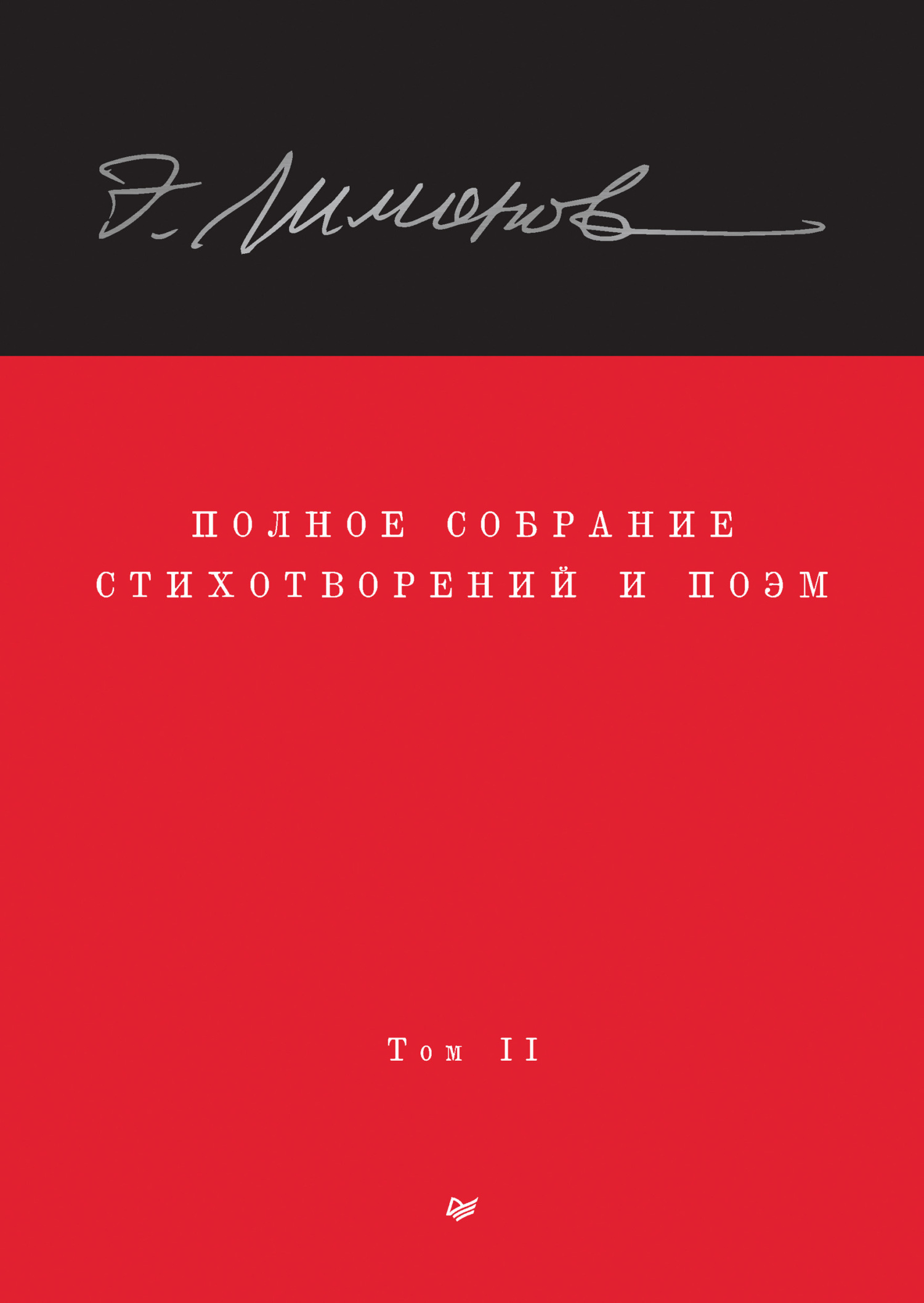
Эдуард Лимонов
Полное собрание стихотворений и поэм
Том II (IV)
составители: Захар Прилепин, Алексей Колобродов, Олег Демидов
// Санкт-Петербург: «Питер», 2023,
твёрдый переплёт, 494 стр.,
тираж: 1.000 экз.,
ISBN: 978-5-00116-894-2,
ISBN: 978-5-00116-824-9,
размеры: 240⨉175⨉30 мм
Эдуард Вениаминович Лимонов известен как прозаик, социальный философ, политик. Но начинал Лимонов как поэт. Именно так он представлял себя в самом знаменитом своём романе «Это я, Эдичка»: «Я — русский поэт».
О поэзии Лимонова оставили самые высокие отзывы такие специалисты, как Александр Жолковский и Иосиф Бродский.
Поэтический голос Лимонова уникален, а вклад в историю национальной и мировой словесности ещё будет осмысливаться.
Вернувшийся к сочинению стихов в последние два десятилетия своей жизни, Лимонов оставил огромное поэтическое наследие. До сих пор даже не предпринимались попытки собрать и классифицировать его.
Помимо прижизненных книг здесь собраны неподцензурные самиздатовские сборники, стихотворения из отдельных рукописей и машинописей, прочие плоды архивных разысканий, начатых ещё при жизни Лимонова и законченных только сейчас.
Более двухсот образцов малой и крупной поэтической формы будет опубликовано в составе данного собрания впервые.
Читателю предстоит уникальная возможность уже после ухода автора ознакомиться с неизвестными сочинениями безусловного классика.
Собрание сопровождено полновесными культурологическими комментариями.
Публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.


Стихотворения из амбарной книги «Микеланджело»
(1958–1964)
* * *
Жёлтые ракушки
Обломки перламутра
Обломки судьбы индейцев
Нырявших с замеленных шхун…
Свидетели схваток с акулами
А часто вы падали вниз
В струе воды несомой
Акульими плавниками
И белым поджарым брюхом
И снизу был виден киль
Стоящего тихо судна
Вились какие-то стебли…
И плавали рыбы
И были индейцы
Заранее обречены
На эту прозрачную воду
На эту тоскливую воду
На тихое злое купание
В тихой и злой воде
Вокруг берега поднимались
И ехали мутные люди
С такой же нелепой судьбой
Добыть неживые богатства
Купить голубые владенья
Отстроить приёмные залы
Кутить и стареть и пить…
И видеть линии тела
Животные белые формы
У купленных тихих красоток…
* * *
Всё что окружает — из грязи
И только раскидистый тополь
В окно моё молча вплывает
И тянет за ру́ку меня
Пойдём там имеются травы
Бриллианты ещё не потухли
На тёмной туманной траве
Которая пахнет оврагом
И Блоком и прошлым веком
И берегом дальним, с которого
Махнёт мне прощально рука
Останься один и подставь
Усталые плечи под ливень
Срываемых ветром
Белых яблоневых лепестков
И вспомни то место где были
Твои тоскливые встречи
И там последняя встреча…
Она уходила грустя
Ты думал что будешь нужным
Что будешь с людьми и с миром
И верил потом через годы
Как тонкая грусть придёт
Но вот кончились годы
И ты на том же месте
И ничего не сделал
Остались чужими люди
И зябко тебе в доме…
И только всё так же молча
Пахнут и падают на плечи
Яблоневые белые вечные лепестки
Туманное время исчезло…
За грусть твоей памяти чуткой
За поступь шагов несмышлёных
По длинным скучным бульварам —
Ты дорого заплатил
Пожалуй не стоит платы
Платы шагов из воска
Платы тряпичных слов
* * *
Наклонялись ночи белыми слезами
И одиноким молчаньем
И углубленьем в себе…
Будущего не знали мы сами
Прошлого не отстояли
А к сердцу человечьему
На пять шагов
И вслушивайся, вслушайся
Куда они зовут…
И молча, молча стояли
А может это только для меня
Но ты наполнялась слезами
Невысказанными словами
Казалось что была ты нужной
Исчезнешь — и мир погиб
Исчезнешь — и нет асфальта
Политого водой…
Да, конечно, только для меня
* * *
Цветы… Ваза… Чашка…
— Это называется натюрморт…
Художник зачем-то
Взял эти предметы
Поставил на свой правильно
Освещённый небом стол
И нарисовал…
Их углём на полотне…
Цветы ваза и чаша
Скажите мне
Вам тоже тяжко…
Переживать эту ночь при луне…
Мучительно медленно с сознанием долга
Сжигая себя для других
Выходит луна
Чтоб я различил дорогу
И тонкость пальцев твоих
Ты не думала…
Она ведь устраивает наше счастье
Наше маленькое своё счастье
И не ищет участья
За самосожжение…
А мы заглядываем друг другу в лицо…
Зацеловывая друг друга…
Сумеем мы от всего отрешиться
Сумеем сгореть для другого
Потому что так нужно…
Нет… Ты отойдёшь, ты спрячешься
Когда будет нужно горение
Скажешь мы не знакомы
А если знакомы, то немножко
Уходи к художнику
Который нарисовал углём
Цветы вазу и чашку
Я остаюсь с луной…
* * *
Надо ли жалеть луну
Что зазря она сгорает
До всех прикованных ко сну
Напрасно руки простирает…
А мог бы я гореть вот так
Без разговора, долг свой зная
Чтобы светить тебе во мрак
Твою дорогу освещая…
А мог бы я немым огнём
Уйти чтобы другие жили
* * *
Из обычных человечьих предметов
Так сказать ширпотребных обиходных
Можно сделать предмет-поклоненье
И воздвигнуть религию мира…
Вот вам Солнце… Губящее Солнце…
Палящее Солнце… придающее телу загар
А когда-то ему воздвигали
Храмы, статуи и дворцы
Руки к диску его простирали
Полководцы и мудрецы…
Лоб Сократа оно опаляло…
А теперь наши узкие лбы
На щите Александра играло
И в бокале с цикутой возможно играло
На воротах и в окнах тюрьмы
Его видят в последний раз
За решёткой тревожной камеры
Оно падает на дырявый матрац
Тяжко, как будто каменное,
Или рассвет, когда ты прозрел
После своей слепоты
Диск Солнца оранжев,
Диск Солнца бел…
* * *
Я мучительный солдат
Среди вековых осин
Вижу тихий листопад
И качание вершин
Никуда я не иду…
И глазами в небо впал
Кто-то белую звезду
Миражом моим назвал
И действительно мираж…
Искривление глазниц…
Отражается пейзаж
От окопов и гробниц
От лиловых мёртвых тел…
От оград и от домов…
* * *
Приходим в мир объятые тревогой
И сразу же вопросы — жизнь и смерть
И сразу же хотение от Бога
Или от чёрта…
Чтобы он помог…
И посодействовал и подтолкнул
Где надо руку провидения слепого
И я бы чудом мир перевернул
* * *
Я умру для всех и только сам
Буду сумасшедшим и героем
Прислушиваясь к птичьим голосам
Стану тонко думать, что нас двое…
Тихий шёпот вдаль ушёл
И смеётся что-то и смеётся
Никакого счастья не нашёл
И нигде оно не продаётся
Только я в пустынный край пойду
Лягу и умру у берега
По голубому выцветшему льду
Открывали нищие Америку
Путь пустой и путь смешной
Где-то далеко огни расходятся
Над своей неузнанной судьбой…
Пьяные истерикой исходятся
* * *
Ведь главное не то — была ли
моею или не была
Лишь только б пели после в доме
лиловые колокола
И в будущее медленно вплывая
За мной протянется вослед
Твоя улыбка молодая
Когда тебя на свете нет
* * *
Я наряжу своих героев
В самые яркие ткани
Жёлтые алые туманные
Я одену яхты в голубые паруса
И обступят зыбистые моря
Будут переливаться
И берега коричнево-песчаные
Над морем станут наклоняться
Сползу с обрыва и захочется
Мне самому под гальки хруст
Сменить тоску и одиночество
Истерикой поющих чувств…
Чтобы в глазах качались
Растенья пели длинные
И медленно моря звенели
На камни древние кидаясь
И пена бы лизала плиты
А где-то жизнь моя цвела
Звучат тревожно над гранитом
Туманные колокола…
Я наряжу моих героев
Отправлю их на кораблях…
И посажу в прибрежных кабачках
Медлительно осмысливать разлуку
Буфетчик в белом… белые глаза
А скоро ты как тонкая лоза
Сорвёшься со стены испытывая муки…
* * *
Мы на берег возвышенный приходим
Чтобы глядеть как кто-то отплывает
Пока маяк от нас не загородит
Дымящий монотонно пароход
Пока бревном не скроются
Сперва бревном, потом холодной спичкой
А после точкой, чёрной и чужой
И рот короткий твой
И вот уже во власти океана
Захочет сохранит…
И высадит туда, где берег гладкий
Где нет ни скал, ни камня, ни меня
* * *
В моём мире будет тепло
И наполнено всё чудесами
И не сохранится ожидания
Никто не будет ждать
А если надо, сделает,
Руки в карманы заложив,
И возьмёт эту женщину белую
Или на ночь её одолжит…
Вот тогда и я изменюсь
И подчёркнуто буду сухим
Как сухая трава под тобой
На которой мы вместе лежим
* * *
С виду я безразличный
И пройду не задев плечом
И пройду не ощупав взглядом
Не сказав ни о чём…
Но я всегда обкусываю ногти
Ногти на длинных пальцах
Которым тебе предстояло касаться
Да видно не повезло
И теперь они держат рюмку
Или тянут других за руку
Или медленно ощупывают
Как у женщин в груди тепло…
Я очень безразличен…
Почти не затронут миром
Лишь говорю с другом
Лишь бледен и очень тих
Где-то лежит за югом
Кольцо изумлений твоих…
Теперь я когда всё брошено
Когда понял что лучше тебе не будет…
Только хожу и смеюсь над хорошими
И стараюсь напакостить людям
* * *
Я могу медленно медленно
Тихий спокойный мальчик
Руку правую высвободив
Ударить вас в спину ножом
И одурев от водки выйти
Через коричневый коридор
На вечернюю площадь
Обнять тебя за белую шею
И рассказать что паршиво
Жить неудачником в мире
Что я на всё глазею
Не принимая участия…
Не смеясь и не плача в ответ
На события жалкие драмы
Я давно уже вышел на сцену
И игра меня утомила
И градом льёт пот из-под маски…
Я убью и твои золотистые руки
Тронутые солнцем и выласканные другим
Станут они чем-то устало далёким
И беспамятно дорогим…
Ведь теперь когда их обнимают
Я легко и тревожно вдыхаю
Запах лета… и тонкая грусть
Только то и сто́ит на свете
Нашей жалости наших тревог
Кто любил нас как малые дети берег
А сейчас в этой чёртовой сфере
Я вращаюсь лишний и злой…
О беловолосой красавицей
Красавицей ледяной
* * *
Когда кончатся все жёлтые дома…
И потянутся белые дома…
Кончатся бледные лица
И начнутся коричневые лица
То у меня уже не хватит сил
Дальше идти…
Тогда пускай идёт другой
Между белыми домами и коричневыми людьми
И повстречается с пеной морской
Кожей лица и грудьми…
И вонзит острый корабль
Как щепку в щёку волны
Поедет отгадывать сны…
Будет время от времени
Руки опускать в воду
И набирать её пригоршнями
И подносить к лицу
Пусть это не я…
Когда-то ушедший
Пью и выплёвываю
И тону…
* * *
Что я, что?
Я только чёрный зонт
Всем чужая чёрная спина
В час когда далёкий горизонт
Загородит мокрая стена
Я сырой и я хочу тепла
Где-то основательно осесть
В тусклые слепые зеркала
Заглянуть а ну-ка что там есть
Там сидим — приборы и проборы
Как когда-то как давным-давно
И переживаем коридоры
Улицу ещё переживаем
Где совсем темно…
Где другие бледные и бедные
Капли растворяют на одежде
Люди все живут с своими бедами
С настоящими и прежними
Мы комнатные люди
Мы уличные люди…
Жалеем а не любим…
И недовольно про себя молчим…
Проводит быстрый ветер
По волосам руками…
Их спутает и бросит и уйдёт…
* * *
Я белый обыкновенный малый…
С пустой отвлечённой душой
Бредущий в ночные дожди
Меня очень легко встретить
Только самые тёмные улицы
И перекрёстки найди…
Иногда выплывает из мрака
Моё голубое лицо
И рубашка в полоску
И узкие-тонкие руки…
Я просто кутаюсь в город
В стены его глухие…
И изредка в освещённых жарких кафе
Произношу стихи неживые
Некому теперь принадлежать
Некого неистово лелеять
Издали нелепо обожать
И писать у строчек посвященье
Знаю всё на свете я могу…
Будет грустно — и напьюсь и сяду
Нехотя про что-нибудь солгу
И кого-нибудь обшарю взглядом
Пусть подумают что душой высок я
Что горю, а не досадно тлею…
Поцелуй меня в больной висок
Я тебя за это пожалею…
Я скажу ведь ты одна из тех
Смерти уже отданных давно
А пока звучит твой нервный смех
Возле ног и плеч твоих темно
* * *
Так и будут запутанными дни мои
Так я и не пойму…
Кто просит ты обними меня
Кого я сам обниму…
Женщины лёгкие лёгкие
Только подует ветер
Сразу уносит к другим…
Сразу такие далёкие
Мы издали молча их чтим
Преподносим из самых душ
Вырванные слова…
И белые клочья чужих рук
Видим едва-едва
Не замечаем что другим
Преданы и проданы…
И преждевременными родами…
* * *
Годы наши идут
И мечты не сбываются
С тебя там, с меня — тут
Люди зло издеваются…
И нас осень трясёт…
Как деревья холодные…
Кто на свете живёт…
Все скитальцы безродные
* * *
В дымке Магелланова пролива
В распростёртых облаках
Говорят… порой лежит раскинув
Руки лучезарные чужая
Дымная с улыбкой неоглядной
Потому-то мы в коробках утлых
Обтекаем вечно океаны
Потому из странствий не вернутся
В дымке Магелланова пролива
Чётко и восторженно чужая
Видимая всем в любви и в горе…
Женщина растерянно лежит…
Не поможет знаем, знаем
Ни любви ни горю
Гибели от нас не отвратит…
Всё равно весь век бродить по морю
Берега — отчаянный гранит…
В дымке островов, земли и неба
Чуда и свершенья ожиданья
Вечно где-то женщина чужая
Медленно и грустно сторожит…
Чтобы появиться и исполнить
И ничем по правде не помочь
Только после встретивший да вспомнит
Этой встречи путанную ночь…
Обтекают океаны сушу
В путь пускаемся по зыбистой воде
От чужих скрывая душу
Обнажая душу при беде
Женщины чужие разметавшись
Входят в жизнь, уходят из неё
После один оставшись
Ты хоронишь забытьё
Жизнь из встреч да все страницы мифов
Длинных сказок и мужских запретов
С синевою клювы чёрных грифов
Зависающих над пропастью
* * *
Весеннее солнце
Когда отыгрывает
И летнее солнце —
Когда взойдёт
Меня судьба обыграет
И счастье из рук удерёт…
Я буду как тот —
Королевой обманут
И предан королевой буду
Той самой которой цветы водопада
Я приносил мокрой грудой
И бросал и медленно
От полученной раны слабел
Королева моя малолетняя
Я сейчас о тебе пожалел
Где ты удивлённо скитаешься
И что ты и кто с тобой…
* * *
Оставь свой дом…
Уйди в час темноты
В тот край земли
Где светятся моря…
И пусть поднимут сильные мечты
Заржавленные наши якоря…
Мы все сидим
Мы все чего-то ждём
Когда к нам королеву приведут
Или огромные серые моря…
У наших ног почтительно замрут…
Пока другой распущенных волос
Своей рукой не гладил
Иди и говори, что ты ей всё принёс
И всё оставил ты… ради
А надо к ним идти…
И ехать к ней…
В пургу когда скрипят доски захолустья
* * *
Наш дом на обрыве…
На скале
В нём ветра живут как хозяева…
И ослабевают в
Уставая родину облаивать
Если тот костёр
Что под небом цвёл
И не увидят с других планет…
Люди я пришёл
Люди я ушёл
И меня на этом свете нет…
Подыми могил сонную плиту
Звук не будет схвачен
Если мы умрём
Кто-нибудь потом
Будет нашей жизнью озадачен?
* * *
Чьи-то тени чёткие…
Туловища чьи-то…
Оттиснуты на мокром
Зеркале гранита…
Руки чёрные болтаются
И в воде синеватой
Тени длинные купаются…
Я один между мостами
Жду чего-то
И смотрю на гладкий камень
Опечаленный заботой…
* * *
За тридцать пять минут
Я Блока просмотрел
Блок прожил сорок лет
Над женщиной слабел
Он умирал и жил
Руками шевеля
Стихи свои сложил
И приняла земля…
И тридцать пять минут…
И множество ночей…
* * *
И лишь пустые копья снега
Нацелены в сияющую грудь
Хотелось запыхаться среди бега
И воздух отуманенный вдохнуть
Пусть иглами холодными охватит
Седая грусть меня
И девушки — на каждой только платье —
Мучительно и мстительно манят…
* * *
А потом мои сборники
Раскупают с прилавков
А потом поговорками
Мои станут слова
Но простите я кажется
Отвлёкся от главной
И от будущей славы
Дрожит голова…
Где-то синие дали огнями вспыхнут
Разорваны и подожжены…
* * *
Брось жеманиться
Брось плакать
Где-то в оголтелых маках
Людям снится май…
И в оплёванных курильнях
В темноте досок…
Кто-то понял все усилья
Ни к чему не приведут…
У кого-то опустели
Тёмные зрачки…
И безудержно и больно
А потом тепло…
А потом приходят руки
Гладят и поют
Спи — твои земные муки
От тебя уйдут…
Расцветёт спокойный лотос
Станет божий храм…
Ты возьмёшь свой посох
Подойдёшь к дверям
И откроют эти двери
Музыка польётся…
Заходи в курильню…
Веришь — счастье попадётся
* * *
Когда ночами белые лилии
Распускаются в диких прудах
Мы не видим, мы спим и сопим
Со слюной на припухлых губах
Когда самые тайные вещи
Происходят на нашей земле
Или водку противную хлещем
Или дремлем на женском тепле…
Пропускаем и глуше и глуше
Шум листвы… многих листьев слова…
И сильней одинокие души
Молчаливая темень трава…
Упади в неё с головою
Упади чтоб не встать никогда
Я сейчас
Ты — большая моя беда
Ты моя неизвестная сказка
Рассказанная без меня
* * *
Чужое горе с поднятой рукой
Кричит мне стой
Кричит мне хрипло стой…
Ну помоги ну обними меня
И ласки дай хотя б немного ласки
И сказку расскажи мне у огня
Ведь ты умеешь делать эти сказки
Неужто я пройду, пройду — не оглянусь
И буду зря хранить мои слова…
А где-то грусть, тупая, злая грусть…
Туманно упадёт на острова…
Всех жителей сметёт в одно…
В пустую злую массу
Ну неужели людям всё равно
Что я живу, что я умру, что счастлив
И мне не быть убитым
* * *
Тусклая погода…
Хочется заснуть…
Туманное тело одето в цветы
И медленно взором туманным
Проводишь тревожно по лицам ты
По лицам чужим и пьяным
Сколько ни плачь — они не поймут
Каждый занят своим…
Для них — чужая грусть
Только в глаза едкий дым…
* * *
Пускай таится грусть во взгляде
Но ты люби меня, люби
Ведь я терплю страданья ради
Блаженства и любви
Порой мне грустно потому
Что в этом мире злом и диком
Ты всё принадлежишь ему
Тревожно-белая гвоздика
* * *
Глазастые разгаданные люди
Поймёте ли вы горькое безумье
Безумье отрешённого от шума
Усталость отошедшего от света…
И видящего лица голубые
Да мёрзлые прожилки у висков…
Весь взбудоражен мир
Им только это…
Стоящим и смотрящим в непогоду
Им только это, а
За ночь до той пули
Которая убьёт и искалечит
И дождь тоскливый сразу оборвёт
Ах остановитесь на земле другие
По вечерам, в последние минуты
Перед закрытьем жарких магазинов
Смотрите в зеркала
Там в глубине их
Проходят люди серые, как воздух
Как капли
Из которых состоит
Весь этот дождь
Весь этот мир нелепый
Скрипенье тормозов
И скрипом туфель
И хлюпаньем по чёрным этим лужам
Залысинам, проборам и вискам
Наш мир пропах как сточная канава
Как не прошитые вставные зубы
Как запах человечьего нутра…
Пусть проплывают смокинги и фраки
И пиджаки в отчаянную клетку
И рожи, рожи бледные и злые
Остервенелых и тупых мужчин
Вы где?.. Вы где?..
На Севере живёте
Мороженую рыбу вы жуёте…
И почему у вас в почёте
Английский сплин…
* * *
Частица байроновской тени
Его усталый жест
Осталось в мире Чайльд-Гарольдом
Закутавшись бродить…
Тревожно встретить ночь глухую
Двадцатый век
И в полосах дождя…
Стою бессмысленно ревную
Ко всем живущим я тебя…
* * *
Что может быть интересного после двадцати…
Уже нельзя на улицах орать
Так чтобы все глазели — танцевать
Уже нельзя тебя за шею взяв…
Всё выступать и пить и обниматься
Прошла пора… Обязывает время
Ходить и скучным быть
И всё в стихи…
И в степи уводить грузовики…
* * *
Кого винить что выбор этот сделан
Давно нетерпеливыми руками
Я обнял тонкость твоей шеи белой
И отошёл тяжёлыми шагами
И страшно расставаться…
Слушай, слушай
Я испытал счастливые минуты
Когда ты ела и пила я видел
И улыбался зеркалу в глаза
Мы ведь с тобою вместе промотались
Мои неповторимые мгновенья
Мои дожди, мою святую грусть
Жизнь это может быть прикосновенье
И боль стесняющая грудь
* * *
Когда жизнь испробована по-всякому
И отмечена множеством лиц
Когда устало и безразлично
Поймёшь что ничего уже не будет
Да и не было…
Ты только шёл к миражу
А он отодвигался в степи белые
И продолжался светить как абажур…
То женщиной он становился неразгаданной
И ждущей и жалеющей меня
А то желаньем славы и стихами
И колыханьем смутного огня…
Там на скале все ночи жгут костры
Какие-то туманные и ласковые
И обещают мне конец игры
И вой толпы и крики лебедей
* * *
В бедной гостинице
На бедном столе
Робко лежит твоё бедное письмо
Ты сообщаешь вполголоса мне
Что я б приехать мог…
И встают как светлые копья дождя
Как солома ветряных крыш
Твоя застенчивость, улыбка твоя
Твоя глубочайшая тишь…
Ты терпеливо меня подождёшь
Даже может быть год…
И с другими не пройдёшь
Под сводами тёмных ворот
* * *
Я на серые скалы зелёной земли
Взбирался кровавя руки…
Чтоб посмотреть с высоты
На наше дымное море…
На шхуну с грузом сигар…
На крест опечаленных мачт…
И на следы ваших чар
Женщина — мой палач
Это ради вас
В пористой чужой стране
Играю отчаянный вальс
На единственной целой струне
А пароходы растут
К берегу приближаясь
И пароходы ждут…
От самого провожания
Давно уже, так давно…
Мелькала в горсти вода…
И было совсем темно
И мерно дымили суда
И дни чужой болтовни
Ты руки ко мне не тяни
Всё ведь тоска… тоска
* * *
Утром выйдя из кельи
Пропитанной запахом воска
И дымом сгоревших свечей
И телом отживших людей
Я — нищий увижу город…
Луну, что почти стушевалась
И голос далёкий далёкий
Который почти умолк
Судьба состоит из годов
Из дней и событий…
Просиженных в молчанье часов…
Лицо подперев рукой…
Из часов проведённых с друзьями
В пустой болтовне
И ещё когда твои руки
Тянутся долго ко мне…
Вот они дотянулись
И изогнуты плавно как лебеди
Лица моего коснулись
* * *
Какая разница в каком я веке жил
Какие мимо проходили дни
Я всё равно тебя любил…
И удивлялся солнцу и песку
Но пыл прозрачных голубых созданий
Соборов и церквей высоко вверх
А я один, осталась ты меж зданий
С тобой чужой сутулый человек…
Я понимаю, что другие тоже
Имеют право на ласку и на боль…
Но почему их множества
Слоняются с тобой
* * *
Где-то, где гавани имеют
Странные названия
Из одних округленных губ…
Обитают мои желанья
Загорелые люди ворочают
Вёслами в синих баркасах
Все наши глухие пророчества
Одна тёмно-бурая масса
* * *
Я буду чёрным чёрным нелюдимым
И жизнь чужая — парус мчится мимо
Не соизволя даже замечать
Другие вдаль уйдут расправив плечи
Другие — здесь построят города
Я — всё смотрю и говорю о встрече
И жду её и не пойму — когда…
* * *
Тревога, тревога, бесконечная тревога
За судьбу твою
Что если я окажусь, буду не в силах…
Охмелевшими пальцами
От тебя отказаться…
Что если я по примеру прошлых
Забыв про неустроенный быт
Обижу — сейчас так называют
Если кто-то с кем-то спит…
От этой ночи не сделалось жарко
Это только ещё один штрих…
К рисунку большого парка
И зарослей густых
А у тебя поломается многое
Холодная ледяная жизнь
Ничто не тронет, скажешь не трогай
Жив там кто-то или не жив…
* * *
Осень жёлтая пора
Тянущая туманно истолковывать
То, что было с тобой вчера
Происшествие в тусклой комнате
Тебе думается я слаб…
Ты считаешь что я на песок
Опускаюсь с телами баб…
* * *
Во мне человечьи обычные чувства
Мне хочется худому и злому
Лучшее место в мире искусства
Может никем незнакомый
Я встану эстрад оживляя доски
Люди стекутся из липовых аллей
Надо войти с руками жёсткими
В сырость и сизость степей
Надо подолгу жить под диском
Захолустной луны
И переосмыслить все старые смыслы
Пришедшие из дней тишины
Из тех мощёных дворов и далей
Где ты сигарету губами обхватишь
И спросишь мальчиков: не видали
Я уехал… хватит…
* * *
Досталась мне доля плохая
Стихи сочинять, слова…
Но и тихо тебя окликая
Глядеть как желтеет трава
Меня заставляют другие
Каменные горизонты
Медузы раскинут сырые
Намокшие зо́нты
Я кожей приму капли
И высохнут капли на ветре
Дощатое тело баркасов
Качается на воде…
Дощатое тело суши
И ветер врывается в уши
В несвойственный долгий мир.
* * *
А есть ли прошлое
И где оно хранится…
В пустых глухих страницах дневников
Где имена, приметы, лица
Как звали вас друзья
Там где-то далеко…
Но имя что? Ведь имя только символ
Обозначает губ немой развод
И если я его припомню
То разве стройной рядом ты пройдёшь
Опять надеяться на помощь
И на спасительную ложь
* * *
Я был везде
Я Крым облазил сизый
Когда там осень
И море когда тело скал…
Призраки нездешней жизни
Нездешней драмы
Деревья разметались в волнах ветра
В Никитском ботаническом
И ты… жила зачем-то
В маленькой беседке
Недостижимые храня мечты
Тебе казалось в зареве багровом
Напоминая Мексики пейзаж
Сгорят стволы и возродятся снова
И камни скал не упадут
А я-то знал что только ослепленье
Свело нас всех над бездной голубой
И мы напишем жалкие творенья
В восторге от земли полуживой
* * *
Я памятников видел много
Читал забытые чужие имена
И камень гладкий кожей трогал
Как будто мне блистательность дана
И обойдя сухие травы эти
Их на ладони подержав
С еврейскими глухими письменами
С тобой тебе принадлежать
Чушь
Выпить бы сейчас ещё вина
Но день этот хмурый…
Только надо мной наклонена
Голубая строгость абажура
Мне кивает строгой головой
Говорит… А может нет…
С кем-нибудь другим молчит
Твой отяжелевший силуэт…
Я его ловить не стану…
Абажур закрой глаза…
Сейчас я буду пьяным…
Что с меня с кирного взять…
Никаких преград не существует
Я холодный стол, цветы
Жадно и униженно целую
Вроде ты…
Только всё не ты, а будешь ближе
Быстро надоест…
Так всегда со всеми в этой жизни
* * *
Из холодной страны… не уйти
Не уйти из кольца впечатлений
Из ледяных построек
Из ледяных стен
Из меховой одежды
От моржового жира…
От жирной своей кожи
От косых своих глаз…
Обречённо Восток алеет…
У торосов встречаются двое
Наступило белое лето…
Безмолвие такое…
Что можно не прижимая уши…
Слышать как лёд молчит…
Хочет всколыхнуть посиневшими губами,
но молчит
У двоих любовь…
У двоих жирная кожа
Меховая одежда…
Шкуры на них
Страх в них…
Какая у них нежность…
Проводит ей по лицу
И говорит я к югу тебя унесу
Зелёные реки увидишь
Зелёные берега…
И воды чёрных заливов…
Но из холодной страны не уйти
Она это знает…
Везде любимые говорят ложь…
Страна снегов поджидает
Когда ты умрёшь…
* * *
Седые листья кактусов…
От старости седые…
Я спрашиваю как ты здесь…
— Как все больные…
Болеешь и желтеешь
Вина не пьёшь
В окно весь день глазеешь
На окаянный дождь…
До боли надоело… а впрочем
Что на свободе лучше
Ты как все строчишь…
Да пишу о кактусах
Об этом тоже могу
Листья седые седые
Встречают на берегу…
Губастые гибкие негры…
И полоса воды…
И не выдержат нервы
Самой большой беды…
В больнице знакомая никнет
Скучно и тяжело
В больнице она думает
Ведь на свободе некогда
Оттого мы все задумчивыми
И притихшими
Приходим из своих больниц
Кактусы, небо расколото
Кактусы жизнь позади
* * *
Рядом летний полдень
И прекратились дожди
И двадцать один год
И подруга есть…
Чего-то от меня ждёт…
Как не от всех мужчин
Двадцать один год
А я ещё никто…
Делаю строгий пробор…
Сёстры оборачиваются вслед
Но ничего нет…
Нет стихов — положить на стол
Нет сокровищ — бросить к ногам
Нет комнаты устраивать семейное счастье…
Есть только голова из которой
Как шелкопряд
Я вытягиваю тоненькую нитку мыслей о тебе…
* * *
Поджигайте снег со всех сторон
Жгите белый
В глинистую лягу
Опускайте гроб
Дёргая верёвку руками неумелыми
Он перекосится, ляжет он не так
Кто-то закрестится…
Замаячит в глазах
И поправит кто-то
А потом… комья запрыгают
На первом гробу твоём…
Люди отойдут, люди разойдутся
По квартирам обсуждать
Твоё неумелое дело…
И ты тоже уйдёшь спать…
Не стянув запачканных в глине сапог
С утра, подставив плечи солнцу,
Новые могилы копать
Следующие гробы опускать
На пахнущих пенькой верёвках
* * *
Если неизбывного касаться
Лишь едва платок приоткрывая
Будет неизбывное смеяться
Будто соблазнённая святая
Ну как ты Мария Магдалина
Опровергни суетный завет…
Никогда не стала ты святою
Ты склонялась под огарки свеч
Потому что нравился до боли
Стройный Иисус
Потому что грех смешался с кровью
И трещала от истомы ночь
Нужно ведь понять такое что-то
И уходит в этом наше жизнь
Бедная Мария Магдалина…
Не вернуть ушедшего Христа
Сколько ни склоняй в моленьях спину
* * *
Обычная безумная как все земные
Какие уходили по камням
А что я сделал из тебя святыню
— Виновен сам
Теперь нелепо… в темноту свиданий
Выносить чужую чистоту
Теперь — как все мы ходим между зданий
Гоня недостижимую мечту…
Сквозь музыку и свет и отблеск…
Ты вся не так
А я в своей душе скрываю повесть
Где ты чиста
* * *
Из досок сбиваются наши суда
И вёсла строгают люди
И парус шьётся в предместье там
Кормят ребёнка грудью
Подводят жизни итог и грехам
И слушается пластинка
Колумбы тоже приплыли к нам
При помощи парусины
* * *
Когда умрём, за эти наши строки
Дадут большие деньги…
И кто-нибудь совсем чужой
Будет тетради бойко продавать…
Но всё же там одной не досчитаются
Одну сожгу я в гибельную тьму
Когда…
А что сейчас…
Сейчас нас люди злобно
Встречают как прохожих чудаков
Любимые не могут удержаться
И понимать не могут и не ждут…
Когда признают и поймут…
Нам до тех пор, до голубой границы
Брести и одиноким вспоминать
Исписанные жалкие страницы
Которые нам некуда девать
* * *
Как будто за серым холстом волны
Растянутым перед глазами
Твои тревоги, твои сны
Полотнами пересказались
Нас ждёт побережье древней Земли
Ты знаешь
Твои ноги коснётся вода
Это Восток
Это турецкие лики в окне…
Мечеть… Мусульмане в фесках
Я буду писать на жёлтой стене
Свою одичалую песню…
Когда минареты тоньчей и длинней
В ночное небо вни́жутся
Я жил это злое количество дней
Чтоб видеть как лодки пишутся…
Как загорелая кожи гладь
Вдруг взяла и вообразила
Что этой доске суждено побывать
В чёрном нутре океана
Я шхуну к турецким веду берегам
Доски пригнанные плотны…
А в тесном трюме в трюме там
Ты, а твои полотна
Художница — чистый овал лица
Лицо не затронуто мною
И рядом ты, а как будто вдали
За морем и тишиною
* * *
Сегодня ночь разрушит упоенье
Я всё пойму
Что бедные мои стихотворенья
На свете ни к чему
Раз есть пожар, зареющий над морем
И есть молчание, лежащее у глаз…
Я с бутафорским горем
Лишь выставляюсь напоказ
Таким же вот запутанным и робким
Не знающим куда…
Вести свои коробки
Унылые суда…
* * *
Я камерный преодолел предел
Теперь метаться по планете
Вдыхать автомобильный чад
И заходить и посещать
Сверстников в Лос-Анджелесе
Штат Калифорния тоска
И шелест злых автопокрышек
И моря злая акварель
И нефть качается в составы
* * *
Мир состоит из белых башен
Из криков — не…
Не надо ближе быть чем есть
Не надо…
В такую ночь такую честь
Вы мне — наградой
Я откажусь я обманусь
Скажу спасибо
* * *
Абажур, абажур, абажурина
Не осуждай моих женщин
Если бы ты был женщиной
То неизвестно ещё…
Таким же голубым и чистым
Остался бы со мной…
А женщинам ведь не больно
Это их не томит…
Вольно или невольно…
* * *
Усталый диалог усталого мужчины
И жалобы на про́житую жизнь
И что легли тяжёлые морщины
Жизнь — вертихвостка,
Жизнь — сука,
Повертела хвостом, пошла
В кармане пусто
Во рту — сухо
Плохи мои дела…
* * *
А после ветер свёл изнеможенье
На нет, но бесполезную струю
Откинувшись, я стану бесполезным
Пустым и диким…
И пойду гулякой
Бесцельно ноги ставя на паркет
На плиты
И бесцельно гладя ветер
Сухими откривевшими губами
Теперь я бесполезен
— Я создал…
Куда меня несёт…
В тревожный сумрак
Какие роли и какие судьбы
Людей жалеть
Или людей качать
Я буду проходить и жить
И падать
А людям остаются только
Ноги…
Когда сидел и бешено работал
И медленно из мрака выплывал
* * *
За криками, за бездной злых разделов
Стоит опустошённое веселье
Блестят остановленные глаза
И жизнь твоя разбитая чужая
И переулков грязных продолженье
Мечты о недостигнутом тепле…
Мир простирается, скучает и волнует
Своими непринуждёнными мечтами
И невесёлой медленной улыбкой
И вечной жаждой голубой черты…
* * *
Мой силуэт…
Мои глаза и локти…
Небо расширенное
Пёстрое красиво…
Восторженно и сумрачно молчит…
* * *
Где ты… Какие посвисты деревьев
Тебя волнуют и тебя гнетут
К земле холодной ветви гнут
Всё гибельность осенней тени
И окружности немых зрачков
Нас заставляет подгибать колени
И уменьшать стремительность шагов
Не верить, что бывает и возвраты
Одних уходов жёлтое кольцо
И разве мы тревожно виноваты,
Что месяцем обле́днено лицо…
А вот сейчас — ещё бледней, чем раньше
Глаза палящие закатим вглубь
Окончен он иль только начат
Земной опустошённый тусклый путь
* * *
Длинные, долгие мысли тревожные
Всё об одном, об одном
Вдруг и глаза твои ложные
Светятся жадным огнём
Что если ты подойдёшь и отчаешься
Будешь как соль морей…
Мне остаётся — печальному Чацкому
Тешиться ролью своей
* * *
Произносить монологи легко
Я прямолинейный герой
Стою и рублю слова посреди сцены
Размахивая рукой для убедительности
Но мне не верят, там в глубине зала
В самых глухих уголках
Сидят отвлечённые люди…
И мучит их что-то своё…
Сильнее махаю руками…
И делаю сильные жесты…
В глазах у меня возникает
Заплёванный призрак невесты…
Но люди пугающе ску́чны
Поджав тонко губы сидят…
И что-то своё их мучит
Сквозь все мои роли подряд…
Придите ещё и завтра
Всё также не верить в боль
И так же свои мысли
Продолженно переживать
* * *
Мир большой
Он из блестящих окон
И чужих дождливых городов
Он из кулька хорошей пищи
Модной отутюженной одежды
Состоит…
Ты ждёшь… А ты ресниц изломы…
Быстро, неуютно — вверх и вниз
Я твой умный знакомый
Жалуйся, тревогой поделись
Говори, что мы тут неуместны
Среди серых этих площадей
Средь борьбы за место
* * *
Глупый отрывок из какой-то
скандинавской саги
Или моей легенды
Или кусочек моих чувствований о тебе…
Может быть разом всё
Только волнуя тайной
Пенится жёлтое море…
И где-то цветут загадки…
Пустынных чужих разговоров
И белые недомолвки страданий
Чужих и немых…
Зеленоглазая девочка…
Сегодня когда серый вечер
Окончил свой жестокий круг
Я отрицательно покачаю
Своей головой голубой
И медленно удостоверюсь
В слепой обречённости мира
Погибнем мы все в поле
Засунув в рот дуло…
Нажмём голубой курок
И только короткое эхо
Коричнево-тонкие корни
Жёлтой жалкой пшеницы
Человечьего злака
* * *
А если мы приходим до рассвета
Чтобы огонь отчаянно нести
И быть нелепо-нужным силуэтом
Вдоль высшего великого пути…
А, по огням найдут свой путь другие
Когда уже потухнем мы
Забыв и нас и наше ремесло
И наши лица бледные немые
Которым так не повезло…
Вам повезёт идущие за нами…
И я чеканный сумрак нарушая
Своими неуклюжими стихами
* * *
Эту влажность ночных мыслей
Несмелых белых купальщиц
Я взглядом моим не нарушу
Взглядом чёрным слуги
Не мне дано потрогать
К губам поднести мимолётно
Туманную к стеблю склонённую
Душистую тонкую шею
В которой столько целомудрия
Как ни в одной из женщин
В которой все тайны мудрые
Все тайны обещанные
* * *
Рукой указывает статуя
Базальтовой чёрной рукой
Куда-то в дикие горы
Где вечный снег и тоска
Безлюдных серых ущелий…
Скал громоздящихся злобно…
Изгнанников горькой толпой…
Глаза не находят уступов
Где бы ступали люди
И всё же статья тянет…
Тяжёлую руку вдаль…
И там собираются тучи
Но вечно дожди не прольются
И только косматые сгустки
Будут по скалам хлестать…
Туда я коричневый тихий
Уйду опечаленной кошкой
И буду разгадывать тайны
Протянутой в вечность руки
Быть может её забыли
Сокровищ и чудищ и злобы
А я подползу на брюхе
И всё отгадаю, всё…
И будет наверное страшно
Так, как всю жизнь хотел…
* * *
Я стою передо мной перо жар-птицы
Тёмный лес задумчив и не смел
Подобрать перо и в путь пуститься
И сказать что я глазами бел…
Много непокоя от сиянья
Лес и небеса озарены
И сбивается несмелое гаданье
И сбываются пророческие сны
Может остановят неудачи
И глаза слезами изойдут
Мне сулит отчаянные крики
И затерянность в деревьях синих
И тайгу глухую и пустую
Мох и камни скалы и песок
Этот жар невыносим для глаза
И в стране глубоких чёрных рек
Путается…
Да в стране зелёных рек и вереска
Жёлтых неокрашенных судов
Ходит кто-то мечется по берегу
Простирает зов
Я приду приду туда заранее
И пойму тот крик…
Все мы к медленному умиранию
Предназначен к умиранию
Тот кто только что возник
Предназначен руки выломать и сглушить
Предназначен песню выдумать…
В мир пустить…
А перо пусть светится и светится
Просто так…
Через век придёт за мною вслед
Ещё один Иван-дурак
* * *
Я бедный малый…
Пиво пью
Потом иду по чёрной дороге
Потом встречаю тебя и молчу
И мокрые руки твои целую
Привыкни к тому что весь свет молчалив
Что тишина над нами
И белые лица и улиц извив
Только пугающее ожидание
Наши мысли займёт всецело…
Тоска безнадёжного исхода
И мы будем делать это —
Пить и махать руками
Два тоненьких силуэта…
Среди миллионов таких же
Ложащихся на асфальт
Пускай нас вечность излижет
Как сука своих щенят
* * *
Но только я вдоль улиц пройду
И бухнусь в старое кресло
И мелкой истерикой изойду
Сжимая пальцы до сини…
Какая-то подлость…
Какая-то злость…
Печально и неизвестно
Нам жить в этом мире с тобой привелось
Друг к другу прижавшись тесно…
Поверив что мы одни без конца
И были бедны и будем
И торопливая бледность лица
Другим ненавистна людям…
В суете обещанных дней
Силуэт мой скользит в витринах
И я растерянно стою
В открытых дверях чужих
И я растерянно бреду
К построенным по плану домам
Жёлтые, лиловые, голубые стены
И ноги твои…
Кого-то пугающе мучат…
* * *
Было или не было минут
Брошенных пригоршнями вдоль улиц
Меня люди знают и не ждут
С тёплым и растерянным лицом
Плохо жить на свете понимая
Игру света и игру людей…
Никого собой не обнимая
Зло смеясь над этими людьми
Что же я несмело прочитаю
Ещё много очень умных книг
Крадучись несмело прошагаю
Километры старых мостовых
Проплыву по заводям туманным
По чужим следам…
Буду делать всё что запрещают
Брать тебя за белые колени…
Пьяным летом когда дождь бросает
Твои волосы к моим губам
Что-то вдруг несмело возникает
И мешает улыбаться нам
Это верно пониманье встречи
Тусклой неизбежности смертей
Убери свои тоскующие плечи
И лицо из-под руки моей…
* * *
Элегантная запойная тоска
Во фраке, чёрный и строгий
Допью свою порцию коньяка
Перед моей дорогой
Моя дорога и только моя
Бумажная русская старая…
Из одного города в другой
И ещё один серый город
И ещё одни вспыхнувшие глаза
Жаление о том, что не молод
Есть бабы, которых нельзя
Я пустой-пустой и тихий
И спокойный…
Я вожусь с детьми по-детски
Зябко всё переживаю
Нашу маленькую встречу
Твои тоненькие пальцы
И холодные колени
Так по-детски угловато…
Так устало так протяжно
Выступили из-под юбки
* * *
Я натворю много бед
Причиню близким страдание
И даже тебе, самой дорогой,
Нужно будет плакать…
Нужно будет проклинать день
Когда ты меня встретила…
Так неудачно сложилась моя жизнь
И я не виноват…
И я не могу исправить…
Уходить в листопад
И в церквах свечи ставить
Ничего нет… Только есть…
Твоя комната…
И пустая громадная тень
Нас обоих на белом ковре
Когда я уйду будет утро
Или вечер или смерть
Но мне наплевать…
Потому что всё оборвалось во мне
* * *
Вся тоскливость в нашем небе
И в квартире полутёмной
И в холодных на минуту
Мной тронутых коленях
Не исправить после в сказку
И никем не будет понят
Этот миг
И будет жаль что сомнут тебя другие
Что цветёшь ты для других
* * *
Думаю — плывёт мартышка
Глупая мартышка в чёрном трюме
В том стальном и пахнущем заводом
И безвыходностью что когда-то
Я в себе немыслимо носил.
Если б мог я от утра до ночи
Всё писать пытаться за столом
За дощатым за немым за мытым
На котором после злых усилий
Я найду мне нужные слова
И приедет грустная мартышка
Человечья грустная улыбка
Милые покинуть острова…
Будешь жить среди зимы и лета
Замирать ночами в уголке
То ли в цирке то ли у поэта
Что в твоей протянутой руке
Просишь не забыть тебя и тоже
Поместить в мой необъятный мир
Где усталы облики прохожих
* * *
И потом когда я уже умру
Серая былинка на серой мостовой
Люди поймут — этот паяц чего-то стоил
И не зря он махал рукой
И вчитаясь в мои строки
Под деревьев строгий шум
Может дойдёт — что мы все одиноки
И полны непонятных дум…
Я горький бессловный стёртый неудачник
Маячил в мире сыпал слова
Иногда меня женщины занимали
И останавливали на немного
Иногда бывало и счастье
Тонкое тёплое пятно на полу
Я старался вызвать у вас участье
Но вы отворачивали скулу
* * *
Ну что же — два года
Успокоен… лишь изредка расшевелит
Меня вдруг ваше появленье
И в память прошлого — смущенье
На пыльном теле плит…
Тогда я поклонюсь неловко
И по забытому — губами
Скажу «Салют»
Ответишь робко…
И мы пойдём опять одни
Ты шла навстречу
Ты светилась
Ты может со звезды свалилась
Но должен я пройти
А ты опять в чужую школу
* * *
Но я останусь розово-холодным
За высшими поступками следя…
В метельном свете — среди сцен огромных
Водя нелепой тенью по стене
Я вызываю ряд видений тёмных
И тайна строгая дрожит во мне…
* * *
Как пахнет сырое дерево…
И дождевая вода…
И весенние тополя…
Но приходит беда
И пылится земля
Но приходит разлука
И стынут руки
* * *
Какая уж тут любовь
Я не разобрался не понял
Не просил надо было просить
Не бросился в погоню
Когда стала ты уходить
Ты каждый день отдалялась
Нашёптываниям поддаваясь
Тебе говорил он умный
Но что его умного ждёт
Никто не может поручиться
Что будет с ним через год
Никто не знал верно
А может положат вновь
В больницу для слабонервных
В объятия докторов…
Или уйду по подъездам
Проклятые песни петь
По целым неделям нетрезвым
И прямо в глаза не смотреть
Я бросил бы вас всё равно
Красивая мамина дочка
И мама была права
* * *
Можно все ночи подряд просиживать
Писать неживое, писать злое
Что ты не согласна на хижину
Теперь-то уже после драки
Я понял раня мозги
Что есть родители, есть дворы
Соседи старухи и стариков
Безжалостные скелеты
И ты ни ко мне, не врозь
А так только — руки-плети
И тысячи разных просьб
Уйди приходи… останься…
Мама… я рядом с мамой
Сравненье не в пользу — Таня
Ты вечно любить не мог бы
Да я остаюсь
Да я в осень
Не мог не могу любить
* * *
Яблоневый дом… Яблоневый дом
Комнаты покинуты пустые…
Мы по стенам тихо проплывём —
Тени неуклюжие большие…
Мы ночами чутко прошуршим
Древними ногами…
Зеркала застывшие
Поймают
Наших лиц неровный серый мир…
Из всех книг которые читали
От людей аптек и тишины
Мы давно все тайны разузнали
Оттого зрачки затемнены
Не обрадует своим испугом
Яблоневый дом
Мы проходим мерно друг за другом
Каждый с жёлтым фонарём
И огонь нелепый прикрывая
От жестоких сквозняков…
Каждый неумело повторяет…
Гибнуть и пытаться я готов
* * *
Когда другие так вращаются
Все в центр комнаты
Другие тоже обольщаются
Мы все умны
А жизни попросту кончаются
Средь тишины
Учитесь бедными студентами
Счастливыми профессорами
Вас много ходит рядом с Ленками
И каждый будто он один
Одеться помодней старается
И умничает и кривляется
И песни учит и стихи
Всё женщинам предназначается
Мы чудаки…
* * *
А нужно взять мысли
Цедящие это…
И даже в праздник
Сидеть неодетым
У самой аптеки
И думать о маге
Ещё о Востоке ещё о бумаге
Шуршащей летящей по мостовой
Хотя бы я один не такой
Как все остальные
Праздник парад
Я давно пьяный…
Другому я рад…
Что глиной запахнет
Моя мастерская
И женщина будет стоять живая
Спасая её от холода
Буду давать вино…
* * *
Я большая пешка
В злых чужих руках
Двигаются пешки
В соломенных полях
А рядом чёрная земля
Иные клетки
Народ чужого короля
Готов упасть…
Лишь только б он — король
Смог власть
Распространить и в наши
Соломенные угодья
Не жаль ни своих ни чужих
Пусть половина ляжет
* * *
По дороге уходят на войну
Серые солдатские ряды
Тусклой опечаленной змеёй…
С песнями а чаще и без них…
Матери стоят в платочках старых
Плачут прикрывая глаз отчаянье
Сапоги устало глину топчут
Глину опечаленных дорог…
* * *
Скрипки поют
Что мы только знакомы
Робко встречаясь расходимся
Я бездомный
И ты — раскосая
Сегодня прошли шумя и болтая
Делая весёлый вид
Но ко всему привыкла Сумская
Ничего её не удивит…
И люди — пройди голым даже —
Посмотрят и отвернутся
Чтобы они были в раже
Нужна революция…
* * *
Мои слова переживать
Дано другим
А мне писать
И крик бросать
И руки робко простирать
К рукам чужим
Давайте обменяемся теплом
Я вам своё отдам
Но ты ведь незнаком
Всем этим женщинам
И мужикам
Они не примут трепет
Не поймут
И скажут он сошёл с ума
За докторами побегут
Все, даже мать…
И поместят опять в больницу
За окнами трава егозит
На этот раз не будет близкой
Чтоб приходила говорить…
Вот так кончаются порывы
Стремления вперёд других
Я сумасшедший сиротливый
Сижу возле окна
А осень тянется и длится
Тревожна и мутна
Какие мне моя больница
Предложит письмена
О жалких травах под окном
Где праздник революции
И что не вызову ни в ком
Сочувствия
* * *
О мартышке в ледяной погоде
О замёрзшей…
Нет я не могу об обезьянах
Не понять мне узкий лобик
Если даже рядом человека
Трудно мне и тяжело осмыслить
Пейзаж
Телега чёрная и тусклая дорога
Ты едешь в мир
Чтоб ещё дольше жить
И будут нам мешать иные люди
Иные травы станут нас любить
Поджаты ноги горестно и плоско…
Молчат глаза и только в глубине…
Какая-то протяжная полоска
Быть может это жалость обо мне
Во внешний мир вольётся…
Моё оголтелое пенье
* * *
Проснулась во мне нечаянная чуткость
И почувствовал дрожь
Что ты
На белом свете живёшь
Когда я один среди солнца и света
И покоя голубых деревьев
Мир — это два силуэта
Твой и мой на стене…
* * *
Россия… Дворянские парки…
Рассыпавшиеся косы…
Вагоны… теплушки… взгляды…
Я пьяный пустой полковник…
Я отстоял Одессу…
И пью последние дни…
Когда пожелтели каштаны
И обыватели готовы…
Встретить красных
И обплевать пароходы,
В которых мы отплываем…
* * *
Прапорщиком стройным
Приеду к вам в усадьбу…
Где старый разросшийся парк…
И тёмные-тёмные липы над
деревянной скамейкой
И вы из прошлого века,
Домашнее воспитание
Французских романов бред…
Пруды, глубокая тишь…
Но время пугающе вспыхнет…
И мужики пойдут…
Голодные гадкие жадные…
А нам по России тыкаться…
Ты станешь холодной и жёсткой
И жить по вагонам
И плакать когда напьёшься
И утром, на рассвете…
Нечёсанного коммуниста…
Отправить на тот свет…
Когда черёмуха пахнет…
И голова болит…
От тяжкого-тяжкого бреда…
Степного…
Куда пароходы уходят…
В Турцию, в Грецию, в Рим?
Где Пантеон рода Юлиев
Бледен и недвижим…
* * *
Ночь шумная
И крики жёлтых листьев
Которые не в силах
Бороться с смертью
На краю могилы
Уже упасть бы мир очаровать
Чудесным жёлтым и багряным трупом
Сухую оболочку постигать
И разбирать прошедшее по буквам
Не так ли я
Чудесно умереть
Оставив слов приличных ворох
Когда я пел вам не хватало времени
Понять увидеть ободрить меня
Но только лишь с землёй в одно
Находят сразу
И то где жил линялое окно
И за могилой славящую фразу
А мне бы нужно когда в жёлтый стол
Чтоб кто-нибудь ко мне пришёл
Сидел вот я — душа живая
Румынская рапсодия
Бульвары рыжие… беда… бессонница…
Приходит ко мне Пруст…
Марсель… тот самый известный…
Основоположник…
Автор… тысяч бредовых страниц
Я тоже туманно спутал…
Тебя и чужих и многих…
И на большом бульваре удивлённо сижу
Зачем всё так пусто и тихо…
Как тонкая чайная роза
На зелёном стебле…
Любители хризантем…
Ночных прогулок в горах…
Высокая сухая трава…
Пахнет бессмертьем гробниц
Незанесённых песком
И синью глазури…
Не поблёкшей века…
Румыния колониальная страна
Жёлтого табака…
И черноволосых женщин…
* * *
Вот действующие лица — ты и я
Место действия — больница
Октябрь месяц
В эпизодах — врачи, санитары…
И заря за решётками окон…
Необыкновенно красивая заря…
Отсутствие спокойствия…
Утыканный стёклами высокий забор…
Больничный двор…
Деревья… последние миги
И чудом проникшие книги
Стихи о первой любви…
Я тоже оставил сзади…
Пиво в дешёвом кафе
Свою непробудную осень
Подаренную тебе…
Шатание с девочкой маленькой
В школьном платье…
И длинно-большие минуты
На улицах городов…
Всё что нас окружает —
Неокрашенные стены…
Очень нас раздражает
То, что глаза белы
Infant perdu
Я потерян для близких и Родины
Приближается враг в темноте
Там услышали там услышали
И уже барабанная дробь
И мальчик полком подобранный
На одной из больших дорог…
Приближаются тени солдат…
Но всё закрывает большая тень —
Старухи-смерти…
Барабанит мальчик и поле встаёт…
А я давший сигнал…
Хочу повернее, прямо в лоб
Выпустить последнюю свинцовую пулю…
* * *
Вам хочется стихи мои переписывать
Их под рукой иметь
Принести своей девушке, своему парню
И проговорить, и процедить, проскрипеть,
Прошептать ночью… Я пария
Вопросов столько нерешённых
Но мы оставили все вопросы
Мы при свечах зажжённых
Будем любить раскосых
Сделаем глупость…
Потом одумаемся…
И прощения станем просить
Я ни на что не буду дуться
* * *
Стану полевым дурачком
Бежать от чужих глаз
Посвистывать и поглядывать
Подерживать белый крест
Да, я холщовый, я белый
Я опрокинут в траву
Я — дурачок на свете
Чтоб слушать кукушек — живу
Древним ужасом веет
От бессмысленных криков
Как будто кукушка жалеет
Чужих проходящих вдаль
Я утром по мокрым откосам
Спускаюсь к задумчивым рекам
Где плещется синяя рыба…
И синей улыбки тень…
Я полевым дурачком
В шапочке с колпачком
Махая длинной рукой
Буду тебя дразнить
А ты в платье иссиня
Будешь там ночная башня…
Которая не хочет жить…
* * *
Может меня и печатать не будут
Но только ты линии тень сведёшь…
Я смутные муки забуду
— Бессмертье и слава — всё ложь
Сгнию я, как сгнили другие
Приходившие в разное время
Останутся слова неживые
— По ним меня изучат…
И скажут он был — измотан
Измучен, задавлен, сбит…
И бросил свою работу
Сбежал в отдалённый скит
Но там, среди моря клевера
И песен дремотных пчёл…
Его беспокоили муки севера
И ветер его извёл…
И мутными пятнами выплыли
Лица чужих святых…
Твоё лицо святое…
Первым было средь них…
Я парковой злобой обмечен
Но я так люблю тебя
* * *
Я жадный человек
Из прошлой тайны
Из голубой грозы
Из фар автомобильных
на дороге…
Отделившийся от стен ночных
Вышедший из сети дождя
Городской человек
Мужчина с непристойного свиданья
С чужой женой
Честолюбец жаждущий славы,
Власти, богатств
Возможности глазом ловить
Блеск бесценных камней
И руками обшаривать
Модных красавиц
Откуда вам знать меня
Самоуверенного
В грозовой шляпе…
* * *
Всё так же Вася носит
На голове афиши
Всё так же мужики играют в домино
Я где-то медленно услышал
Не быть тебе со мною всё равно
Нас разделяют прожитые чувства
И лиц чужих несмелые овалы
Теперь скажи
И что былое, тоже миновало…
Ничто не миновало, в синий сумрак
Когда тяжелеют… ночи…
Я горько нерадостно думаю
Что ты существуешь отдельно…
* * *
Мой дождевой балкон…
Мой холодный ключ
Под рукой
остр и колюч…
Длителен каждый шаг
На квартиру распространён
Тревожным шумом в ушах
Отзывается он…
Достаю я вино…
И сажаю тебя
В кресло что под стеной…
А напротив цветы…
Звёзды красных гвоздик
Засохшие…
Пахнущие сухим
И горьким запахом
Мира женских писем,
Причуд и праздников, когда
Всё решается…
Но теперь-то ничего не решается
Только в зеркале отражается
* * *
Мы таскаем с собой наших женщин
По самым любимым местам
И думаем — понимают…
Стоя рядом и рядом дыша…
Всё понимают они…
Глядя на стебель церкви…
Как тонет белый купол…
Или пылит вокзал…
Мы женщин с собой таскаем
Думаем — понимают…
Молча бывая вместе…
В самых святых местах…
Здесь на осеннем вокзале
Тебе хочется тоже
Броситься в первый же поезд
И укатить куда-то…
Чтобы проснувшись утром
Увидеть иную землю
Кочки болота и воду…
Редких пожаров дым…
Сосны песок скрипки
Сонные ритмы повозок…
Белые лица молочниц
* * *
Я море воспринимаю
Как интеллигент
Как интеллигентная личность
Запутавшаяся во внутреннем
своём мире
В проблеме быть и не быть
Для меня море —
Это выражение недвижения
Сидеть на песке никуда не плыть
Это округлёнными глазами
Следить, как плывут другие
Завидовать но не плыть
И решать проблему быть не быть
Смотря на себя со стороны
Стройный стою под каплями
Вглядываюсь в лицо волны
Перед вечностью
В середине вечности…
Интересно со стороны…
Интересно приходящим по песку рыбакам
Женщинам идущим в посёлок…
А если б не было рыбаков и женщин
Я бы давно уже ушёл
И не стоял…
Ведь всё кривляние
* * *
Куда-то хочется уйти с этой земли
В область сна иль старого преданья
Где молчалива сонная вода
И длится бесконечно ожиданье
Под всплески у зелёных камней
Там краб молчит…
Я просижу до света в тишине
Я унесённый в скит…
Я отнесённый от людей
И погружённый в мир
Своих ошибок и страстей
Тоски своей…
* * *
Чего-то жди
Кому-то предан будь
Без слова, без утайки, до глубин
Ночами из-под плотно сжатых
Стон отягчённый вынь
И темноту прорезывая звук
У дома тихо упадёт
Где клочья утомлённых рук
Она другому на плечи кладёт…
Что ей, безликому ему
Мне и тяжело и больно
Чужие отношения поймаю
И загрущу невольно
* * *
А мы старые
Всё прожившие
Пережившие люди
Понимаем себя спокойно
И других не осудим
За прошедшие неудачи
И за вечные взмахи руками
И что кто-то растерянно плачет
Между каменными домами
Нам положен такой неуспех
И понятно сиротство
Одинаковы мысли у всех
Только о себе…
А другие пуская бредут
Несогретые, разболтанные
А другие пуская в беду
Попадают любую…
Даже ты — только тихий овал
На отемнённой снами площади
Возле плеч я твоих отдрожал
Добиваясь нелепо хорошего
* * *
Вспоминай меня с бедной улыбкой
Когда годы изменят, сметут…
Как дымок золотистый и зыбкий
Наши несколько лучших минут
Говори обо мне откровенно
Я наверное был неплохим…
Я однажды — вскрывавший вен
И задавленный прошлым моим
Всё же в мире не так уже много
Силуэтов, слитых в одно…
Я любил тебя за тревогу
Всю истраханную, трогательно —
Я любил тебя за вино…
И за то что была без ответа
Приникала ногами и телом
За ненужное жалкое лето
И за то, чего я не сделал…
* * *
Жалейте меня жалейте…
Во тьме коридоров слепых…
Белые буквы ближе
И тащат по плиткам голым
И тащат по мокрым доскам
Унылого страшного зверя
И в дверь толкают меня…
Раньше был обычай
Прошлый обычай
Старинный обычай
Пусть возьмёт меня девушка
И назовёт своим…
Но тонкой девушки нет…
Современная казнь
В коридорах длинных и скучных
Где стоит канцелярский запах
Обыденный строгий запах
Раздаётся тихий звонок
Скажут идти в баню
Разденьтесь — идите в баню
Снимаю одежду, складываю
Руки и ноги не мои
Тело моё жёлтое вытянутое упругое
Нетвёрдо неясно качается
В сумраке тихой тюрьмы…
И чувствуешь всё затопила
Неживая нездешняя грусть
И думаешь всё ведь было
Усталое «ну и пусть»…
Потом когда тихим и робким
Руки твои вспоминая
Вечерний отчаянный дождь…
Ты где-то не в этом мире
Отчаянная живёшь…
Остриженный и лимонный
В войлочных мягкий туфлях
Я буду в баню идти
А потом когда пойму…
брошусь
назад…
И застряну застряну
Руки не оттащить…
Изломанные мои руки
Жёлтое моё тело
Дайте ему маячить
Во мгле полутёмных залов
Во тьме неживых вечеров
Дайте ему цепляться
За женские тонкие плечи
Не надо меня не надо
В эту странную дверь…
Я тёмный, я полузабытый
Людьми и тревогой и плачем
Я у которого тусклые
спокойные глаза
А жизнь была и осталась
Смешные слепые попытки
Смятенье и отклик найти
В чужих спокойных душах
В чужой жизни спокойной
* * *
Ночами чёрт-те что приснится
Большая ложь
Что над тобою наклонится
Мне пришлось…
И ты устало теплишь пламя
В ночных зрачках…
Потом мы заняты делами
Земными скучными делами…
Быть может мне с тобою вечно
В июньские ночи быть
Твои одинокие плечи
Послушно и глупо любить
И мир пройдёт незаметным
У самой кожи лица…
* * *
Я напишу как пьяный
Какую-то большую поэму
В этой поэме будут
Плечи и ноги твои…
В этой поэме будет
Церковь стоящая косо
Мы живущие глупо
У подножья церквей
Белые длинные своды…
Вытянутые вверх…
Много большой свободы
В выборе рук и плеч
Я могу тихо биться…
В тихой белой горячке
И никто не узнает
И не узнаешь ты
Над воспоминаньями о тебе
наклониться
И проклинать мечты…
Что эта чудовищная полночь
Раздвоилась и разбилась
Что разве мы отдельно —
я и ты
Но есть вопросы смерти
Банальной, будничной смерти
* * *
Минутная радость
Минутная слабость
Минутное горе —
Всё пройдёт
Останется вечное, святое,
То что выберет время
Бестрепетными бескровными
Безжизненными руками
Высшей жизни…
Жизни земли без нас…
Или с нами, со всеми, мало
Едва-едва… вспухнут лица
В огне открытых дверей…
И унесут их владельцы
В ночь…
Где не видно…
Даже идёт человек или уже ушёл…
* * *
Манекеном парижской витрины
Жить туго и жить паршиво
Когда зажигают камины
И лампочки греют лживо…
Послушайте девушка стройная
Вы многое видели много
Когда выплывает над дорогой
Луна… строгая…
Вы верно видели, видели
Ночью Жерар Филипа
Ведь наверное он задумчиво
Смотрел за стеклянный мир
В волнах дождя и тумана
Руки скрестив стояла
Бледная тонкая панна…
Вы — а напротив — он
Он размышлял что завтра
Вечером умрёт
На сцене
А скоро в ненастный вечер
И в жизни умрёт
* * *
Если я спрошу зачем ты живёшь
И пахнешь животным запахом
И находишься именно в моих руках
Ты ответишь что я с Есениным схож
Такая же странность во мне…
Мне льстит конечно сравненье с великими
Я сделаю загадочно неизвестно что…
Сумею дать людям ночь эту с бликами
И твоё пальто…
Сумею сказать про своё окружение
Женщину пустую…
Про изнеможение, отражение,
Смотрение в мостовую…
Конфеты поздно открыты
В конфетах зеркальные стены
И можно видеть как смутны
Мои и твои черты
Можно видеть как мнутся
При виде твоём — мужчины
И женщины что-то предчувствуя
На профиль мой глядят…
Это — кривлянье людское
Мы ничего не стоим…
Слова наши пылью будут
Завтра же…
И волосы будут пылью
И стёкла и конфеты
Где много мужчин и женщин
Вечером в темноте…
* * *
Им тоже надоело бремя смерти
Как нам с тобой такую жизнь нести
И всем ещё случайно не потухшим
Потухшими глазницами цвести…
Когда-то вы до суетного ужаса
До распрямлённых на простенке шей…
Жили тонкими девушками
В России старых царей…
Запах парчово-молевый
И соболиная сухость…
С бледным лицом и с женщиной
Хожу я теперь мимо вас…
* * *
Я проживу бесцельный, незаметный
Никто не знает то что ты была
Что я ходил и слушал ветер
И дольние колокола
Церквей поблёкших и замшелых
И долго гладил
Дрожала в пальцах неумелых
Ты тоненькая вся…
Мы только дети века смерти
Пришли смотреть на лики богородиц
Одно из них — печальная — похожа
На твоё остывшее лицо
Ведь ты всё знаешь… Знаешь что напрасно
Хождение вдоль этих стен и камня
Когда-то белой старой штукатурки
Вдоль глаз и плеч усталых богородиц
* * *
А ты кто с мимолётными желаньями
Приходит чтобы быть чужой
Скажи какая жизнь тебя устраивает
И должен для тебя я быть какой
Может мне стоит пережить минуты
И добиваясь славы — быть борцом
Развить и грудь и мышцы
Чтобы люди
Склонялись перед мощным кулаком
Чтобы на ринге или на ковре
Мне аплодировали хлёстко…
* * *
Приди как артист цирка
Скажи — я артист цирка
И делай, делай вещи, как клоун
Как арлекин
Я прошлый артист выступаю
Своё ремесло вспоминаю
И в гриме лицо изгибаю
И чёрные рожи кляну…
Кому мы на свете любимы
И кто побежит ногами
С косматыми фонарями
Ночные улицы мимо…
Искать со следами грима
Ушедшего человека…
Ну кто побежит?
Спросит там где автобус
И там где трамваи
Вы тут его не видали
Он так недавно пришёл
Да, он бледный и серый
Как цирковые портьеры
Да — это тот, что счастье
* * *
Чужие деревья…
Я шёл через Кавказ…
Я нёс на палке
Оклеенный пузатый чемодан
И молодость была и было лето
И был в долине тоненький туман
И речка мне невидная шумела
Казалось мне она сильна
Вода должна быть изумрудно-белой
И изнутри песком освещена
Стояли великаны-чародеи
Оттуда снизу подымали тело
И там внизу их корни
Мощно впились
В живую твердь гранита и земли
* * *
Я и детства не имел
Сейчас в моём автопортрете
Найдёте вы что молод я и смел
Как безрассудны выросшие дети
Что я готов сквозь травы обрасти
Ключицею и тонкими костями
Которые едва пришлось нести
Между людей и между тополями
К всему я был исполнен ласки
К деревьям к дыму и к броску вперёд
И не любил я всяческие маски
Особенно когда наоборот
Вид у владельца острозубый
А он пытается себя укрыть
Улыбкой скромною
* * *
Неумолимое время как камень
Повисший на шее камень.
Время без женщин…
Без утлости без ущербности
Без веры что гладь волос
Избавит от всех вопросов…
Не надо будет бояться…
Ошибаться мучиться
Только женщина нужна
Самая лучшая
И сразу в мире уютно…
Блажь и тишь…
И ты спокойно ночами спишь
Не вскакивая не вытирая
Поминутно холодный пот…
Она лежит рядом живая
Она никуда не уйдёт…
Но все мы голодные волки
И главное — серость степей…
Не видя людей подолгу
Сильнее любишь людей…
* * *
Пустая пустая ненужная
Улица считает шаги
Вмещает шаги
Мои и других прохожих
Приезжих из других городов
Спешащих с чужих улиц
А у меня голубой закат
Яркий закат качается…
Плетётся по улице аристократ
И губы кривит — кривляется…
В полнеба закат
В пол-улыбки губы…
А половина растерянность…
Никому не любимый
Проживу чиновником
Не понявшим своё время
Зелёные пуговицы мундира…
Тёмная непролазная грязь окраин
Мы примостились в жизни с краю
С самого краю…
И будут рассветы листами бумаги
И будут закаты листами
* * *
Жизнь моя нелепая святая
Я как странник всюду лишь на миг
Постою помучусь почитаю
Пару слов из непонятных книг
Прочернею на кольце заката
Ты увидь пойми и не жалей
Разве мы живые виноваты
И в судьбе и в участи своей
Разве выбирать дано
Боль иль радость, слово или мрак
Обречён и я уже давно
Вызывать усмешки на губах
И недоумение вопросов
И тоски…
* * *
Что такого случилось
Это не событие большое
Под крышей жёлтых дождливых туч
Наклонились чьи-то глаза над тобою
Испускали мёртвый пугающий луч
Нет… Ты просто перестала быть ребёнком
На серой стене кто-то нарисовал
Белым мелом жалобного котёнка
И под дождём котёнок дрожал
Потом остроносый подошёл Буратино
Постоял у стенки, воду отряхнул
И в ближний переулок
В чьи-то окна
Заглядывать побежал
Там за каплями были голубые лица
Наклонялась голова, прикасались руки
Нам остаётся под дождями злиться
Белому котёнку, Буратино и мне…
Прислонённому к стенке…
Мокрый город провожал прохожих
Редких прохожих глубью зеркал…
* * *
Драма серой тусклой жизни
И дождей гудящих вечно…
Чёрной слякоти и камня
Источающего воду
Обними меня руками
В непогоду…
Обними, прижмись теснее
К мокрому плащу
Ведь всему, что сам умею
Я тебя учу
Как ходить жалеть, маячить
Никнуть в темноте
Наша клетка
Тесный ящик
Дождь нелепый и незрячий
Кольца теней от ветвей…
Белозубые улыбки
Нам далёких, недоступных
Чьих-то скромных дочерей

Девять тетрадей (1968–1969)
Первая тетрадь
* * *
А бабушка моя была прелестница
Бывало в кружево закутается вся
выходит вниз… и винтовая лестница
и плечи полоумные дрожат
А бабушка была средь кавалеров
И вечно кто-то подарки подносил
и руку надушенную хватал
и её рьяно целовал
И милый этот образ бабушки
во мне не трётся никогда
и помню эти руки бабушки
и как над ней горит звезда
В тазу ли моет голову она
иль пьёт шипящий чай
всё грустию и прелестью полна
И страшно далека…
* * *
Была мне стра́шна телеграмма
Пусть всё но чтоб не умерла
Какая дикая пустыня
Вокруг меня произошла
Темней и ближе мне та комната
где вся лежит в квартире номер раз
Какой уродливый любимый
непонимающий какой глаз
* * *
В дни печального тихого пенья
я один из друзей молодых
Положил я на камень цветы
и оставил надолго их
И когда я вернулся то видел
что засохшими были цветы
И когда я вернусь то увижу
окончательно скрылись цветы
Сколь предчувствий и страшных и близких
и примет и намёков предметов
сколько диких измученных близких
сколько старых пота́йных портретов
Возникающий жизни характер
из того сочетанья — тяжёл
и извечно загнув свою спину
я тоску свою слабо повёл
Тучи красные тучи собрались
молоток за стеной не стучит
уж сапожник садится с семейством
его фартук на крю́ке висит
И я частник — торговый братец
мой же фартук на стуле висит
И мой предок в могиле лежит
и его под плитою лежит
Только пальцы мои средиземны
Только тоньше и ярче лицо
Лишь вино моё реже и реже
озаряет улыбку мою
И берёстовый короб набросив
всяких цепок и пуговиц и крючков
я бессмысленно странно роюсь
среди пуговиц цепок крючков
* * *
Вот и тихо нагибаясь
вот и мило кувыркаясь
также горько надсмехаясь
жил на свете Нечитайлов
Украинских кладбищ кудри
говорили о любви
мраморной богини пышной
ко всеобщей тишине
* * *
Екатерина Павловна Лопухина
была простая женщина она
Екатерина Павловна страдала
от чёрной оспы умерла…
Вошли когда-то в двор её солдаты
пораненные воины спешили
и воду им она преподавала
болезнь с водою вместе забирала
и муж и дети всё вокруг поблекло
прямо со второго дня
Екатерина Павловна качаясь
глядела со второго этажа
* * *
Я зайду завтра утром в этаж
Некто Надя живёт в этаже
Эта Надя живёт ничего
Эта Надя живёт для меня
Мой тоскующий длинный нос
я введу внутрь её жилья
и пушистая клумба вздохнёт
под окном у неё наконец
* * *
Я люблю и тебя и меня
Я люблю свою славу, дружок
И себя и тебя и меня
и наш поздний часок
Я спокойный и сонный, дружок
Еле двигаюсь что-то ворчу
Я нечаянно ем и нечаянно пью
Я зелёный и добрый, дружок
Ибо я небольшой человек
потому и натура добра
И кусочек плеча изогнут
так как будто бы жизнь вся стара
* * *
Редко я ел в эти дни бежавшие
Редко картошку я целовал
Соль и хлеб прибавляя, и упавшие
было силы мои возвращал
Ах, коренная привычка к еде
на потолке нашем ехали лошади
толстые тонкие или вовсе нет
и большие они проезжали по площади
и та которую я ехать и вот… да
но летя я летел с вами с ними
и вся воздушная поддерживала среда
и отдельно летало милейшее имя
развевалось… вилось… а я был и я нет
Лента лента какая розовая
какая синяя какой девиз. привет
где смешно и где смешно. аллея берёзовая
вечер. чаны… пары виются
вверх виются и пары, шары!
и улыбки. улыбки льются
и пары и шары и шары!
цвет волос абрикос — водка, водка!
жёлтые сливы, жёлтые сливы!
ты — это длинная надувная лодка
вплывшая под вечерние оливы
вот и такова история вечера
кувыркаясь и падая и взлетая опять
и моя первая рука искалечена
и моя вторая рука раз пять
* * *
Голубь взлетая весело видел
чья-то подзорная тень прошла
Некто на голубя очи накинул
и побледнел как китаец в бумаге
Мама глядела на мёртвого сына
Сын был живой но отдельно взятый
мёртвый был мёртвый но мёртвый мрачно
весело мёртвый наедине
* * *
вы жили и были одеты
Ах, сколько вас много жило́
от вечера позднего лета
к вам тихое пенье пришло
Кто телом своим нанимался
тогда на земле в рабы
Кто странно чернел и сгибался
и потный, и скользкий был…
Цветочное море над вами
не веют ваши чубы
и выветрились с годами
позвоночные ваши столбы
* * *
от городов которых нет давно
какие неизвестные постройки
под вечер шло земное существо
и прислонившись у стены стояло
В окне их быт тёк небольшим пятном
и мать из тряпок сына вынимала
отец пришедший занимался сном
собака — изменившая — стояла
«Зачем ты предалась жилью людскому
Заботе их объедкам их
В тебе их преданном уроде
шум полевой затих
Ах, целой стаей дикой стаей
Бывало загрызали вы
Того кто пьяный заплутает
в снегу или в кустах травы…»
* * *
Боже мой! Я рисунок Валдая
Тихо помню и закрыв глаза
вижу местное чёткое диво
разрезной и хороший овраг
Ничего в эту пору святого
я лишь мальчик с свистящим ремнём
в длинном длинном пальтище своём
Как и счас ничего мне святого
Провод помню вверху протянулся
Нудно-серые плачут куски
Но однако назад оглянулся.
Ах, равнина Валдая моя
* * *
Город. Провинция. Доски
Бедный больной в окне
Бледный как дедовская бумага
Зелёный хмель на стене…
Праздник: провинция. пыльно
велосипед пробежал.
Бледный больной пугливо
смотрит в сторону шпал.
Взор заслоняет поезд
Бескровный больной огорчён.
Ему предлагают бриться
и соглашается он.
В это время взлетают
два петуха у окна
белого больного пугают
вздрагивает синеватая щека
* * *
За забором тёмный сад
сад тёмно-зелёный чёрный
и густой подымается аромат
и перелетает через
Что там что там в том саду
в том саду в большом саду
Частное владенье он
недоступен недоступен
в ночное время смутный шум
слабый свет заметен
кто-то ходит меж цветов
подобный королеве
кто-то ветви раздвигая
одновре́менно поёт
куча яблоков слетая
стук о землю издаёт
Там старинные одежды
различаются из тьмы
Там ковры лежат висят
и глаза у птиц блестят
в нашем городе он славен
и известен тёмной славой
в нашем городе он выше
в нашем городе он тише…
Провинциальная столовая
Была большая голова у той, что раздавала
вся пища жирная была и тихо колыхалась
в руках и красных, и тугих, и розовых от жара
на стенах лазали медведи всей своей семьёю
В одном углу сидел как будто турок
и что-то тихо думал, поедая
В другом углу сидели двое русских
и в чём-то давно кля́лись, выпивая…
Красавица давно минувших дней
сидела в чёрной шляпке за кефиром
а старый кавалер следил за ней
неподалёку восхищённым зверем
Картошка сладкая, котлета да уха —
вот всё, что эти люди ели
Клеёнка полосатая… вот потная щека
Вот женщина усатая и солдат полка
и только сидя грустно один я изучал
разнообразнейшие ихи чувства
их лбов строение и челюстей сложение
один лишь я салфеткой утираясь
я сам жилец на этом белом свете
и сам я столоваться прихожу
но чтобы так мне быть как люди эти
с глубоким липким ужасом слежу
Вот руки раздавальщицы мелькнули
мелькнули серые волосы её
Вот те кто получают повернули
к ней почернелое обличие своё
* * *
сегодня уж вишни собрали
и за огурцами по огороду сгинался отец
и сыну студенту забили
и в ящике всё наконец
Сложили на колени руки
сидят в своих синих пиджаках.
улыбаются в своих усах
Пыль по дороге да пыль
Отец ковыль да ковыль
приковылял из сада
из обширного огорода
фотографию сына урода
которого произвела природа
имея в кармане затем в кулаке
Завязали уже тесёмки на мешочках
Уже положили везут на лошадке
Уже и станция вот и приёмщик
Здравствуйте здрасьте возьмите.
Берут. и на колёсах везут
пыль вдоль дороги. пыль.
* * *
О виктор, виктор
мне твоя
необходимая подмога
о виктор ты ушёл в небытие.
виктор ты теперь у Бога
Помню как играл ты летом
на аккордеоне
как сидел ты на крылечке
пальцами сверкая
Чёрный волос смуглый вид
Дерево то старое
Вокруг всё стоит лежит.
Дом… крыльцо. заборчик
вишни честным что трудом
по́верху шумят
и пустынный старый дом
и копейки в ряд…
Сердце вздутое твоё
лопнуло однажды
И тебя в небытиё
увели под руки
На заводе это было
в шумящей работе
Так без смысла так без смысла
вы кончились, виктор
Меня грозная пугает
времени пучина
Потому не завожу я
ни дочки ни сына
Чтоб в работу не вставляли
их потеть и падать
Чтобы грустно не лежали
они на боку бы…
виктор ездил за грибами
шевелил губами
а теперь лежит внизу
зимою был положен
* * *
тюфяки и матрацы сушить
с утра вынесли соседние люди
удалось бы спокойно прожить
тюфяки да матрацы… да одеяло
полосатое всё. солнце жжёт
все поехали к пляжу и даче
кто работает душно тому…
я работаю… пишу да плачу
мне себя очень жаль, так жаль
мальчик, думаю, мальчик, эх!
и летает противный пух
и зудит от него лицо
всё так мерно противно едет
ну, быстрее бы что ли, скачком
кто пришёл и зачем эти вина
я лижу своим языком
вынесли сушить одеяла, матрацы
бегают вокруг них, суетятся
надоело мне это всё
не нужно мне здесь ничего
* * *
в вечерней пыли ползёт малый
одетый в тряпки, босой
с ободранной кожей, усталый
с запухшею гнойной щекой
Куда ты о детище тащишься.
родители где, что один
какие ужасные тряпки
глаза и мутны и пусты
на это мне слышится голос
«Из тульской я области, брат.
мне всё давно надоело
всех взрослых лживый парад
награды военных пред строем
убийства гражданских в тюрьме
и глупые лица подростков
паскуднейший вид матерей
Мне всё надоело, ушёл я
никто мне не нужен, один
и власти я не подчиняюсь
никоей иной как себе…
Равнины меня растворяют
как камень лежу я в горах
в воде точно тень я бреду
и я ничего не найду».
«Ты правильно делаешь, милый
возьми и меня с собой…»
«Нет, каждый быть должен отдельно
Иди-ка один, друг мой…»
И вслед я за ним притворился
и вид точно принял такой
к какому-то морю спустился
был вечер в пыли и сухой
* * *
всё в мире господско и серо
возьму свой цилиндр свою трость
пойду по осеннему скверу
серьёзный взволнованный гость
И щи́пля цветы золотые
с куста у дорожки песочной
отмечу времёна пустые
на ча́сах работы ручной
и кружево свиснет на ворот
и свисая из рукава
закроет всю кисть руки
которая длинна красива́
Всё это один выполняя
глядя́ свою тень на песке
поглажу собаку рыдая
приду… потру водкой виски
на кресла тяжёлые лягу
Скажу о-ля-ля вот и дождь
и книгу возьму и бумагу
и скажут: «Бумагу положь!»
* * *
вечер. окончен обед
пахнет борщом. и тарелки
и глубоки и мелки
стоят целым столбом
красные платья промокли
жёны почти что лежат
жёны советские съели
множество пищи подряд
голубь советский тяжёлый
сел на столовой окно
советский стол стопудовый
привлекает к себе его…
мужья говорят о службе
о командировках в Польшу
гляжу я в окно на лужу
твержу: «Нет! ни разу больше!»
Средь клумбы святой гладиолус
А кормят наверно борщом
икра и грузинские вина
как сытно как тяжко живём
* * *
милостиво радостно
глядя на нарисованные облака
о съедание курицы и петуха
о я упал в обморок, в меха!
милостиво радостно
глядя на нарисованные облака
Италия вечная светлая тёплая
шевелите шеей умело
белой такой же и длинной
шевелите ею повевая
как лебедя горло как горло
Утром облака распороло
и вышло чудо-младенец
вонючий как тьма.
* * *
все дни открыто и всемирно
жужжит река и все молчат
когда глядят — течёт обильно
река течёт подряд
Вот в воду весёлой ногою
ступила и там и стоит
на что это нужно порою
никто не поймёт, но не спит
В тюльпанную залу июля
входила в зелёном и длинном
и складки фигуру задули
как будто свечу вполовину
Коса ей на сердце свисала
и гру́ди под жёлтым лицом
подобно зверькам шевелились
которых погладишь потом
В тюльпанную залу июля
влетала тяжёлая птица
В зелёном и длинном наряде
в тёмном зелёном обширном
и летняя точка на теле
на бо́сых и радостных ножках
и летняя точка на супе
на маленьком пятнышке жира
и летняя также салфетка
* * *
Господин проходил через кухню
год был девятьсот десятый
кухарка ловила туфлю
босою стучала пяткой
со сна не понимая дела
по которому пришёл господин Стожаренко
она прятала деревенское тело
в форменную одежду
Господин Стожаренко был пьяный
обычно обычно легко
кухарку свою схватил он…
и всё это завтра забыл
В волненье по кухне наутро
она бегала хорошенькая ещё молодая
старательно как-то причёсанная
и его очевидно поджидая
Смеюсь я над ихней судьбою
О где это всё, это всё
кухарка, её опасенья
и сам Стожаренко, и сын…
* * *
школьник обольстительно стихами
говорил под вечер о любви
девочке лежащей на диване
и вино тянула из стакана
Блока замечательного Блока
ещё раз призвав на труд
школьник прочитавший Блока
девочку волнительно влюбил
Вьющиеся растения дрожали
как внизу трамваи пробегали
свои груди дети обнажали
целовали тело и ласкали
Блока, изумительного Блока
Александра Блока золотого
с зелёными и барскими очами
в жёстком и мужском плаще
Девочка сегодня принимала
своё худое тело отдавала
Он же не отказываясь брал
и свечой по комнате махал
* * *
вас просили, родной и печальный
напишите стихи о любви
что прошла, напишите скорее
Уж готовы стихи о любви
Пенье моря в развалины крепости
Округленье плеча на глазах
и окрашены в цвет несчастья
набегающие валы
Узник узник рыдай не скрываясь
Плачь, черти убегания план
хорошо это делать и горько
если знаешь что не убежать
Вот за этим занятьем всей жизни…
А ещё цвёл большой рододендрон
а ещё пробегали приколки
на твоей голове
В тёмной на гитаре играют
успокаивают свой порыв
и глядят и деревья колыхают
и птица поёт в перерыв…
по утрам работа на заводе
цех сотрясается тёпл и жирен
и грустно стоишь над кнопочками
на босую ногу тапочки…
В перерыв в столовой молчанье
Потом шум… пот… борщ
Воробей летает летает
Он сух, молод, тощ
Что ему меж железного гула
летел бы в поля в траву
солнце… зовут… мелькнуло
пойду… пора… печёт…
* * *
весна цветы и преклоненье
перед богинею в саду
и хриплое пенье
садовника в фартуке в лесу
холодную землю разрывши
стоит он и плачет. затем
прутик туда опустивши
уходит, светлея спиной
Он старый и я ему старый
и не умереть никогда
и вечно лесные туманы
и холодная течёт вода
Собравшись у лиственной тени
бумагу иль опись читать
стоит… ничего не читая
на буквы глядит опять…
* * *
я весь мелькнул
и нет меня на свете
каштановых моих и мягких крыл
я был безумный косарь на рассвете
я нечто новое косил
Душистый мальчик шёл в траве по плечи
мелькал наряд и волос белый
и звучали речи
меж ним и старым поседелым
что чуть поодаль шёл…
и мать беременную вёл
Рассыпанная эта тройка
казалось будто бы плыла
чесался мальчик и ложился
и отставал и шёл один
и на него старик косился
и называл его «мой сын»
Затем и ночь и их не видно
где спать легли. поели ли
А утро — снова видим их
на сей раз ровно четверых
уж мать роди́ла и несёт
завёрнутый кричащий плод
Они на речку натыкаются
и ищут перейти её
в одном месте пытаются
в другом пытаются
и лодку наконец находят
и едут… белая пена стучится
старик и мальчик досками гребут
а женщина в дитя своё глядится
и вдруг радостно кричит
Те что-то говорят ей
крайне медленно
им приближается песочный берег
но наконец сошли они и побрели
по песочной вздуваемой ногами пыли…
река синеет позади
и лес темнеет впереди…
тропинка к лесу раскалённа
и мальчик впереди бежит
его одежда разорённа
и длинными полосами, кусками висит
вот он в задумчивую сырость бежит
Влетел… и стал стоит
последней женщина стремится
она устала… далека
ей кажется дорога до леска
А мальчик лёг в тени и голову
он положил на кочку из травы
А всё вокруг тихонечко колышется
и тихо говорит: увы, увы, увы
и что-то ещё слышится
но не поймём ни я, ни вы
День напрягается он весь
перемещается на небо
всё солнце дико налито
и мышцы греют зло на землю…
Ах, верно буре быть должно
какая баня что за баня
а ты уж тут лежишь давно.
Ты молод, скор ты, милый Ваня,—
так говорил старик придя
и женщину с собою приведя
и её сына принеся
взглянув из-под руки на небеса
там облака объединились в тучи
оттуда скоро ветер дунул
и шапка жёлтая сбежала старика
а он махнул рукой, пускай
они забрались в гущь кустов
где как шатёр был образован
и тут как раз ударил гром
и молнья серебром блеснула
пошёл могучий крупный дождь
Ребёнок закричал заплакал
ему же сунула сосок
своей большой груди маманя
Так продолжалось полчаса
измокли все кроме ребёнка
но туч рассеялась краса
и солнце вышло сперва слабо…
Они пошли сквозь влажный лес
Деревья их окропляли
Они увёртывались только Ваня лез
смеялся тихо, ноги ставил в лужи
Подчёркивая лица набегала
порою синеватая полутьма
и вышли все на холм… лежала
внизу долина… и дома…
* * *
Гражданин Пивоваров явился
ранним утром работать устроиться
через бурую дверь он вошёл
в тёмный тусклый он коридор
Лампа еле горела без окон
Были стены… висели плакаты
И вокруг много было людей
Все стояли томительно ждали
Сколько разных окошечек, касс
кабинетов начальников тусклых
Сколько вытертых сзади штанов
проблистает бывает мимо
Старых женщин и молодых
за столами мелькают очки
как фамилия чем живёшь
это ложь иль не ложь, молодёжь
Гражданин Пивоваров беги
уходи поскорее назад
коридоры молчат и люди молчат
потеют и ждут и стоят
за щербатым столом уродица
она спросит тебя где наро́дился
что ты делал с кем в браке был
запрягут тебя брат, закружат
миллионом длинных бумаг
и на каждую ставят печати
люди в пыльных костюмах на вате
ты войдёшь молодой, молодой
и с цветком ты в петлице войдёшь
Выйдешь серым и страшным мужчиной
с папиросою скушной золы
Бог дверей Бог конторских людей
нарукавников, счётов, бумаг,
длинных актов и справок и выписок —
он сидит на шкафу
он из пыли
Пивоваров! Вы б не ходили!
* * *
К морю приехав давно-давно
вы виноград бросали в окно
Тёмное не нужно вам пальто
ибо очень тепло
Плавали вы и сидели один
сам свой себе господин
Ели затем вы один на газете
сам себе на всём свете
Шли по кромке воды и песка
море чёрное катилось на вас
Вы подбирали тухлую рыбу
и подобрать ещё могли бы
но надоело здоровие вам
вот вы легли, и вам
всё всё равно на данном свете
так ли не так ли
* * *
Бельё висит городское
за ним стоит человек
замученный от запоя
Ещё дальше деревянный домик
в окно высунут подоконник
на подоконнике сидит поклонник
А та которой он поклоняется
в домике напротив помещается
в окошке с розою то появляется то скрывается
А роза ярко улыбается
и девушка покачается покачается и скрывается
Поклонника парня вздрагивают усы
Ему очень горько
что времени она не находит
и вниз на землю не выходит
а только поправляет свои волосы́
* * *
Ели… плакали… кто-то смеялся
но и плакал он вместе с тем
Подавился кто-то. дивился
убегал и пришёл и приполз…
Вся их куча дышала стонала
Они были всему далеки
Было их немного, мало
и заплакать они легки
Над балконом стояли звёзды
неизвестный худой большой
там стоял и глядел и ушёл
а потом вернулся капризный
не приезжий ли это писатель
молодой человек из Орла
или может быть это призрак
молодой человек из стекла…
вся компания сразу упала
и молилась до света богам
и их слышали боги но только
ничего не сказали нам.
* * *
Паспорту не было… ехал по свету
волосы вилися ноги грязны
Паспорту не было… ел что придётся
вовсе не ел или спал
Вот карусели кружат в Мелитополе
юг, Украина, юг, юг
На деревянных лошадках сев жопами
железнодорожники возят подруг
Ты под кустом, безлошадный, но хочется…
Умер, едва двадцати достиг
Юг, Украина, лето, бормочется
свой сочинённый укра́инский стих
Не было документа… кусты пожелтевшие
От карусели пыль и крик
Это мимо прокручиваются толстые севшие
девушки потные. Юг, юг
В Бахчисарае под ветром зимою
ты вспоминал лёжа больной
двадцать лишь лет мне, помру, помираю
на карусели верчусь спиной
* * *
во мне струясь проходят годы
везу себя, тащу себя
стоят унылые народы
вокруг меня, вокруг меня.
и кто-то кто-то полудённый
ещё стоит, ещё желает
зелёным ликом он хрустит
спокойно волосы висят
кто хочет мудрым быть, кто мудрым
среди столового добра
тот должен просто не обедать
и делать странные дела
носить в большую бочку воду
а бочка не имеет дна
или таскать тяжёлый камень
с собой всегда туда-сюда
* * *
через утварь что в комнате стонет
разгляжу как разделась она
и сияя своими боками
прикусила зубами бант
время позднее — год шейсят восемь
что ни делай а всё равно
то ль целуй её как обычно
необычно ль её побей
как желаю так и случится.
время позднее… вот бы убить…
но закон мне грозится, грозится
и нельзя мне её убить
подхожу и сосу молоко её
я писатель мне можно всё
я держу её грудь килограммовую
и она улыбается мне
и проходит вся ночь в постановках
и в немых спектаклях для двух
что хочу — то себе и устрою
кроме только убийства что жаль
она плачет но мне изумляясь
она возит меня на себе
я возьму сейчас нож или вилку
и немного порежу её
а потом мы заснём и приснится…
я всё знаю я мелкая тварь
а она ещё ученица
и едва начала календарь
* * *
Да была лебедь и была Соня
И была Ольга, и была тьма
Я тянул пиво, я вздыхал спешно.
Мы считали, что тело наша тюрьма
Мы — я, Ольга и Соня
любили, лежали
Мы тёрлись друг о друга и пели
Кто-то из нас придумал быть в постели
жить всем вместе: и Ольге, и Соне
Вы недавно свою покинули школу
Я Великий писатель, нам льзя такое
Только стены холодные, что их разогреет
что сумеет их греть, их греть…
Я и Соня, и Ева, иначе Ольга
Я и Ольга, и Ева, и снова я
Мы мелькали в подушках
Мы мелькали телами
Мы ловились в батистовом нежном белье
Месяц чайником старым стоял над кроватью
Ваши бальные платья лежали в грязи
Таз с водою несвежей отражал старый чайник
Одеяло лежало в ногах горячо
Ольга, Соня — прижмётесь
в той коричневой комнате
Я Великий писатель, нам многое льзя!
Я не знаю, что сделать, чтоб выскочить, вылезть
из тесной великой восточной тюрьмы!
Вами была съедена сосиска
вы тогда же взволновались
потому что вы в своём костюме
ничему не подвергались
Громкие восторги раздавались
Серебряные иглы опадали
Бор сосновый сыто пахнул
И хотелось пренебречь сестрой
Ну, сестра, но тоже ведь жара ведь
Ну, родная кровь, но как пышна
Впереди идёт… поели только
Вот нагнулась… ноги как видны!
Скоро лес уже и кончится
Интересно… шея вон длинна
Она тоже смотрит… да как странно
Э, ведь тоже женщина она!
Макс
Был вечер некоторого дня. Он — человек по имени Макс сидел на берегу моря на той полосе песка, которая там была. Он сидел и разложил на песке перед собой свои предметы. Это были: будильник, который стоял и показывал четыре часа, резинка для стирания написанных на бумаге текстов и чугунный утюг небольшого размера и сухой рыбий скелетик длиной в 20 см. Был вечер, поэтому Макс не торопился и долго глядел на свои предметы, молчал и думал. «Ах, сколько у меня предметов,— думал он,— и такой есть, и такой, и даже рыбий скелетик есть. А ведь ещё вчера всего этого не было».
Так Макс подумал мозговым аппаратом и двинул ногой. А море шумело и подбегало, чтобы зашуметь и отбежать, ведь Макс состоял из трёх тысяч костей и десяти мыслей. Всё скакало в Максе, всё мешалось. Четыре мысли Макса были о четырёх его предметах, пятая — о воде, шестая о песке, седьмая — о небе, которое он видел над собой. Восьмая мысль была о самом Максе, девятая и десятая были ещё пустые.
Таким образом, у Макса было одиннадцать мыслей. Был вечер некоторого дня. Макс, песок, море. Предметы. Его, Макса, мысли.
Иду я — всё это вижу и запоминаю. Прихожу — пишу. Жил-был Макс, у него был утюг. Но кроме этого, ещё резинка, скелет и будильник и у него были собственные ноги. Он пока что сидит, но скоро пойдёт ногами и тогда уйдёт, и песок останется и может, он возьмёт его с собой или возьмёт предметы. Но дальше к Максу подошла коза и стала рядом с Максом. Тут Макс — там коза.
Наступила бледная вечерняя заря. Макс уехал на козе на восток. Взял только рыбий скелетик. Будильник, стиральную резинку и утюг оставил. Беспризорные предметы лежат на песке. Виден козий след, и он переваливается через холм, становится темно. Выявляется Луна… Макса нет. Проходит какое-то время. Вдруг звонит будильник и появляется что-то на холме. Что это? Это же голова Макса. Вот его грудь, руки. Вот голова козы. Да, они едут сюда. Стоп. Макс спрыгивает с козы. Идёт к предметам. «Я очень люблю свой будильник»,— говорит Макс, освещаемый Луной. Как я мог его оставить. Эх! Макс взял будильник левой рукой. Поднял правую ногу и сел на козу. Макс поехал, вернее, коза пошла. Вот уж козы нет и Макса нет на холме.
Филипп
Посередине пустыни стоит деревянный стол. Пустыня совершенно гладкая. Песок да песок. И деревянный стол некрашеный такой в занозах. Светит солнце. На столе в главной персидской позе сидит Филипп. Ему всего тридцать лет, а он уже многое повидал. На Филиппе шляпа, она ничего не весит, и вся прозрачная. Филипп не разговаривает. Он неподвижным находится. В руке у Филиппа яблоко. Уточнено: в правой руке меж трёх пальцев. Филипп улыбается всё время заученной загадочной улыбкой. Но яблока он не ест. Больше у Филиппа ничего нет. На песке рядом со столом лежит двадцать копеек. Но Филипп не видит их, иначе бы уже поднял и уехал из пустыни. Вот слышится шум справа от Филиппа. Там что-то чернеется. Не разберёшь что. А это поезд. Поезд подъезжает к Филиппу. Машинист в чёрной форме с серебряными зубами подходит и говорит: «Садитесь, гражданин Филипп, поедем». Филипп без движения и также улыбается. Машинист уходит назад и выглядывает в окошко. «Ту-ту»,— говорит он и машет рукою. И поезд проезжает прямо возле Филиппа. А он ничуть не шевелится, только покрылся потом. Подымается ветер. Он метёт песок. Кто-то идёт. Но кто? А это сменщик Филиппа — его зовут Мальва. Он хороший парень. Филипп даёт ему яблоко, слезает со стола и уходит, не оборачиваясь, по песку. Мальва говорит яблоку: «Я Филипп номер два, а не Мальва» и делает улыбку, как нужно. Ещё есть усы. Веет ветер песком.
Коля
Бассейн из кирпича размером три на три метра. На краю сидит Коля в коричневом костюме. В руке его удочка, в кармашке платочек в горошек. Вода тёмно-бурая. Удочка опущена в воду. Вокруг зелёная трава высотой в десять см. На траве пасётся собака, она ест траву и поглядывает порой на Колю. Но близко не подходит. Тишина. На потолке, который деревянный, ни облачка. Вдруг из бассейна вылазит голая прекрасная женщина. Она выжимает волосы и говорит, что Коля последнее время ей нравится. Уже долгое время она его любит. А сегодня она пришла, спряталась в воду и дышала через трубочку. И что, мол, не выдержала вот, вышла. А что собака смотрит, так это ничего. Коля не отвечает и не шевелится. Женщина говорит, что, мол, ответь, Коля. Коля молчит. Тогда женщина хватает его за плечо. «Ах, ты пренебрегаешь моей любовью, пренебрегаешь»,— и она щиплет его. Но Коля не двигается. Тогда женщина рвёт на нём пиджак. Пуговицы отлетают, и из-под пиджака сыплются опилки, мука, и ползёт тесто. «Ах, Коля, ты, оказывается, не настоящий»,— говорит женщина и прыгает в бассейн. А Коля совершенно распадается. Голова куда-то подкатилась. Подбегает собака и нюхает Колю.
Лилия
Лилия ехала на лодке по широкой синей реке. В лодку был запряжён чёрный сильный конь, так что его совсем не было видно в волнах. Лилия лежала на спине, и голые её груди смотрели в воздух. Большое тело, роскошный живот, хорошие белые ноги, и всё приятного цвета с синенькими прожилками, как мрамор, лежит и смотрит в небо. А конь везёт её по реке, и вверх завиваются огромные барашки волн и такая пена, и всё бурлит. А Лилия не изменяет выражения лица. Вот до неё пятьдесят метров, вот меньше. Вот она рядом — вот её страстное прекрасное лицо промелькнуло, и вот до неё пятьдесят метров и уже сто и больше. Вот — Лилия точка. А вот нет и точки…
* * *
Я люблю мясо, коня и курицу
Я люблю цаплю, быль и беду
Я люблю подушку и школу
Всё заколочено и всё протухло
Меня вывели, чтоб опять привести
Очень плохо с их стороны
В городе весна, болтает соседка
Она маркиза, она кокетка
Не верю ей, не верю ей
Подайте мне пальто скорей
Горит железный свет на небе
И кто-то быстро убежал
И засевая смертью площадь
здесь танк могучий проскакал
Любовь побита и побита
Огни сидят в землянках лишь
А если уж любовь побита,
то ничего не сделаешь.
* * *
Давно уже окна повисли
И шторы на них не шумят
В огромнейшем озере плавать
никто не осмелится счас
Болтают ветвями ивы
Летают вороны, гремя
Какой-то пустынник пугливый
прошёл, полосами летя
Знакомый мертвец Серёжа
лежит под плитою тихо
И рядом плита, и вдали
И будто её унесли…
* * *
Водишь кратким пальцем по бумаге
Даль и близь… и близь
И течёт в овраге
ручьём чёрным слизь
Мир был остр как гвоздь железен
Доски у моста
всё глядели острыми глазами
на врождённого меня
и теперь красиво то что плохо
раньше было… в сквере пионер
и ушла великая Эпоха
жизни у страны ЭСЭСЭСЭр
* * *
Жара. Уж пышная сирень
и отцвела, и полиняла.
Писать выдумывать мне лень.
Пишу, что вижу, что попало.
Теперь понятно мне уже,
что есть предел желаньям, силам.
И остановка точно есть
движенью вдаль, стихам прекрасным.
Печально это. Сизый сон
едва прогнав — тащу обратно
И ничего не хочет он
А только было бы приятно
* * *
Его золотистые ноги
кусала больная пчела
По берегу женщина ходит
и шляпа её на плечах
Стекают завязки на шею
и зонтик в прохладной руке
Старушка бесцельная рядом
уселась в тени в уголке
Идёт благородный мужчина
высокую цель он несёт
Кормить зарождённого сына
костлявая мамка бредёт
И тучки нависли, служанки
с базара уже все прошли
И слесарь, водопроводчик
меняет общественный кран
* * *
Люблю я славно молодую
свою рубашку на плечах
Её по слабости балуя
вином я лью её во швах.
Рубашка моя дорогая
лишь темь настаёт только темь
уж и крадусь, пригибая
с собою совместно тебя
* * *
Зима и шесть колонн у дома
и стужа, холод меж колонн
И коридор… квартира двадцать
и колокольчиковый звон
Хозяин он в пальто и шапке
Вино и водка на столе
Огромный шёпот средь гостей
и восемь ламп и все горят
Цветы стоят и озаряют
Лицо лежит, икает, врёт
А магазины закрывают
и он за водкою идёт
Люблю я детскую кроватку
в углу стоящую без дела
А также кожаную папку
в которой люди омертвело
взирают на меня с улыбкой
их нет на свете, давно нет
они лишь образы пустые
чубы и бороды лихие
кавалерийские глаза
и гимназическа слеза
Таким я образом уставлюсь
смотрю смотрю не говорю
И всё что нужно я запомню
и удержу среди себя
Меня волнение толкает
всё дальше дальше от людей
А кто-то нервно отрицает
цивилизацию людей
* * *
Жила-была на свете
женщина одна
И странная особа
была подчас она
Всё это в то же время
как я на свете жил
и как-то по несчастью
ту женщину любил
Она пойдёт в аллею
и я за ней иду
Она лежит болея
я тоже не в саду
Но камнем мне тяжёлым
та женщина была
Она от высшей школы
от дома отвлекла.
Она меня учила
пивать вина, стихов
И после тех учений
поэт уж был готов
* * *
Как вчера зажигали Кручёных
Так стоял я в слезах под очками
Так же в гробе лежать буду я
И такая же участь моя
В полдень душный сойдутся немногие
И придёт Лиля Брик под зонтом
И лежать будут косточки строгие
Будет парить и жечь под дождём
Молодость, переходящая в старость
О дай Бог тебе меня взять
О дай Бог моя молодость нечто
От горячего мира отнять
Я люблю колумбариев тихость
Эту женщину белую всю
Убежать мне нельзя от земли
Уж его в огонь повлекли…
* * *
Кричит петух залива
Пора уже вставать
Коническая слива
цветы начнёт бросать
И на помост зелёный
вступив ногой босой
как бы пастух влюблённый
я крикну: «Время, стой!»
С причёской деревенской
она идёт ко мне
Наклон её фигуры
несёт мне молоко
И в том, что я писатель —
бессилие моё
Ах, был бы я мечтатель
и только, и всего
Лежал бы, кверху голову
и облака следил
Наследовал отцу бы
и в армии служил.
Имел оклад — две триста
вставал бы в шесть часов
вступил бы в коммунисты
имел бы пистолет
Жена бы моя ела
и ела, и пила́
квартира бы горела
от хрусталя, стекла
И дочь бы или сын бы
утрами в школу шли
учились на пятёрки
и ездили бы в Крым
И с рукавом коротким
рубашки расписной
я был бы добрый дядя
с широким животом
* * *
По тому, как бледнеют цепочки
на дверях холодных квартир
может выйдет что это стучатся
каждый день заявляясь в мир
или может бледнеют цепочки
на дверях прохладных квартир
что еврей темноокий Изя
изумился своей жене
По коврам по пыли по селёдке
проходила пара шаля
Он трогал её за локо́тки
И говорил: «О Сара моя!»
И этим пугались шторы
И криво висело зеркало
откуда бескровные лица
вели свои поцелуи
* * *
небольшой медник, небольшой сковородник
на кривых ногах входит в серенькое поселенье
Улицы выбеленные в пыли
встречают его с наслажденьем
Вся сумка котомка и вся тесёмка
опоясывающая покатое плечо
и улыбка как стеариновая свечка
на губах ютится слишком горячо
Болен медник, небольшой сковородник
в поселении живут борщ едят
Болен медник некоторые дни подряд
а он и без этого был уродик
Дико ему что все жители пьяные
что они толкают его и котомку
Хорошо что нет у меня девчонки
что нет у меня никакого потомка
Дико ему что они цветные
и топчутся и дерутся и бьют его
и на углу он стоит и глаза его больные
и там и сям мелькают люди средь сапогов
Я медник я сковородник
Я иду и котомка идёт
Сколько в поселении уродиков
и ещё сколько подрастёт
Вот подрастающие дёргают за волосы
Лыс, лыс, срывают шапку
Валится медник сковородник на землю
Всё это происходит осенью
Человек в саду
Ему бродилось. Его звали Берсений. Меж деревьев. Ноги — как можно, так и ходил он. Началось с левой его руки. Она покачнулась, она вздрогнула, будто не рука, а, допустим, ветка. Что-то её вздрогнуло. Она три своих пальца поддёрнула. Сразу же. А до этого ничего не было. Был полный покой, и стояли глаза на месте. Очевидно, не было и дыхания. Неожиданно всё-таки это произошло. То что вздрогнула рука. И тут-то всё открылось. Всё задвигалось внутри, задрожал желудок. Передачи организма что-то передали по своим тонким нитям, и тогда уже качнулась голова.
— Э, нет,— сказал он,— это не моё дело. Я Берсений Критский — и хочу, иду, хочу — не иду.
Я, конечно, пойду. Но какая же местность. Где это случилось всё. Я какого роста. Я метр восемьдесят. Это я знаю, и что худ знаю. Вот висят часы на ветке за ремешок прицеплены. Ремешок чёрный и грязный. Был ли он чёрным раньше? Очевидно, нет, можно всё же заметить, что цвет его не чисто чёрен, бурый это цвет. Очевидно, ремешок был коричневым, а затем уже стал чёрным от пыли и пота. Потеют же, когда носят его на руке. Сколько он достигает длины 26 сантиметров. А посередине его часы. Диаметр часов 35 мм. Сколько времени — не понять. Восемь дырочек на ремешке, а три из них зашиты зелёною ниткой поперёк ремешка, и одна нитка зелёная порвана. Висят часы с ветки и чуть качаются. Ветка без листьев вверх росла, но часы её вниз согнули. Вот тут ветка входит в более толстую ветку, а та — в дерево. Дерево же поднимается из земли. Вообще можно посчитать, что это и куст, а не дерево. Чёткой границы меж кустом и деревом нет.
Что же мы видим, земля-то какая. Я вижу, что она бурая и немного на ней зелени. Это ничего. Всё же можно поставить на неё ногу. Берсений Критский переставляет свою правую ногу и делает это прямо перед собой. Часы теперь почти касаются его лица.
Показывается из-за горизонта солнце. Оно показывается и скрывается вновь. Горизонт — как обструганная лаковая доска. И всё вокруг полированное дерево, и стоит Берсений, колебаясь идти. Наконец шаги его простучали.
* * *
Горячие ворота вертелися на месте
О летнее издошье — ты напоило!
Горячая и шея — и грудь, и две лопатки
Горячее колено, варёная голова
Все стены что в картинках
теперь в других картинках
Ещё раз взглянешь — в третьих
под действием жары
Та муха, что тяжёлая
уселася на вилку
сидит уж там все два часа
не могучи сойти
В открытый двор ведёт окно
железная там жесть
и дерево потрёпанное
в пыли и кислоте
В одной руке моя жара
В другой руке твоя жара
По душной страшной скатерти
разложен вздутый хлеб
Тарелки пышут мясом мягким
а жир готовит умереть
И тихий кран водою жидкой
спешит как молоком стекать
Сидит хозяйка на скамейке
в одной рубашке на плече
и ноги красные стоят
и руки потные лежат
Во взбухшей гру́ди теснота
и взгляд стоит на занавеске
И летней жизни чепуха
Чулки откинуты, подвязки…
* * *
Всей чёрной стайкою своей
влетело бабочек перо
оно играло и росло
оно садилось на пальто
Ремень лежал ремень блестел
Диван под мною чуть скрипел
Один я был и потолок
посетил бабочек кружок
Один лежу один гляжу
Какое-то густое семейство их на потолке
они дерутся меж собой
в полутемноте луновой
Мне книга есть мне книга есть
я эту книгу пересёк
я знаю я совсем не здесь
я там я там где потолок
я лейтенант меня зовёт
к своей армейской службе часть
но есть иная тоже власть
она мне полночью придёт
* * *
Жил неподвижно в зимней столице
старенький уж, и в карты играл
Припоминал удалённые лица
Частные праздники упоминал…
Жён своих нескольких —
Первую, третью
Их пережил, и мягкий глаз
Тихо ехал по всем на свете
Не изменяясь при виде вас, нас
Был он когда-то и плотник, и книжник
Был лиходеем с дороги большой
Он и убил, и родил двух мальчишек
Всё затопило время рекой…
Где-то убитые в рощах погнили
Как-то мальчишки делись куда-то
И не пришла за убийства расплата
Те, кто знали, не сообщили
Утром фанеровым встаёт и зевает
Был бы писателем, был бы вождём
Нет, говорит, очевидно, что в мае
Мы, Генрих Вениаминович,
С божьей помощью и помрём
* * *
Иголка и нитка, и я портной
И день весь стучит и меня согнул
Я так и войду в любое окно
Портной — поэт, писавший портной
Я был человеком с кривою улыбкой
решивший писать в летнем углу
И, вечно стоящий с длинною ниткой
Босой на чужом наёмном полу
Видны ли вам домики, деньги, рублики
Видны ли вам волосы на голове
Что ел я, в желудок бросая на дно
любому и каждому всё равно…
Однако мою составляют историю
десятитомник стотомник судьбы
Пошитие брюк человеку с размерами
такими-то в течение семи часов
О власть-механики и технологии
Руки мои движения делают
Я живу и пою, как ночная корова
И всё снова и снова, и снова
* * *
строили люди себе Вавилон
дело под вечер склонялось
кое-что сделали. много осталось
Спать улеглись Вавилон оставив
Утро совсем раздавалось рано
никто отдохнуть не успел
встают и спешат ещё средь тумана
несут камень бел
Строили люди себе Вавилон
Под новой стеной вавилонская мать
кормила вавилонское своё дитя
вавилонским козьим соском
Грудь вавилонская трепетала
Пыль проходила стены росли
сделали ещё очень мало
Дело ж под вечер…
Спать полегли
* * *
на красное бельё
ложусь я нынче спать.
Огромная жара стоит и липнет вся
Пахучая тоска
как жирная паучиха
висит от потолка
Тушу я бледный свет
и свечку спичкой поджигаю
и запах возникает
Я древний нынче судья
осудивший на смерть сейчас
и моя пухлая рука
лежит и потеет всегда
Подряд возложили со мной
других ещё вдалеке
и запах стоит вековой
о теле убитом в носке
и сад под Луной полосой
о сад на окне маловат
но там кипарисы стоят
главное оливы стоят
там лавры также стоят
и свечка и свечи кадят
Я был молодой судья
остался всё так же я
на красное лёг бельё
какое же имя моё?
* * *
Я помню землянику
Средь леса на поляне
Я помню как я пас
Корову на дурмане
Она меня ждала
И головой качала
Она затем пришла
Чтоб чащу показала
И лес молчащий вдоль
Сказал: интеллигент
Здесь столько разных воль
Царит же здесь момент
Живи как будто там
На озере в глуби
Всё время лебедя́
И с женскими грудьми
Поверишь или нет
Корова вновь спешит
Её единый рог
Показывает внутрь
* * *
Красные сфинксы
Белые лютни
Много красавиц в белых носках
Стеклянные сосуды
Пронзённые цветами
И аромат дымов и едкий страх
* * *
мечта чернозёмной холодной России
есть виноград Италии
там на красных теплых камнях
море не думает о людях
оно лишь шумит и отходит
уж видно морскую капусту
а вдалеке его пусто
лишь только корабль там проходит
матросы сидят в воду свесили ноги
счастливы счастливы они
они побывали сейчас в подвале
уже они пьяны плывут
Назавтра никто не увидит берег
А я здесь при шляпе в пальто
И жутко смеётся швейцар здоровенный
в учреждении где я никто…
Пришёл я примите меня на работу
и все коридоры прошёл
где тёмные двери стояли без счёту
и где был большой тёмный пол…
мне всюду сказали что я мечтатель
что я прирождённый артист
такие на службе служить не умеют
таких никуда не возьмут
и многие двери мне то подтвердили
что я ушёл наконец
при этом во мне расшумевшись ходили
пять моих утомлённых сердец
В дороге в трамвае в стекле замерзавшем
увидел Италию вновь
на корабле старинном паруса подымавшем
запел поп Иван про любовь
* * *
Город паршивую девочку
взял утром под локоток
вывел её в магазин бакалея
купи себе пищи кусок
Она долго рылась в карманах
но денег она не нашла
Ах, Боже сама виновата
зачем же с завода ушла
приятный с бородкой мужчина
в бобровый дышал воротник
сказала что может родить ему сына
он ртом поднял крик
Пришла и милиция Надьку забрали
в районный отдел отвели
горячего чая ей дали
и села на лавку вдали
и те кто туда заходили
нисколько её не жалел
и толстые лица блестели
а время будильник поел
* * *
Да, там где двенадцать стучало
и ехал безумный романс
там швейная машинка урчала
съедая меня
когда своё время припомню
всегда я шил и шил
и вся голова в пошивах
и вся голова в иголках
Утюг огромный шипучий
Вода и длинный шнур
и пар едкий вонючий
летающий стаей кур
мохнатую шляпу на осень
себе я сошью и всё!
тогда уж пойду деревенский
ничто я не знаю
как шить
* * *
Лёгкое лето прошло
тяжкое лето сидит
гром а большая стола
лампа горит да горит
малые тонкие псы
в тёмной квартире барсы
Чёрных чёрная голоса
вуа, вуа, а…
Техника за стеклом
движет часами большими
китель сданный на слом
звёздами выпукл своими
Был офицер стал нет
Играй на гитаре папа
Твой сын он приехал в ответ
Раскрой ему струны пожалуй!
* * *
Вершина вверх дрожала вся
сосна металась как поймали
вот миг когда придёт гроза
ужасная и в чёрной шали
Василий друг вверху темно
и воет, воет сладко
скорей вперёд вон там окно
и лампа светит иль лампадка
Там впустят нас и сядем мы
поожидаем нежно молний
И стоны красные сойдут
и стоны лакомые тут
Но громкий час опередил
уже нам не добраться
Всей тушей дождь на нас полил
и огонёк нам заслонил
а там ковёр и верно платье
ведь дачи место дачное
и чай пожалуй нам суждён
Да наше дело мрачное
В семи кустах застряли мы
не выйти заблудились
им здания из тьмы
лишь сильней стеснились
Там врач живёт там врач живёт.
я знаю знаю точно
У ней под платием живот
она красива чем-то
* * *
Вот теснота и обрубки
Смотришь на мир сквозь себя
Ходят пастушие дудки
за уши нас теребя
мальчика кислых щей
щиных старых паров
хлеб и десятки вещей
вплоть для завивки щипцов
Сахар кололи щекой
между зубов зажав
Помню в саду меж собой
вместе с тобой разговор
Забавно как выглядит юность
в пёрышках вся и в духах
душные шубки душные юбки
душные сны в волосах
Первое дело — смешное
Второе дело — туман
Третье дело пустое
Все вместе проделки — обман
Всеми предметами сразу
пользуйся в жизни своей
Брейся, ешь вилкой, ножом отрезай
Карандашом дави, ртом своим напевай.
Однако однако — пустое
в пространство летят только те
кто ходит огромное босое
поле поливать в темноте

Вторая тетрадь
* * *
Богатый француз европеец
вдали поливал огород
и на мосту стояли, в дудки трещали
подлый свиной народ.
Волосы вольно напялив
грозно глядит с этажа
тёмнобородая третья Наталья
которая жизнь сожгла.
* * *
Божьи коровки небольшого размера
тихо метались по прилегающим кустам
в мутном узоре лунного света
стояли пылинки ночных цветов.
Божья коровка перенеслася
села на листик близ рукава
тихо Татьяна как листик сидит
ей это вредно, луна и трава.
Вечно скакают под ветром коровки
точечки их убегают бегут.
Больная Татьяна сидит с рукавами
что буфами за спиною её зовут.
Эти коровки по всему земному шару
уничтожают блошек и тлей
красные жёлтые рядом с Татьяной
по земному шару летают в луне.
* * *
Зудит какой-то мухи плач
на кисее она сидит
темно в дому лишь лунный меч
через всю комнату висит
над всей моей фигурой голой
что на кровати вверх костьми
над сном что шествует по полу
с жёлтым брюшком и короткими ножками.
* * *
Осенью в мокром лесу ветвистом
как бы голые шли деревья
вот и ручей протекает неслышно
да и кастрюля плывёт по нему
донные заросли чёрные-чёрные
глину кастрюля скребёт
кто-то на камушке севший старательно
пищу укромно жуёт.
Город тут кончился. Место пустынное
мостик… овражек… холмы
рваный калош шаловливо играет
вдруг вылезав из волны…
Листья бумажные
с строчками гения
тоже плывут комком
не разберёшь уже стихотворения
рядом дымит чёрный дом.
* * *
День моего отъезда был совершенно серым
Кружились облака, машины тарахтели
На строении высоком флаг прыгал державшись
и грустная блондинка шла от меня спиной
Подумал — покидаю быть может и навечно
не жаль, не жаль, не жаль мне этих мест.
Однако день был серый
и порт был весь закрытый
и жёлтая калитка стояла на замке.
* * *
Красиво меня обнимая
лежала она на цветах
и пища вокруг помолчала
и мятный куст пах
и яблок связки висели
деревьев было полно
и что-то во мне находилось
что не было мне смешно.
Она осознала тоже
и обратилась ко мне.
Ещё она крикнула: Боже
зачем же лицо темней
На за́мке огонь исчез
и больше не возникает.
На что теперь нам закричать
когда всё вокруг пропадает.
* * *
Толстый стебель розы
розы безобразно красивой
которой плоти огромный кусок
висит просто так
и я молодой и всемирный
свой день изучаю молча
и я протяжённо гляжу
на то, как сам я лежу.
Цветы и цветы и машины
железной моторной силы
и вязкие человеки
в цветах и цветах и машинах.
Природы безумное утро
Для смертного человека
и розы холодная пудра
и холод подъехал.
* * *
Я люблю городскую старинность
и зелёные здания стен
я люблю и небес игривость
и осенний вкус и свет
и то, как небесный просачивается
в попятный семейный склеп
и то, как тихо истачивается
древоточием древо лет.
Во мгле висят костюмы
они принадлежат мне
Древние бархатные эти костюмы
висят на зелёной стене.
Я дом безобразный имею
все комнаты его стары
и львы из бронзы и змеи
попирают телами ковры
Приходят босые ноги
с окрашенными ногтями
приходят небольшие груди
со своими двумя остриями.
Я так весь свет знаю
мне бы купить корабль
и я бы тогда с тобою
привязал его к дереву берега
ты вот она, вот она, вот ты
тебя не спасёт твоя ткань
разденься садись на льва
и пятками бей в бока.
* * *
Испускают цветы пузырьки
из глуби бутылки наверх
полно бархата и мехов
и полно машинных снов
в автомобиле своём дорогом
вы духами окропили кабину
ваш безумный шофёр вас повёз
и бросает в стёкла взгляд
мёртвый мальчик на вас он
впечатление бросил своё.
Переделал он вам лицо
удлинил его он и сжал
Мёртвый мальчик ваш сын
он ушёл в мертвецы один
и унёс он с собой букет
на котором цветов нет
и глядит ваш шофёр вкось
он в фуражку одет и в форму
Вы рассеянно гладите кость
своей дорогой сумки
Свет бел бел беловат
чуть-чуть вы не задавили
ругается сзади солдат
которого только толкнули
Бинокль из сумки вынув
глядишь через заднее стекло
ничего уж не видно нам
и богатый закатный цвет.
* * *
Я уеду куда-нибудь вдаль
непременно смеясь и грустя
Одновременно эти чувства два
будут мучить меня в корабле
и в отдельной каюте своей
я под вечер не усижу
и приду в ресторан в ресторан
где играет оркестр и туман
Закажу я себе вина.
То некрепкое и кое-как
буду пить буду женщин глядеть
так как будто я завтра умру
и когда уж настанет момент
все уж чувства сожмутся в комок
я к какой-то из них подойду
я скажу ей: «Простите, дружок,
Молода вы и верно ещё
не встречали таких, как я
я, представьте, поэт, да, поэт
я как Блок, и как Лермонтов я».
И она мне протянет в ответ
свою руку и скажет что вот
она руку свою подаёт
поцелуй ей давайте скорей.
Всё прощально, сентябрьски всё
всё унёс и всё утащил
наконец когда пухлый корабль
и привёз меня, и уложил.
* * *
Затем в далеке медно-розовом
на лапах студёных стоял
один и запах сосновый
волк изумлённо вдыхал.
Ему уцелевшему волку
одетому в шерсть внутрь
сейчас зародятся звёзды
и тупо взойдут кусты.
* * *
Нет, не всегда порывы бывают
и так редки основные стихи
О главные слова во рту побывают
и уйдут, не достигнув руки.
Как печально, нехорошо как
сидишь сидишь не льётся с меня ничего
о как печально, нехорошо как
рамки жизни моей узки.
* * *
Подлая няня лежала на траве
Она забыла о беленьком ребёнке
А ребёнок спал в уголке
и голову положил на цветочки.
По тропинке к пруду шёл мужчина отдельный
его глаза болели и жгли
он книгу нёс под мышкой своей
и няня его увидев, говорила:
«Чего это вы ходите, гремите сапогами
Ребёнку спать мешаете.
Своими вы ногами
Зачем вы книгу носите
Посередине дня
Идите вы отсюда,
не сердите вы меня».
Мужчина, пиджак одёрнув
и подтянув клетчатые штаны,
сказал: «Всё это вздорно,
я не уйду, увы.
Старинному ребёнку я, значит, спать мешаю,
да он мешает мне ходить,
когда хотите знать».
И вновь мужчина заходил,
забегал по тропинкам
А няня, гневная вся став,
Уже бежит за ним.
Они бегут, они бегут,
Ребёнка из виду теряя.
А похитители детей
явились не моргая
и в летний день в особый день
они схватили крошку
его засунули в мешок
и убежали в сад.
Вернулись няня и мужчина
и примирённые уже
а от ребёнка только след —
кусок травы помят.
Тут плач, тут вой, заходит солнце
Куда идти, куда бежать?
А похитители детей за десять километров.
Заходят в чей-то старый дом
и предлагают сын.
* * *
Дело было в заре
Дело было на стуле
Вы сидели одна
и болели внутри
и лицо Ваше тоже
отражало все боли.
Говорили Вы: Боже!
отпусти меня, что ли.
Море было внизу
море гулко стучало
на сандалии Ваши
садился туман
уж колени в тумане.
Уж во тьме закричало
что-то, птица, быть может
или зверь, иль баран
Волочились огни
внизу города бывшего
там горели уже фонари
и у Вашего сердца
никогда не любившего
пена розовая истекла.
Только к вашему стулу
примыкали развалины
пели глухо старинные камни
и одни старики все в перчатках и галстуках
и в жилетах шли сотнями вниз.
* * *
Спускаясь вниз на пляж
где люди почти голы
они где хороши, там улыбался я
в особенности женскому девическому полу
и был угодник дамский я.
Захочет ли она орехов иль мороженого
воды ль, вина ль
уж я бегу, уж я несу, что требуется
с улыбкою ей подношу.
Возьмите, дорогая, плод
Откушайте его зубами
хотите, миленькая, плот
коляску ли что с лошадями
иль может быть сейчас
мы прекратим жару
давайте вместе поплывём
на длинную скалу
она американка девочка
американский шик
она спортсменка эта девочка
и белокурый вид
И мы идём, играя вместе,
шумит нам море, поиграв.
Но тихо черви тех едят,
кто были пару дней назад.
* * *
Никто никогда не скажет,
что я был без толку красив
я всё применил в себе
к ужасному миру порой
Вот сейчас мне идти на пир
Буду ль весел я на пиру
Криклив этот мир, этот мир
я в нём своё место сотру
никто не скажет, что был,
что камни собой дробил
и что в городском саду
на зонтик ловил весну
и зонтик зелёный был
владелицу эту любил
владелица эта ушла
оно даже к лучшему мне
хотя ведь вначале мне
всё время болело в весне.
Я был двадцатиоднолетний…
I
Я был двадцатиоднолетний
у моря ракушек искал
и с мокрой горячей шеи
поток на камни стекал
уже залезало солнце
и в берег сильнейше стучало
хоть тихим было начало
но моря характер устал.
Я был двадцатиоднолетний
и был счастливее, чем счас
Давно уж пиджак потерял
совсем я ободранный стал.
Тогда же костюм имел
и туфли имел, и шёлк
когда я вечером шёл
то за мной прыгал успех.
Теперь же никто не смотрит
едва кому нужен я
У моря ракушек искал
а ныне я скушный стал
Фантазия блекнет моя
сижу одинокий я
хотя б меня чай подбодрил
Я вновь бы картину узрел
где море ракушки кидает
а я их за ним подбирает
в сумку большую кладёт
и стройным, и смуглым живёт.
II
Тогда было дивное лето
Один я тогда не ходил
На все мои мелкие празднества
я вечно девчонок водил.
и разных, и многообразных
и тронутых грустью и нет
и был для меня вечный праздник
которому несколько лет.
Ещё суждено было длиться
но разве кто знает, что впредь
И с ним, и с друзьями случится
чья ж очередь умереть.
III
и вот я на тёплых досках
живу я в этой избе…
хозяин отдал её мне
на лето отдал её мне
и вот я на тёплых досках
лежу перед ночью дыша
вверху обязательно звёзды,
которым нету конца.
И мне до того колоссально
и мне до того тяжело
гляжу гляжу вертикально
на крышу меня занесло.
Я думаю вот человек я
и кровь моя ездит по телу
Какой-то летающий я
но сказана участь моя.
За что же с начала с начала
записан я в мертвецы
как записывали в семёновцы и преображенцы
своих сосунков дворяне-отцы.
Всё сильнее я приближаюсь
ну ладно… допустим, смерть — факт
но если такое дело
так нужно мне жить ой-йой-йой
Каким же мне образом жить
иль мне с пистолетом входить
в сверкающий златами зал
а я в тёмный угол сбежал…
IV
На тёплой крыше ужасно
И кладбище видно вдали
Тем более жить мне отрадно
Тем болье должно хорошо
а я как чудак, как чудак
всего отказавшись избег
Себя окружить надо башней
построить огромный дворец
повесить большие картины
шелка везде натянуть
и кубки, ковры, обезьяны
учёные попугаи
и сложные мелкие машины
старинные пушки стреляют
но нет всего этого, нет
и комнаты даже нет
и сер, и скук свет
и бюрократическая страна
всегда сера и темна.
V
Тут только бумаги идут
вверх вниз шелестят листы
тут уходят в двери одни
вечно большие пуза
мы вырастили их сами
они властвуют над нами
Но разве я так хотел
меня кто-нибудь спросил
Я в общество что, записался
Я что, за себя поругался.
Нет, я не хочу, не хочу
в этом обществе жить
Я если не улечу,
то смогу себя утаить.
Я выбыл, я выбыл из вас
Не нужен мне шифоньер
не нужен мне гарнитур
и дочек не нужно дур
Которых общество тотчас
в пионеры — вот как!
VI
Покуда я молодой
решу быть вразрез с страной
И буду их презирать
и малых их и больших.
Поэт вот кто главный есть
А все остальные — нет.
они без значения тут
они ничего не дадут.
VII
Вот море мой моет след
и я двадцать одних лет
иду поступательно вдоль
растёт в это время миндаль
Которая так зла
она сидит у воды
Она глядит на валы
она меня ждала.
Я ей говорю: «Не злись,
ведь ты герцогиня, ты
испортишь свои черты
поэтому ты молчи».
Она отвечает: «Нет,—
что герцогом был её дед —
но вот уже много лет
как умер он где-то в траве
и так как не знают, где
Считают, что он везде».
За что не любить страну
За что не любить холмы
Нет, холмы хороши
Но в людях всё меньше души
Но больше в них суеты
нависли у них черты
и думают все о том,
что всё покупают рублём.
На самом деле они
Не поняли свои дни
чем более будет их
тем более станет и нас.
VIII
Но вот эта дева встаёт
И мне свою руку даёт
она совершенно мила
и мы идём, где скала
бросает фиглярную тень
Как раз и окончился день.
IX
Любите того, кто редок
кто будто вымерший зверь
кто как дореволюционный предок
ведёт себя теперь
который бросает деньги
нажитые своим трудом
в один ресторанный вечер
любите того, кто поэт.
Ей-Богу, всегда интересней
протратить всю жизнь с ним
поехать куда-то, вернуться
любить его, встать, уйти.
Обзывать его неудачником
Временно жить с другим
и осенью на старой лодке
кататься по пруду с ним.
Когда пригласят на ужин
одна компания вы
Увидите, что как в музее
у хозяина мраморны львы.
Хозяин — крупный учёный
большой и упрямый ум
он может себе позволить
поэтам устроить ужин.
но дальше… любите редких,
живущих иною жизнью
точно таких, как я
короче, любите меня.
Я тяготею к Парижу,
я мастер красивой игры
Маэстро меня зовите
и это нравится мне.
Во мне и блажь, и тоска
Красива моя рука…
X
Когда герцогиня послушала
она наклонила головку
она мне сказала серьёзно,
что всё это знает она
что будет так поступать
что хочет ещё сказать
Любит она меня
полюбила третьего дня.
Вы собирали ракушки
Вы весь худой, как скелет,
У меня есть две подружки
Им по семнадцати лет.
Дети больших родителей
Они говорят, что Вы
один из лучших сочинителей,
Живущих среди Москвы.
XI
Я ей отвечал спокойно,
что жизнь несомненно веду
довольно-таки странную
и, можно сказать, единичную
и там и тут скитаюсь
у хороших людей побираюсь
а к плохим и не подойду
и вообще от них в стороне
Что в стихах я действительно добился
что мне интересно писать
Что скоро начну роман,
что уже над ним наклонился
но он будет совершенно нов.
XII
А она мне на то сказала
люблю ли я шум валов
морских или может нет
ах, если Вам нравится, я
конечно, люблю и валы
и выступ большой скалы
Так вот, это воля моя
За этой скалой живу я
увидите розовый дом
сегодня приходите
и в левое окно стучите
крайнее за углом
и тут герцогиня ушла
красивенькая вся
и я молодой стал ждать
скорее бы вечера гладь.
XIII
Уж было двенадцать часов
Курил папиросы я
и жёлтая лампа моя
горела передо мной.
Хозяин уехал, оставив
мне всё, что имел сам
но тут он мало имел
и тут он мало бывал
Поэтому быт мне стал
Была мне и кровать
и кресло большое, и книжек штук пять.
Сижу и готовлюсь идти
и думаю про себя
что я сам иду
а будто в спектакле иду
как странно всё это мне
порою живём, как во сне
простые люди живут
поэту же сам Бог велит.
XIV
Вдруг стук простучал в стекло
Кого это там принесло
Какой это человек
чего это надо ему.
И прозвучало: «Открой,
Это я, друг мой».
Впустил, вот пришла я
ко мне же идти нельзя.
Поэтому предупредить приходит,
чтоб ты не смел.
Ну, вот, я уже ухожу
осталась бы, мы бы вина…
Нет, нет, не ходи одна
я лучше тебя провожу
сейчас провожу, посиди
жилище моё погляди.
Я летом всегда тут
мне ключ на всё лето дают.
XV
Она подошла к столу
Глядит на мои листки
про что ты сегодня писал
про то, как срок жизни мал.
Да ты пессимист, декадент
Угу, уже несколько лет
настолько я пессимист
что солнце увидев, смеюсь
а погрузившись в воду
кричу, как зверь
а когда трезв
то громко проповедую народу
про жизнь вдали от людных мест.
XVI
Она помолчала… пойду
А я подошёл. Не ходи
немного со мной посиди
уместимся в кресле вдвоём
и будем с тобой говорить
ведь ты герцогиня, чего ж уходить
Да. Тонкие руки сбежали
и вниз села она
и рядом сел я
и стал её обнимать.
XVII
Мне можно, один раз живу
Хотя и банальный лозунг
но смысл его вечен и нов
всегда средь людских голов.
Я был в эту ночь настроен
ужасно сентиментально
она меня испугалась
Но только под утро ушла.
А что меж нас было, про то
не будет знать никто.
XVIII
Моя любовь отдельная
она не то, что у всех
она совершенно странная
предмет любви очень красив.
Мы любим у моря жить
там всё скопилось, что нужно
мы любим морскими быть
весёлыми грустными долгими
Песок это наше, тёплое
горячее и простое.
Когда же настанет осень
поедем мы вместе в Москву
и станем в комнате жить
и будут трамваи стучать…
XIX
Спеша заглянуть вперёд
скажу, что она миновала
что ушла просто так
куда-то она пропала
и я, конечно, жалел
Такое любимое, братцы,
но что же могу я поделать
Беситься, кричать, кусаться.
Я взял написал триста строк
или четыреста что ли
Никто никогда не прочтёт
я автор тяжёлых лет.
Ненужный я обществу злому
Любовь моя к очень простому.
* * *
Я налил стакан до краю
этой встреченной знакомой
что в компании поэтов
оказалася случайно.
Я ей дал большую грушу
и сказал: «Грызите, нате».
А она была красива
очень даже и прелестна
Я на всех кричал в тот вечер
Оделил я всех историей
потому она смотрела
целый вечер на меня
* * *
Кровь родителей ваших
У вас пред глазами
Зажигайте верёвки
Уезжайте в Париж
Называйте меня
Золотым иностранцем.
Я маэстро, я мэтр
У меня голова запоёт…
Мальчик
Андрюша, который выше
приходит домой и лежит
на мамином красном диване
и плачет, и стонет, дрожит
Ведь все, ведь они на работе
а он целый день подпоясан
бегал в старом и длинном пальто
как вдруг мимо прошёл никто.
И Андрюша уже взволновался
его Катя пнула ногой
и домой он тогда отправлялся
и упавший он был домой
На диване валяет газета
ей Андрюша теперь шелестит
А никто — он моется в ванной
и вода об него гудит.
Если выйдет, то красные губы
скажут ясно, велико, умно
«Хочешь, мальчик, я вечные шумы
подарю тебе всё равно.
Мальчик также железный цветочек
подарю, пока нету родителей».
У Андрюши весь ужас ушёл
Он спадает — с дивана на пол.
* * *
Маньке четырнадцать лет
и грудь её так велика
что лысый их Ванька — сосед
хватает её всякий раз.
У Мани — родителей два
но разум имеет один.
Другой же родитель — мать
всё время водочку пьёт
и Маня восьмого числа
в честь Дня Победы пила.
Её пригласили ребята
и ноги у неё стали ватные
когда же вернулась домой
отца её не было там
и лысый её Иван
схватил, потащил к себе
он жил один кое-как
он старый был холостяк.
Мать Маньки пьяна была
на вопли она не пришла
и Маня тогда под Иваном
лежа́, поддалась ему спья́на.
С тех пор этот лысый Иван
всё Маньке проходу не дал
она и сама к нему
порою идёт… «возьму»…
* * *
рабочий Полубин жил сам
Он деньги свои претворял
в большие книги себе
какие только найдёт
и то ему было, и то
и много проходит лет
Рабочий Полубин умел
все книги себе закупать.
Лежали они толпой
Входил он с работы один
и сразу книгу читал
Затем он уже засыпал
Рабочий завод покинуть
не будет он никогда.
Это его труды
ими он горды.
* * *
Дело было. С моста в реку
кто-то кинулся тонуть…
и его не удержать
поздно. Даже не узнать…
шёл он, говорили, сам
проводил рукой по волосам
был он, говорят, в рабочем
в тощей руке узелочек
Узелочек он оставил
Развернули — там костюм
и записки клочок был.
«Я копил деньгу, копил
я себе костюм купил
а теперь не надо шить
надо мне на дне лежать
как хочу я, так и будет
пусть меня земля забудет».
Данный вопль его в записке
прочитали тоном близких
и вздохнули тяжело
Ах, ему не повезло.
Повезло тебе и мне
Вновь идём мы по стране
поуставшими ногами
с сапогами и туфлями
Летний жар на нас кусать
На работу надо быть.
* * *
Орех расцвёл. Ему косматость
большие уши подаёт
и от ореха ароматность
к носам идёт.
Вошли и выпили ореха
какие люди, чьи года
какая сила человека
в землю легла и не смогла
и только тонкая иголка
дожить умеет и спасти
Да может, голове ребёнка
ещё успеет подвезти.
Все остальные важно сплыли
садилась муха на столы
кого красавицы любили
те и сейчас ещё милы.
* * *
Пожарная часть озарилась
На озеро ехал дружок
Его что за счастье смутилось
и песни его голосок.
За синие груди, что в майке
отдал непочатую жизнь
Играл и любил непосредственно
её острогрудый сосок.
Катанье её возбудило
не мне отдалась, а ему
В кустах просидел, и меня убивало,
что шумно даётся ему.
Всегда ему слава и деньги
Теперь и она — всё к нему
притихла… лежит и его обнимает
За что только — я не пойму.
Когда возвращались с гулянки,
я стукнул её кирпичом
она тут упала сказала пропала
беременна я Петром
и с ясной улыбкою силы
она умерла в пыли
и месяц тогда золотисто
её осветил мне живот.
* * *
Я запомнил в страстных линиях прекрасных
плоскую свою и молодую жизнь
Нет, не я один и потопа́л, и плакал
возводил и грех, и в доблесть заходил…
Это всё потом, когда и стол сгниёт мой
а не то, что руки, руки будут пыль
Пожилой историк и красотка дева
скажут в моей жизни было чем играть.
Был он весь бурлящий, был он пережиток
времени того, когда искали царств и королевских ручек
Был он подлый тонко, так что до улыбки
до святого смеха, до виселицы в рост.
между кресел новых с старыми людьми
проклинал певал и громче всех
мой читатель поздний — ничего не знаешь
Ах, какой красивый, ах, какой я был…
* * *
Скучное счастье тебя посещает
брат мой возлюбленный Пётр
Ваша супруга пред вами гуляет
утром в сверкании бёдр.
Ваша рубашка лежит на вас гладко
Ваша причёска бледна
Но из двоих кто из братьев лучше
то, несомненно, я.
Этого брата ничто не терзает
и не ведёт по утрам
Этого брата лишь смерть посещает
больше никто и к гостям.
* * *
Дело было сотое… по́ снегу бежало
четверо замученных высохших людей
Ах, откуда, братцы, вы — ноги почернелые
Братцы, вы ж не старые, чтобы были белые
Ой, мы нет, не белые
мы, конечно, красные
только мы опасные
тем, что литера́торы
нас заткнули первого
вынули десятого
переслали вот сюда
одиннадцатый год.
* * *
В этих икрах в чулочной ткани
заключается польза мужчин
и отсюда идут, и сюда
без конца, без вины, без следа.
Молоды моряки кораблей
их чаруют остатки лучей
и у женщины этой в дому
я назавтра её обниму.
Сколько ласковых волн пролилось
сколько тёмных ночей удалось
и бледнеющий ком зверей
утихает под скрип дверей.
* * *
Я приеду в гостиничный двор
мой ушиб — он пройдёт поутру
Я настолько буду смущён
своей жизнью, что я засну
Средь количества ясной зари
и предметов затихших в углах
средь вещей я сижу, растеряв
Я ищу своё место другим.
По наружной стене иль паук
иль другой удивительный зверь
издаёт поразительный звук
и дрожит моя красная дверь.
А вчера было множество дел
бегать, ездить и что-то решать
а сегодня я понял, что вдруг
ни к чему никуда поспешать.
Как философ, как каменный грек
только что я понюхал бумагу
и нашёл, что она всё равно
и что я всё равно равен магу.
* * *
Подобно пилигриму в роще
бросаю посох сей момент
суму свою роняю тотчас
и весь припас, весь инструмент.
Валюсь и сам в траву со звуком
как будто ох! Как будто ах!
венец уходам и наукам
в травы ручьях, в травы гостях.
Меня любила иностранка
а я работал средь завода
и я ушёл в её объятья
я бросил сонный день народа
Когда мне иностранки мало
и потянуло в дебри книг
тогда я из провинциала
поехал в хладный город всех.
и там ворочаясь, скитаясь
я сделался такой мудрец
что взяв суму, пошёл шатаясь
забывши мать и свой отец…
Теперь мне явная дорога
и помереть среди кустов
Я бросил сонный день народа
во имя иностранных шелков.
* * *
Волна наливает ласку
на ногу мою всю
о летняя тонкая пляска
которой я пью и сплю…
Любите лазоревых девок
в своей деревенской провинции
у мелких своих заводов
при своём знакомом пейзаже.
О не выбегайте в большой
мир, где смыкаются волосы
где тыща любовей ярчей
где много кокетливых крас
А то вы почуете грусть
идущую по полю вдаль
у ней соскочил сандалий
и всё было очень пусть.
* * *
Поехал он в гости к родимой
она его тихо ждала
стакан наливала вином отвлечённым
и жёлтой рукой поднесла.
А он был настолько забыт
и стар, как бы юная страсть
куда-то вернулась зайти
да так и прийти не пришла.
* * *
Восьмого числа, всё только восьмого…
Подымается, подымается светило, как синеватый мяч
имея целью пробудить тех, кто в сонном состоянии, и других
и там, где маленький городок, там — также
и где дом Коркина там.
Превращается синеватый шар в фиолетовый
а далее уже в красный
и потом в жёлтый
Проснулся Коркин.
Он один.
Никого у Коркина нет близких
и дом даже не ему принадлежит.
Большая жёлтая подушка и на ней голова Коркина
чем всё это кончится — грустная коркинская жизнь
и Коркин недвижим
А пора бы уж двигаться.
Но недвижим Коркин
Болен он, что ли?
Может ли быть такое больное существо…
Нет, не болен, ибо он шевелится.
Два пальца ноги произвелись из-под одеяла.
Два пальца кирпично-жёлтого цвета и два ногтя овальной
формы сверкнули и исчезли
и лицо лежащего исказилось.
Коркин что-то замышляет.
Ах, чем это всё кончится — грустная коркинская жизнь.
* * *
Гриша, Григорий Алексеевич!
Что надо, что надо?
Вы узнать бы сумели, а, стыдно не узнать вам.
Что говорите — думайте, почём я знаю.
Узнайте меня, я не прошу, а думаю пора бы.
Послушайте, мы тут в окружении песка и кого чего вам надо от моей головы.
Вы скажите прямо — приехали с Татьяной Вульф.
Я не знаю Татьяны Вульф.
Но это же московская революционерка, известная всем.
Да вы что меня терзаете, мучаете, отстаньте.
Нет, вы приехали с красивой Танечкой, говорят, она в кармане носит пистолет и всегда готова выстрелить. Наверно, это вас заставило её полюбить. Вы, как я помню, любитель остренького.
Я приехал один, и Татьяна Вульф тут ни при чём. Я приехал на отдых иметь на сей южной стороне жизни. Я живу в доме и сижу на песке. Вот всё.
Да конечно, Вы оставили Вульф в комнате, вы её заперли, и она печатает там на вашей машинке революционные декреты, всяческие призывы. А вечером она наденет брюки из вельвета и такой же пиджак, и вы пойдёте гулять вдоль моря. Вульф будет озираться и держать руку в кармане — там у неё пистолет. Остановившись в тени кустов вдали от толпы гуляющих, вы будете целовать Вульф и гладить её груди. У неё такие большие груди — у этой молоденькой красавицы еврейки. Конечно, вам это нравится. Тем более что она очень аккуратна, очень редкое явление среди евреев. Да, вам приятно — любовница революционерка и террористка. Вам всё равно — даже если её когда-то поймают и она примет ужасную смерть. Лишь бы о Вас говорили — это любовник Танечки Вульф. Она его очень любила. Вы негодяй.
Послушайте, отстаньте от меня. Ну разве я похож на человека, который нравится террористкам, который может состоять в любовниках у какой-то Тани Вульф. Ну я же худой, совсем не атлетического сложения. А ведь знаете, для революционерки полна жизнь опасностей. На неё постоянно устраивают охоты. Ей бы надо любовника, который бы мог ударить — и всё, ваших нет. Упал человек не дышит. Там ударить — тут ударить — любовницу на руки — и бегом и в автомобиль и удрали. Вот кто ей нужен — герой, гигант, сильный человек. А что же я. Вы ошибаетесь, вы путаете меня с кем-то определённо перепутали. Сознайтесь. Ведь да, перепутали.
На этот счёт существует и другая теория. Таня — сильная девушка — у неё очень волевой характер, она хрупкая девочка с виду, но такая сильная внутри. Зачем же Танечке сильный мужчина, что же она с ним будет делать. Ей нужен слабенький, чтоб успокаивать, ходить за ним, следить за ним, гладить по голове. Вот вы как раз и подходите. Вы совершенно подходите Танечке. Я знаю, вы не отвертитесь — она приехала с Вами. Вам нечего меня опасаться. Вы не бойтесь. Я Вас не предам, а её и тем более. Я издали с обожанием гляжу на Танечку, восхищаюсь ею… Но куда же Вы пошли. Эй, стойте…
Я ухожу. Мне надоело слушать Ваш этот бред о каких-то Танях, московских революционерках. Вы заговариваетесь. Вы, очевидно, психически ненормальны. Так при чём же тут я. Пусть Вас слушают врачи. Я пошёл.
Сам идиот! А на других сваливаешь вину. Блажной, блаженный. Разъезжает с молоденькими революционерками по курортам, живёт с ними в одной комнате, спит в одной постели с молодым телом, ему, видите ли, нравится, когда под подушкой у неё пистолет, и она время от времени хватается за него со сна. Это, видите ли, щекочет ему нервы. Нервишечки пощекатывает, сволочь ты!
Послушайте, чего Вы на меня кричите. Я Вас не знаю и не хочу знать. Вы опасный человек. Вы, очевидно, можете что угодно сделать и даже кого-то убить. Чего Вы ко мне пристали. Я обращусь сейчас в милицию.
Не обратишься — потому как сам её боишься. Иди, иди к своей Танюше в домик в комнатку обнимитесь, поцелуйтесь и сцепитесь, как два зверя, зверька, вернее и всё потише стараясь и револьвер под подушкой.
Оступаясь на песке и думая о том, откуда этот человек и кто он — Григорий идёт к своему дому к тому, где он живёт. Стучит в дверь комнаты условным стуком — три — два — три удара, и дверь отворяется. За дверью с пистолетом у бедра стоит Танечка Вульф, очень красивая девушка лет двадцати. Увидав Григория, определив, что это Григорий, она бросается ему на шею. Милый, конечно, я тебя долго так ждала. Отчего ты сегодня задержался, отчего ты бледен и как будто злой. Что же у нас случилось.
Ничего, Татьяна, ничего не случилось. Всё хорошо. Один тип только на пляже привязался.
Что за человек, Гриша. Что за человек этот тип.
Да я думаю, просто ненормальный. Но вообрази — он говорил, будто я приехал с тобой.
Как со мной, что-то ты путаешь, милый. Яснее.
Ну, этот тип сказал, что, мол, я вас знаю и Вы приехали с Таней Вульф московской революционеркой. Я говорю, нет. Он говорит, да. Я — нет. Он — да. И даже описал твой внешний вид. И про пистолет ему известно.
Что же это за человек, это ужасно, что он всё знает, он, наверное, нас предаст, может быть, уже предаёт.
Надо уходить нам, покидать эту комнату и скорее.
Нет, Таня, не бойся, он сказал, что не выдаст нас.
Ну что ты, разве можно верить так вот — не выдаст. Он, конечно, уже сейчас нас предаёт и рассказывает, как добраться до нашего домика. Нам с тобою скорее надо, нельзя терять секунд, собирай кое-какие вещи.
Танечка, тут у нас так хорошо, и цветы даже на окне. Я думаю, нужно остаться. Тот человек странный, но я уверен, он не предаст тебя.
* * *
Как приятно, что я исписался
ничего я уже не создам
буду долго в постели валяться
или сам, или в обществе дам.
Целый день иль на солнце, иль с книгой
в белых мятых брюках лежать
а в четыре вставать одеваться
и щетину прилежно сбривать
и костюм весь духами пропахший
и платочек яркий в карман
Ухожу погулять потолкаться
и улыбки ловить — боже мой!
Так пройдёт моё лето и осень
и зима моя также пройдёт
яркий глобус от скуки на оси
буду тихо крутить по утрам
и когда уже старый в морщинах
в полосатой пижаме открою
на звонок свою старую дверь
то окажется большего стоил
но пришла мне она лишь теперь
Прогоню и захлопну двери
но она будет снова звонить
постояв я открою и брошу
одеяло с подушкою — спи!..
ну а сам пойду в ванную комнату
и в горячей воде в испареньях
тихо вспомню всю бедную юность
когда я её так ожидал.
* * *
Уж час. Все тарелки закурены
Задымлено платье твоё
ах праздник и просто витают
средь зала пять женщин иль шесть
Я мальчик впервые пришедший
на это веселие сам
А вы мне мигаете сладко
моргаете, руку даёте
Не надо мне было знакомиться
Да поздно уж поздно теперь
она вся дрожащая вломится
в души моей красную дверь.
Сидящий был ранен смертельно
и вот по нему протекла
вся кровь полосой беспредельной
осколки от платья втыкал.
* * *
В двенадцать в чужой квартире
случилось однажды сидеть
холодные воды гудели
в трубах во всём дому
Как пламенный нищий, пришедший
с дороги сразу во мрак
так я, поужинав поздно,
сидел размышляя слегка.
И вспомнил я молодость в ранах
любимые годы мои
все проведённые в парках
на кладбищах, под листвой
Я был одиноким и пышным
раздут был своими мечтами
Потом был не одиноким
с женою был и с друзьями
Я хаживал в улицах просто
как будто в своём дому
и всяческий знал меня
и всяческий приветствовал меня.
Текли так прекрасные годы
меж пальцев ручьи мои
во власти тепла и культуры
искусства французского ветвь
Я был в своём городе милом
Покинул его я вдруг.
Теперь я вернулся сидел
Едят меня прошлые дни
И я не прощу им нисколько
что молод я был тогда.
Что также моложе, любимей
жена моя мною была.
* * *
Мечты о мечты террористки
некрасивой московской студентки
Идёт с пистолетом в кармане
еврейка и Танечка Вульф.
Вы только что были в курорте
рыдали, прощаясь с любимым
Любимый был только одетый
и пивший и мучивший вас.
Вы только что были в курорте
На вашем домашнем столе
стоят в хрустальной реторте
цветы из курортных песков
они распустили колючки
и бегают ваши родители
седые профессоры-злючки
достойные преподаватели
Темно… и дождь и туфли
мокры и холодное лето
держась за кусок пистолета
вы Танечка тихи
И кажется вам, что за вами
крадётся неслышный он
который позвонит им
и вас заберут из квартиры.
* * *
Люблю я ту тихую песню
в которой родился я
люблю эту скучную песню
в которой вся жизнь моя
и тянется она, тянется
под дождями, под летним солнцем
и грустно идёт моя тень
идёт по городу тень
присядет она, приляжет
и выпьет, и встретит друга
и говорить она будет
и вновь идти она будет
Друг у неё умрёт
жена его будет стареть
и скучная песня без слов
будет звучать, звучать.
И в ней хулиганы мелькнут
знакомые скучные хулиганы
и странная Света мелькнёт
далёкая скучная Света.
Вышла замуж за начальника цеха
и скучную жизнь ведёт.
Я приехал из пыльной Москвы,
где я меланхолически жил.
Я приехал хожу, гляжу
и скучно мне, и хорошо
Любимая пыльная жизнь
Трава. И кусты и стихи
и мелкие красные цветки
скучные цветки на кустах.
* * *
За мостом бесцельно простиралось поле
По нему ходили, вытоптав дорогу,
посещали речку семьями, компаниями
с водкою и с говором, под солнечный жар.
Так располагались, чтоб бельё повесить,
положить под ивы,
чтобы свои головы
сунуть в холодок
помельче песочек, дно бы посветлее
и хороший в воду не обрывный склон.
Вдоль всего берега в карты играли
или волейболом были заняты
Мячи взлетали, крики восклицали
и спортсмены мышцами своими потрясли
приходили девушки с заводов и с учебниками
лежали, улыбались, сидели и визжали
Там и я шатался, там меня все знали
мы были веселее, шумнее и мы пели
над нами предводителем Санька Красный был
мясник огромный толстый
но очень мне приятный
хороший человек
мы пели, приносили
порою рубль на водку
Выпивали тут же в холодке в кустах
милая чужая бедная страна
юность моя юность, где ты, какова.
* * *
Обнять этот много раз грешный белый живот и любить эту бабу, которая когда-то была похожа на девочку, а теперь у ней морщины вокруг глаз и странно белая с синеватыми трещинками кожа.
А всё ж любить. Эти криво намазанные глаза и была она булочницей, работала продавцом — вспомнить это и полюбить, вспомнить, сколько она имела мужчин — боже мой, сколько. И всегда говорила — я люблю его,— и полюбить мне её за это. И что где-то возле неё прошла и моя юность моя сияющая и моя бедная юность.
Ликующая и тихая. И заплакать о себе, о ней на её животе о том, что от нас останутся черепа и не более того.
Сей плач мой человеческий будет. И это событие моей жизни — моё обращение к Богу к богине — к ней — поруганной богине большого города, где бог весть что и происходит — ничего не происходит.
Ах, как решиться на книгу, как вытянуть на себе эту книгу. Вот приехал и ходят не люди — знаки. Один называется Кулигин, другой — Мотрич, но это не Кулигин, не Мотрич, а условные обозначения моей судьбы, её прошлого.
* * *
Был двенадцатый час. Сидел один в комнате за столом, покрытым цветной скатертью, где всяческие запутанные узоры. Было душно, точно готовилась гроза. Балкон был открыт. Сидел в трусах в мелкую красно-бело-чёрную клеточку. А на тахте находилась уже простынь и подушки. Всё его ожидало. А он сидел. Он выходил на балкон и там было так же душно, как в комнате. Значит, не прохлады он искал на балконе. Очевидно, иного чего-то. Глядел вниз, вокруг. Горели окна в таких же домах, как и его дом, как тот дом, в котором он был, как квартира, в какой он находился. Ему было не по себе. Он не был в себе. Там был не он.
Что делать. Хотелось сойти вниз — туда, где его ждала бы девушка — совсем юная ждала бы его, тоже совсем юного — без лишних непотребных мыслей, а просто юного забавного, загорелого. Или нет. Пусть такого, как сейчас, но только ждала бы юная тоненькая красивая девушка. Да чтоб она была красивая и не была ещё грубой материалисткой, ей не нужно было бы, чтоб у него была квартира и должность, и диплом. А чтоб нужно было, что он пишет стихи, что он поэт, что у него нет своего дома и, по-видимому, не будет.
Боже, как бы всё было прекрасно, как бы он сам обновился, очистился, стал бы иным, если б ты, Боже, послал ему любовь и всё то душещипательное, что с ней связано. Целовать её там внизу меж деревьев, говорить ей слова. Уж как бы он старался, как бы он старался — нет, никогда в жизни она такого не слыхивала, как бы он говорил. Это редко такие слова, она бы его вдохновила бы одним своим видом. Он говорил бы ей о смерти и о счастье любви того, что вот люди встречаются вот ты и я.
Его очень тянуло туда вниз в мягкие темноты, где бродят, может быть, девушки, которым хочется нужно найти вот такого, как он. Чтобы он спас их от дальнейшего естественного развития их жизни, от мужа, который будет работать или на заводе инженером, или ещё где-либо, не имеет значения, но он, конечно, не будет поэтом, не будет иметь такой судьбы, не будет любить так. И вообще потянется её страшная такая страшная дальнейшая жизнь. Вот она работает в каком-то институте, как это сейчас принято в полуобразованных слоях общества. Допустим, в институте профессиональных заболеваний, как Вета Волина столь когда-то близкая девушка — девочка, с которой вышагал многие километры и зимнему, осеннему, весеннему и летнему маленькому скверику на окраине вблизи трамвайной линии, всё время о чём-то говоря, но о таком смутном, о таком смутном говоря, что, вероятней всего, это была слабая робкая любовь друг к другу, которую и мальчик, и девочка покрывали этими фразами. Основой, конечно, была прогулка, только прогулка, окружение деревьев и всех атрибутов, присущих каждой паре года. Теперь она полная высокая белокурая женщина. Когда-то её называли ангелом. У неё был ангельский профиль классический профиль, как на картинах итальянских мастеров, и голубые, конечно, глаза. Кто ж назвал-то. А! Он припоминает. Такая женщина лет сорока из дома культуры завода ХЭМ-З, она руководила клубом старшеклассников. Вот,— сказала она,— с вами девочка, у неё ангельский профиль, она как ангел и про старых итальянских мастеров это тоже она сказала.
Давно это всё было. Так давно. Сейчас она работает в институте профессиональных заболеваний. Как там, наверное, скучно, что там, наверное, сейчас жарко, и женщины говорят о своих домашних делах, о мужьях. В перерыв в столовой берут полсупа. Или если нет столовой — в буфете — кофе и бутерброд. А лет десять-пятнадцать назад в России кофе не употребляли совсем, варвары мы были совершенные, да и не до кофе было. Всё же это интересно, как у нас появились люди, употребляющие чёрный кофе. Это интеллигентные люди, это воспитанные люди. Мужа её он не помнит, не помнит и не надо, а впрочем, видел раза два… Кто он — неважно кто. Может, он любил её, может, он её ласкает так хорошо, так хорошо, и она этим довольна. Вот счас они уже лежат в своей постели в этом же городе, вот и я сейчас в этом городе, приехал в город своей жизни, своей милой юности.
Она кончилась, юность. И сладчайшие тени воспоминаний бродят по улицам города и наносят мне раны ножом. Тени эти — люди, которые были со мной знакомы. Сейчас у них те же имена, но нет их, нет. Они кончились. Это город прошлого. И всякий человек, встреченный мной, он только знак, только символ в моей системе воспоминаний, только символ и знак.
Сколько я знал людей
Несколько уже ушли
Приехал я случайно домой
в бывший город мой
А тут оказались лишь
сны и видения лишь.
* * *
тёмный пистолет воды
голоса сильней хриплее
тут мы встретили Андрея
он не знал своей беды.
Кто не чуявший однажды
проходил уже, Андрей?
Да, он думал, мы прикажем
только денег дать и всё.
Ну, а мы его убили
Дело ночью, нет луны
От искавших нас укрыли
си леса и нам страшны.
Это лет, пожалуй, двадцать
Жуток, жуток дед ты есть
Да чего, сынок, бояться.
* * *
О планы, планы!
Как вас много!
Лечиться хочется от вас
От Вас поехать к Богу
Долой от вас, от вас.
Я жил. Я жил немало
И, в общем, опыт мой
всё начинай сначала
всё разгоняй долой.
Вот узенькая лампа
и узкий коридор
и мирно полон храпа
простой мужицкий взор.
А я в мундире старца
решил подумать, чтоб
и тихо разобраться
небесных средь чащоб
Окна́ открыл задвижку,
впустил звезды́ с кустами,
но также вместе с ними
и воздух с комарами.
Моя ошибка злюща
Я сделал зря поступок
И жизнь свою пасущий
не уследил коровы.
* * *
то ж за кровь святая месть.
А я думал, что в России
нет такого ничего
мужики-то мы простые.
Я за бабу вбил его
я за Катю, за невесту
от меня её увёл…
Знали люди даже место
да никто вот не подвёл.
Я иду и с дедом рядом
Что такое наш народ?
С голубым порожним взглядом
Он — семидесятый год…
* * *
Я знаю, знаю, спят заливы
и спит, кто будет умирать
мудрец мечтает несчастливый
судья в ночи пошёл карать.
В тюрьме огни и спешка, спешка
Ивана Тюлькина ведут
И впереди шагают двое
И двое сзади подтолкнут.
Иван зарезал, он убийца
огни и спешка стук сапог
Иван с заросшей бородою
Побриться будто бы идёт.
На самом деле ведь убьют счас
не на дворе, а там внизу
судья закон не стал читать
махнул рукой — давай кончать.
Ивана Тюлькина кончают
он жил когда-то среди нас
Его губа смешно свисает
Она висит в последний раз.
И говорит, не понимая
по темноте его ума
Ведут, ведут ведь путь большая
На что парикмахера — тюрьма…
Ему стреляют в головешку
В том помещении, где он
накрыт салфеткой, намылён
Опять огни и спешка, спешка
Ещё один приговорён…
Я точно знаю, спят заливы
Творится тайное во тьме
Мудрец мечтательно счастливый
и некто не в своём уме.
* * *
Есть странная смена несчастий
и точно я знаю, что лишь
какие-то случатся злости
придёт им вослед доброта
Затем темнота нарождает
за время какое-то злость
и кто-то меня побивает.
Рассечёт мне мясо, бьёт кость
И этих явлений обычность
настолько знакома, до дня
могу предсказать я отличность
иль явно казнённость меня.
И это уже от чего-то
от мокрых земель ночных
от тёплого воздуха и от полёта
летучих мышей молодых.
Сядем мы в парке смеяся,
а их пролетало штук сто.
Ушли мы домой косяся,
хоть небо уже пусто́…

Третья тетрадь
* * *
Спокойно кончилось и тихо
всё, что имело в жизни смысл.
Сижу корявый и безвредный
и жду парнасских птиц.
Они летят довольно долго
в горизонтали городской.
* * *
Я сошёл с ума. Но никто сошёл с ума. Что же мне страшно. Народ я кончу.
Но в чём дело спросил отдохнуть от Москвы в ну и. Дела же произошли. Надобно сорок минут экзистенциализма и я сошёл с ума. Но и не сошёл с ума. Чтобы при мне состоял две девушки высокие одетые. Я стихийно делать. Я совершенно правила. Мне хочется две молодые две яркие этого хочется. А за очень. Это ведь не дальше. Куда мы поедем. Оттого страдаю, что всё время пытаюсь, но нет такой любви и так ожить. Но я не хотел ищу, а её нет и не наконец. Стану ходить мне кладбище. Где и хожу по той улице и многих женщин да и ищу её. И все требования и вот.

Дневниковые записи
* * *
Я сошёл с ума. Но никто этого не видит и потому вроде бы я не сошёл с ума. Что же мне делать. Если мне пойти в народ, то это мне страшно. Народ я не люблю и даже я его презираю. Чем же я кончу.
Но в чём дело — спросите вы. Что случилось. Я приехал в город Харьков отдохнуть от Москвы, в основном поесть, подкормиться у родителей. Ну и. Дела же произошли вот какие. Родители живут далеко. Ехать надобно сорок минут троллейбусом. Я исповедываю философию экзистенциализма и начинаю писать роман. Первая его фраза — я сошёл с ума. Но никто это не видит и потому вроде бы я не сошёл с ума. Впустую сошёл с ума. Мечта моя такова — чтобы при мне состояли и неразлучно со мной находились две девушки высокие очень красивые девушки и очень ярко одетые. Я стихийно исповедываю экзистенциализм. Что мне делать. Я совершенно пуст. Я исключение из общего людского правила. Мне хочется, чтоб везде за мной ходили две красивые две молодые две ярко одетые броские девушки. Зачем мне этого хочется. А затем, что так красиво. Это ведь красиво очень. Это ведь несомненно будет смотреться. Ну что же дальше, куда мы поедем дальше. Жены-то моей нет. Я страдаю, оттого страдаю, что никем её не заменил. И заменить всё время пытаюсь, но не могу. Я приехал, я хотел любви. И такой любви, и такой. Одна из них плотская. Я хотел ожить. Но я не хотел искать. И мне пришлось искать. Хожу ищу, а её нет и нет. Появится ли, думаю, любовь у меня наконец. Стану ходить с ней на кладбище. Зачем. Нравится мне кладбище. Где же любовь-то. Её нет. Я каждый вечер хожу по той улице, которая главная и также гляжу на многих женщин, девушек, девочек. Я на них взглядываю и ищу её. И всё не могу найти. Не удовлетворяет моим требованиям и вот эта, и вот та не удовлетворяет. Даже внешне. Предъявляю претензии к жизни. А почему, говорю, не бывает, чтоб ко мне подошла. Сижу я на скамеечке. А она подходит. Разумеется, высокая худая подросткового такого типа и говорит: «Эдик я Вас люблю давно и тайно. Идёмте, я куплю Вам стакан вина, а потом мы вернёмся, сядем тут, и я вас стану целовать, маленький мой». У-у. Это же могло бы произойти. Кто, как не я, достоин. И вот я говорю Иванову Лёне об этом, а он мне говорит: «Ты, мол, можешь себе это устроить». Как же. Дай, говорит, десять рублей ребятам, а они уговорят девушку, заплатят ей, и она подойдёт и поцелует тебя и поведёт стакан вина.
Ладно. Стакан вина, Лёня, я и сам могу купить. Вот жизнь, а вот я. Я вижу эту жизнь, я её постиг кусочками, а об остальном сужу по аналогии. Это верный метод — по аналогии. Хочу, чтоб подошла. Она не пожалеет. Какая потянется прекрасная часть жизни. Ходить обнявшись, целоваться в траве. Я бы с ней отправился бродяжить — переодел бы её в мальчика — меж кустов полями, лесами загорели бы, оборвались. Она юная. И зимой нам было бы холодно, и нас бы не пускали в дом, и мы бы в него вломились, и была бы драка, и нас бы побили, а мы потом лежали бы избитые, и она целовала там, где раны.
Вот то, чего я хочу. Она пусть везде ходит со мной. Чтоб нас видели и все знали. А я никогда не умру. Я всегда буду стройным худым загорелым в белых брюках. Эй, Эд. Что? Я никогда не умру и не стану старым. Я поэт.
Грядущие люди. Они совершенно не имеют значенья. Нужны они лишь только затем, чтобы прочесть обо мне, увидеть мои фотографии. Я весь поэт и глазами моими, и руками, и пальцами, и носом, даже желудком. Я поэт. Я выше обыкновенных людей, потому что я поэт. И жизнь моя, она вся такая, как я, как мои стихи. У меня полнейшее слияние личности моей. Как бы любящий я человек. Вот я иду, вот разговариваю и кажется, что полечу сейчас. А Вы кто. Но сколько раз я ожидал девочку-подростка на скамейке. Девочка подросткового типа не пришла. Поэт Лимонов имеет огромное преимущество перед простыми смертными — он может выдумать девочку подросткового типа и может сделать, будто бы она приходила.
Я вам всем внушаю, я поэт. Я приехал в Харьков из Москвы, и тут я сошёл с ума. Красоты мне хочется и желаю я, чтоб эта красота в облике девушки пришла. Ко мне подошла, предложила стакан вина да ещё бы и по пятам за мной ходила, обнимала меня и была бы даже чуть выше, чем я и красива, и переодел бы я её в мальчишку и пошли бы по лесам и оврагам и в разных других местах оборвались бы, загорели и так бы год и два, и больше. А там в город, вымылись, причесались, мокрые блестящие красивые головы, запах тонких духов. Новые прекрасные вещи облегают тела. То же самое можно было бы и с двумя девочками, девушками и обе они любили бы меня и мы бы спали в одной постели в одном сене и плотски были бы близки. И это хорошо бы было. Я давно преступил черту и разве это порок есть. Разве плохо с двумя молодыми прекрасными созданиями находиться день и ночь. Я бы их наряжал своими руками в различные кружевные наряды, и это меня бы забавляло, и мы все смеялись, смеялись.
Поэт я. Большой. Как Блок. И больше Блока. И будет так все узнают это, все это примут. И образ худенького мальчикового типа человека, каким я являюсь, из него этот образ станет столь же там же в памяти людской. Где этот Пушкин кудрявый, где Лермонтов с усиками, где надменная маска Блока. Так будет. Я уже вышел. Я уже готов. Сделан. Идёт моя судьба. Тянется моя легенда. Запоминаются мои поступки. Поэт приехал в Харьков. Тут он жил ещё год назад. Теперь приехал, живёт у родителей. 40 минут едет троллейбусом до центра, ходит там, пьёт и ждёт девочку или двух девочек подросткового типа. Не идут. Но я уже их выдумал. Всё есть. Всё было и поцелуи, и я их искал в спальне в затенённой одевал во всяческие кружева, привязывал бантики, и груди лентой обвивал. Ползал с ними по коврам, смеялся, кувыркался. Пил какое-то количество вина хорошего очень и дорогого. И вместе мы залезали в огромную кровать, где много кружев, и там барахтались, целовали друг друга, гладили, а потом засыпали.
Я точно написал, что было. Я не соврал. Двадцать лет назад со мной. Очевидно, мне тогда насчитывалось лет пять. И жили мы в доме, где большие гулкие коридоры и много комнат. Их было точно две. Сколько им было лет. Мне кажется, что они учились в первом классе, может, во втором. Когда все уходили у них. Одна была Славкова Ида, а другую не помню, как и звали. Отец-то Славков был ещё царский офицер и помню, что очень он любил готовить всяческие сладкие блюда. Достиг в этом совершенства.
Ну, вот. Родители ушли. И она — Славкова и он — Славков — ушёл. Приводят девочки меня и наряжают меня и голого раздевают и в тряпочки в кружева завёртывают. А квартира старинная, всякие штуки лишние ненужные и какие-то завалы кружевного всего старого и запах этого кружевного и старого. Девочки ласкаются со мной по-всяческому и так, и сяк. И ещё по-иному. Потом они снимают с себя всю одежду, ложатся на накидушку кружевную рядом, расставляют ноги и заставляют меня карандашиком тыкать им в отверстие между ног. Или же выпячивают зады и заставляют карандашиком тыкать им в заднее их отверстие. Эти карандашики я помню. Один, кажется, был красный, маленький такой огрызок. И мой половой орган тоже разглядывали и дёргали, кажется. Я никому никогда не говорил и так бы и не сказал, не вспомни я. Запах старинных кружев помню и как почую его, мне сразу тайно так становится и странно и как-то притягательно.
Вот так любая мечта. Будто она невозможна, а если подумаешь, то узнаешь — что уже она была у тебя и только ты не заметил. Вот я немного напряг память и вспомнил, как я лежал запелёнутый, завёрнутый в кружева так, что не мог из них выпутаться и, кажется, служил им, девочкам, ребёнком. И надо мной витал какой-то старинный страх совместно с упоением — тяжким и недетским. Очевидно, мне было пять лет, а быть может, четыре.
И пустота сейчас объяла Лимонова. Жены с ним нет. Она, жена его, осталась в Москве и уж месяц, как нет её с Лимоновым. Она там где-то случайно спит, бродит, ходит, пишет письма с налётом как будто опьянения и может быть, уже пустилась в приключения с мужчинами. Эта мысль сладкая приторная дёргает Лимонова и он лежит в постели, мучает себя, думая, представляя в закрытых глазах, как его жену раздевает какой-либо лысенький режиссёр «Мосфильма» или художник, непризнанный гений, или какой-нибудь зав. отделом из бесчисленных московских редакций. И гладит её по огромному её заду. А что хуже всего — так если представить, что делает это — гладит — какой-либо красивенький юнец — «начинающий литератор» или «начинающий художник», наглая лживая физиономия. Но мысль и сладкая, ибо есть тут и скрытое подспудное удовлетворение и даже продолжаешь в закрытых глазах досматривать, листать кадры фильма, последовательно вот целует, вот опрокидывает, вот положил, вот целует, она пытается вскочить, но он успокаивает её, поглаживает, целует, шепчет и дрожит. Он давно не был с женщиной и стремится туда весь, стремится туда в заветное мокрое место меж ног. Туда. Вот он уже около, она корчится и дёргается, освободится, но нет и последний рывок его — он там, и она лежит уже безвольно, и вот уже его обняла.
Тут Лимонов Эдик открывает глаза, на его теле пот, он встаёт, отворяет балкон и высунулся вышел. Там идёт мелкий дождь, сыро и холодно. Он сейчас её, думает Лимонов. Как он смеет, ведь она моя и всё то моё, и только я имею право. А впрочем, какое тут право, что за право, выдумал право. Он возвращается в постель, а кадры фильма идут вновь и он видит, как его Анна толстая красивая баба еврейка не найдёт себе места в Москве, бегает по всяким выставкам, ночевать ей негде, и вот какой-то приятный блондин приглашает её. Идите, мол, ко мне, ляжете с моей мамой в комнате, а я в другой. Анна идёт, а мамы нет, и она хочет уйти, а тот не пускает, и тогда она борется с ним, а он выкручивает ей руку. Этого она никогда не выдерживала, и всё кончается половым актом. А она месяц не была с мужчиной, месяц не была, и ей становится хорошо там у неё всё мокрое, всё хлюпает, когда они совершают это. Потом она плачет, хочет уйти, но он говорит: «Уйдёшь утром». И снова тянется к ней. Утром она уходит, а он усмехается и говорит: «Адрес знаешь. Приходи, Аня, если негде будет ночевать».
Лимонов Эдик открыл глаза. Сколько уже прошло, как он её знает. Где-то с конца октября 64 года. Значит, почти четыре года знакомства. А живёт он с ней с какого с 19 января 65 г. Живёт. Спит.
* * *
У всякого стихотворения своя собственная законченность внутри себя. И какие тут могут быть отыскивания предшественников и влияний. Настоящий поэт возникает с того момента, как у него появляется эта законченность. Тогда ты смотришь — и всё на месте, и нет невнятных строчек и нет лишних строчек и нет неопрятных слов, и всё плюсуется, а не взаимоуничтожается. Всякая буковка состоит на службе. И вот я и у себя замечаю тот момент, тот перелом, когда стали появляться эти законченности в стихах. Мне теперь совершенно наплевать, и что мне эти упрёки в похожести. Когда я знаю, что у меня существует такое стихотворение и такое и ещё такое. Потому я и поэт, что есть у меня эти законченности, эти шарики бытия, кусочки, миниатюрки бытия моего.
* * *
Без чёрных чернил никак не обойтись. Привычка писать чёрными заранее отвращает меня от писания всякими иными чернилами. И это плохо, и всё плохо, пока не будет жены со мной, я ничего не напишу путного. Сие я понял. Если она не приедет первого (последний срок), я чего-нибудь куда-нибудь себя перемещу. Страшно. Написано это 26 июля ночью.
* * *
Было всё летом. Я сидел на скамеечке в городском парке под вечер. Подходит Иванов Леонид, которого я не очень-то долюбливаю. Он мне безразличен. Сел рядом со мной. А в руке узелок. Что, говорю, в узелке. Череп, говорит, в узелке. Покажи. Развязал белую тряпку. Действительно, жёлтый череп с двумя пружинками — нижняя челюсть прикреплена. Чей череп-то. Почём я знаю — отвечает. Очевидно, женщины, вон лоб какой узкий и надбровные дуги слабо выражены. А зачем тебе череп.— Рисовать буду — хочу всё начать сначала. Правильные анатомические рисунки надо научиться делать. Иванов так мне отвечал.
Было всё летом. Чернь проходила и открывала на череп рты. Все открывали. А он тихонько лежал между нас на белой тряпочке и молчал. Иванов — он рисует — недавно ушёл с работы. Почти два года женат. В его большой комнате на красном диване ему не холодно с Ниночкой. Иванов он умный. Когда-то я слушал его, разинув рот. Много стихов он знал на память. Но я упрямей и много работал. Когда он только болтал. Я теперь живу в Москве в маленькой комнатушке, плачу за это большие деньги. У меня толстая красивая жена, та же самая, что и в Харькове и она старше меня. Нам голодно. И это сейчас в период всеобщего благоденствия. Я пишу стихи, но всё чаще и чаще мне хочется жить, и тогда я бегаю по знакомым, пью с ними. Просто гуляю.
Сейчас я приехал в Харьков отдохнуть. Тихо сижу на скамеечке. Рядом молчит Леонид Иванов. А между нами спокойно лежит череп. И солнце светит.
* * *
Однажды один человек невысокого роста среднего скорее роста по нынешним временам — 1 м 73 см ехал в одном городе в троллейбусе. Ехал он вечером в новый район, где жили его родители. Там он остановился. Остановился на жительство, ибо приехал он из столицы, где обитал вот уже несколько лет. Ехать в троллейбусе было очень скучно. Человек всегда сетовал на себя и думал, что мог бы он остановиться в центре, а не в этом пресловутом новом районе, что ему там было бы удобнее. Ведь все его друзья жили в центре, и он раньше жил там с женой. А теперь вот жена осталась в Москве. А он тут уже около месяца. И давно ему хотелось встречи с женщиной какой-нибудь загадочной особой, а впрочем, даже не загадочной, а просто с милой девушкой, женщиной ли.
Едет он так и думает. Очень надо сказать лениво и от скуки начинает оглядываться, рассматривать людей. Все лица, как он уже замечал, топорные, ленивые, разбухшие какие-то, то же и фигуры, и одежда тоже.
Человек стал думать о том, что всякий район имеет своё лицо. И один, например, гораздо аристократичнее, например, район, где ходит троллейбус восемь.
Так вот он сидел думал и увидел внезапно карлицу. Совершенно маленькую девушку, которая села на переднее сиденье. Да, карлица. Вот бы с карлицей познакомиться, подумал он, усмехаясь. А карлица смотрела в окно, и у неё был нормальный профиль. А когда она повернулась случайно анфас, человек увидел, что она почти красива. И волосы чёрные, и в серьёзной женской причёске. Только мала. А чего я усмехаюсь, ведь она хороша, очевидно, девушка ещё, трепетная, наверное, а уж тайн у ней. Вот искал — пожалуйста, подойди и поговори. Ты ведь красноречив. Сумей заговорить её, чтоб не испугать. Можно предполагать, что она сама купила себе квартиру, у неё тонкое лицо, очевидно, она окончила институт, и вот она маленький самостоятельный человек. Напросись к чаю, ещё не позднее время, или же вообще в гости, хотя бы назавтра. К ней ведь явно не часто пристают мужчины. Ну, что же тебя удерживает? Спрашивал себя человек.
Ты придёшь, будешь с ней говорить, говорить, а она не поймёт, в чём дело. Будет гореть тусклый свет. Ты скажешь, что не любишь яркого. Потом ты её поцелуешь и скажешь ей, что ты пришёл, что ты видел её много раз, что ты втайне следил за ней, и вот сегодня решился подойти. А она станет убегать, а ты поймаешь. А она начнёт плакать, плакать. Зачем Вы смеётесь надо мной. Природа наградила меня неподходящей оболочкой… Уходите. А ты не уйдёшь…
Но она, маленькая девушка, встала и пошла к выходу. А человек остался. Вот она вышла в темноту. А человек сидит. Эх ты, ругает он себя — а ещё писатель. Через двадцать минут он был дома. Родители спали. Он тихо поужинал на кухне и сел в своей комнате писать рассказ, как некто Юрий Смирнов познакомился в троллейбусе с очаровательной женщиной маленького роста и остался с ней на всю жизнь.
* * *
Двадцать шестого числа он написал ей письмо. Мол, сил моих нет. Ты там живёшь неустроенной жизнью. Неизвестно где ночуешь, и как ты себя ведёшь, я не знаю. К тому же не пишешь писем. Каждую ночь мне является твой образ, и ты видишься мне голой с мужчиной, делающей то самое последнее, что можно только мне и тебе. Ты прости, ты прости, но ты приезжай. Двадцать седьмого он отправил ей деньги на дорогу, и он стал ждать. Никуда он не выходил, только на балкон, читал и ждал, когда окончится день. Тридцать первого её не было. 1-го тоже. 2-го и 3-го тоже. Он встал четвёртого поздно. Посидел на балконе на солнцепёке и смотрел пристально на свои руки. Затем взял все свои рукописи за последние два года. Листки, исписанные очень мелко и плотно, заключались в трёх папках. Сложил он это в портфель и пошёл. Там, где была лесополоса, он их вынул, положил на землю и поджёг. При этом плакал. Затем ушёл и пришёл к реке. Тут ему ещё раз вспомнилась вся она — его жена на протяжении более чем трёх лет. Крупная красивая женщина с мягкой большой грудью, очень вся вспомнилась. Он сложил свои вещи с себя на песок. В карман положил записку, а потом убрал её и, написав, «Я ухожу» на другом листке, положил эту. Да, достаточно, а то всегда они разглагольствуют. Самоубийцы.
Он вошёл в воду и поплыл. В руке его был небольшой узелок, что он тоже вынул из портфеля. Он переплыл на ту сторону. На середине реки он даже не остановился. На другой стороне он забежал в кусты и одел холщовые старые брюки, извлечённые из узелка — тапочки и рубашку. И пошёл. И ходил он целых два года. Чего только с ним не бывало. Случайно шёл он, не знал куда. И пришёл туда, где Сибирь, и зашёл в неё далеко. Однажды под вечер его и ещё какого-то старика, сидевших у костра, убили два уголовника, сбежавшие из лагеря. Убили на предмет паспортов. А паспорта у него-то и не было.
* * *
Смотри спокойно ты живи
Гляди в окно, гляди в окно
и не желай себе ружья
и пистолета не желай
Иди скорей ты в институт
студентом стань, студентом стань
и знания ты получи
и с ними на работу поступи.
Не вздумай думать о конце
Бессмертен ты, бессмертен ты
Три на работе ты штаны
Но не бунтуй, но не бунтуй
Не вспомни только человек
что краток человечий век
Не возмутись порядком нашим
не возмутись, не возмутись.
А если ты всё понял вдруг
что усыпляют, усыпляют
А если ты схватил ружьё
и убиваешь, отрицаешь.
то это лучше, чем согнить
то это лучше, чем тереть
уж упадать в своей крови
солдаты, вам, министры, вам
ух как на свете государств
и много есть и много их
и не дающи человеку
дающи только право сдохнуть.
* * *
Железные лица собираются уйти туда, где зимнее тепло воплощается в сквозное и где теряют смысл, голову первые попавшие туфли в разбитых дырках рубаху гладить и одену первую ночную летучую улыбку сердца, стреляя прямо вниз, попадал гул и сквозь грохот стала стоять, чтобы вниз шёл дым сквозь слёзы и казалось, нет, не было и Ему не надо того, чтоб скрип и нет ничего, и нет европейского, и нет никакого, и вот и нет. Грохот, шёпот и скользкая песня и плен рассудка мешает жить долго. Нет и не было скольких мыслей считать во тьме переоценок своих книжек и пищать, как зонтик, к кому обращен и кем взят в награду за завоевание крепостей и планы их стояли, как чертёж в глубине овального поля, чтобы играть тыльной стороной и показывать букву А. И тем легче дышалось, чем смешнее шли в латах они и с штыками наперевес на углубления ниши, где темно и мокрицы. Бедные люди. Везут себя на лошадях, кричат, а им навстречу зияют тёмные ниши. Сидели бы дома, и шёлк колыхался б на окнах. Тем не менее ждут и вот уже скрылись. Их нет. А ниши молчат, как утопленники, и только в них сыро.
Вдруг едва что-то красное увидите. Льно вьющееся и выскользает нога. Вроде бы, едет или проволочилось, мелькнуло, и выскользает жёлтая нога. И за ней тарахтит грохочет деревянная конструкция, деревянная как жёлтая нога — вся в неизвестном значении, как нога и грохочет и сама ползёт, а ведь деревянная вся, а идёт походом и по траве зелёной, обдирает траву и полосы в земле и под голубым до ехидности небом и грохочет, и рёбра её такие торчат. И ещё тёмно-синее пятно выходит из замка идёт по овальному полю и к речке устремляется ему восемь лет или девять про то не знает даже крестьянин, что всегда занят копанием земли лопатой, он и сейчас там очень высокий, огромный нос и длинная голова, а не знает. Вот в канаву осыпалось шестеро людей или семеро. Все они кто-то, а лежат в канаве. Может быть, они умерли. Крестьянин бежит от тёмного пятна, а оно за ним. Сколько пальцев, говорит крестьянин. Пять — отвечает пятно глухо. Нет, шесть, смеётся он и показывает шесть пальцев на руке. Пятно убегает от крестьянина и по дороге плачет, и вновь забежало в замок.
Стены копчёные кирпичные. Выше по ним и уже внутренность, а там пусто. И вдруг угол освещён красным, и мелькнуло и будто проявилось проехало что-то красное на лошади или нет и из него — нога бледная жёлтая как бы без крови в то же время болтаясь. Стихло и ветерок после этого красного будто плаща. Лёгкий ветерок.
По вечерней лестнице — ноги. Одни только ноги ступ ступ — голые до колен. Будто девушкины, а выше всё закутано. Кто? Зачем? Бегут двое и несут цветок за ушки горшка. Целое дерево. Понесли и поставили под окном. Сколько дыма и дым понимает, что он умирает, потому делает это медленно. В долину вошла детская армия. Все они строгие, маленькие и все злые. Они катят пушки, тащат знамёна и серьёзно и грозно наступают на взрослых. А все взрослые убежали и спрятались за дровами. И Иван Петрович, и Александра Васильевна, и бабушка Вера — все скрылись — сидят за дровами — моргают, боятся и вспотели все. Детская армия проходит рядом по дороге и грозно говорит. Куда же они спрятались? Надо их найти. Они как сквозь землю провалились. Жаль, что мы их не нашли, а то бы мы их убили бы. И так детская армия проходит. Но долго ещё из-за дров не выходят Иван Петрович и Александра Васильевна, и бабушка Вера — вечером только выползают, и то очень боятся, очень боятся, берут в доме самое необходимое и уходят в леса, чтоб спастись от детской армии. Там зажигают костёр — идёт дым.
А про детей рассказывают страшные слухи в близлежащих домах. Говорят, что они захватывают в плен молодых, способных хорошо рожать, женщин и совсем мало мужчин и возят их в обозе и там они рожают им детей и всё время привязанные. Вот потому всегда так многочисленна детская армия, даже если много детей убивают в сражениях. Шум, крики, вопли, пот и кровь. Дети плётками гонят пленных, застреливают взрослых, закалывают их кинжалами. Пыльная дорога озаряется солнцем и по ней растянулись многие телеги и меж ними суровые в походной колонне пыльные с окровавленными руками шагают дети.
Один раз в болотистой страшно местности дети встречают ребёнка, который живёт один. Одинокий он сделал себе из дерева хижину в самом центре болота и туда ведёт только одна тропка и там он живёт, а ест коренья и добывает местных зверей, сдирает шкуры, в которые одевается, а мясо он ест и часть зачаливает на зиму. Соль он добывает недалеко отсюда, где высыхает летом маленькое озерко и там образуется пласт соли. Его он и носит в свою избу.
Армия детей подошла очень близко и сказала, чтоб тот одинокий ребёнок вышел и показал им проход через болото, ибо им нужно тут пройти, а вот где, они не знают. Но одинокий ребёнок отказался показывать им дорогу и ушёл в свою хижину. Дети вздумали поймать одинокого ребёнка, но ничего из этого не вышло, хотя они вели войну против него по всем правилам. Только десятка два детей утонуло в болоте. И делать им было нечего — пошли они дальше. Одинокий же ребёнок остался жить на болоте по-прежнему той же своей жизнью, пока его не убьёт лесной зверь. Тогда хижина его будет пустой, в ней спустя много лет обнаружатся дневники и там будет записано, что несколько дней осаждала армия болото и не смогла поймать одинокого.
А если б поймали, его бы не помиловали. С ним бы поступили, как со взрослыми.
* * *
Рыбки в тине
Ноги в глине
Село солнце, стало скучно
Воды вот уже стоят
Красные носки молчат.
Клетка с рыбками и банка
Прут из чёрного железа
и на тра́ве пшённых зёрен
целый ворох голубям
он приехал бабка, бабка
ты приехал, взял сачок
чёрным вечером купаясь
ивы чёрные в кружок.
Это лето точно то
так же точно долото
Набивает обруч бочке
также само квохчут квочки
и затейливая мамка
сына водит в огороде.
Сколько знаю, сколько помню
как на ка́мнях стоит банка
в банке бьются ваши рыбки
Ваши водоросли там
Виктор, Виктор дед ваш ходит
и под яблоней лежит
кирпичом дорожку мостит
бражку пьёт и сон глядит.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шумный плеск игрального стакана
осени погибшие дела
вечером на молодой террасе
был забыт стакан, и он шумит
В октябре, в конце его, у цели
тех минут, что взрослые достали
я скажу себе и всем иным
дело в том, в оставленном бокале
Разве вы повозкою поехав
долго платье мяли, но зачем
Я скажу, что тёмное виденье
не весной, так осенью лилось
молодые песни возникали
Долго ехал и в квартиру вёз
сам себя замученного так,
что вдали сидело два моих.
* * *
Я помню ту редиску, ту
что разговаривая ели
два моих брата уж давно
и так давно, и так давно
два моих брата ели шумно
один весёлый инженер
другой весёлый остроумный
ещё почти что пионер
сидел я наблюдал, и вот
мне уж пятидесятый год
и я не пью и не курю
и вдаль через очки смотрю
Кому была нужна записка
что мне прислали, что они
Кому нужна была редиска
и те потомственные дни.
* * *
Резкости радости надобно
и управленья собой
тёмности, во́лков нам надобно
чтобы пришли бы толпой.
Пеплу и плача нам надобно
сто генералов и сто
сто париков невида́нных
двести казённых пальто.
* * *
Голубчик ваш плач, ваш плач
Голубчик, весь вы, весь вы
Какие-то слышатся речи
Рычат приглушённые львы
Всё больше и больше старея,
я с зонтиком бегаю тут.
И лента, стучась и белея,
и косы из мяса растут.
И на городской вечеринке
Когда на живот лёг фонарь
Когда по лицу целованье
и щётки пониженный звук.
Тогда я скажу полусонно
всё ясно, всё ясно, мой друг.
Вы мой дорогой, неутешный
Вы мой постепенный супруг…
* * *
В этой сонной стихии
и шкафов, и буфетов
В этом запахе тонком
старинных цветов
я лежу каждый вечер
и моргаю глазами
и я думаю тихо
о себе и других…
Тут легло столько теней
различных хозяев
Тут ночами в подтяжках
гуляет Петров.
Это он изувером
это он анархистом
здесь он жил и молился
этот странный Петров
И поскольку мне тоже
стала бесцеремонно
появляться являться
надежда убить
я смеюся и плачу
я свергаюсь с дивана
и немного печальный
лежу на полу.
* * *
Среда, суббота, вторник медный
Кусок угля, огромный стул
Из штукатурки на тарелку
кусок отсохнувший упал.
Я ел один, и ел немного
картошку вместе с огурцом
Была как будто бы деревня
и я был словно пастухом.
Я пас шкафы, диваны, стулья
цветы и книги, вазы, дни
А ночью пас ещё и тени,
слова вприпрыжку и огни.
* * *
И утром, и вечером он погибает
Он не знает, что делать в сём мире
Он тихонько печально сжимает
свои тонкие губы вдвоём.
Ему нравилось лето былое
Сколько нравилось, сколько текло,
но теперь над холодной рекою
не дрожат ни рука, ни весло
и на тёмных скатерках в квартирах
опадают стоящие цветы
и ножи возлежат все вместе
в сонных ящиках тёплых столов.
Я ему говорю, чтобы он
ещё больше и плакал, и злился.
Я ему говорю всё равно
пропадёшь, мол, зимой за окном.
* * *
Есть в области Харьковской местность
там поле, стога и овраг.
В овраге колодец под деревом
и козы пасутся вокруг.
И мелкое кладбище рядом
и мутный течёт поток
люблю это бедное место
и сонно там пахнет полынь.
Там с некою девушкой вместе
когда-то провёл целый день
Она была странная очень
весёлость её не от здесь
Она кувыркалася в сене
Она пригласила меня
и едко дымилась свалка
когда мы шагали назад.
Есть в области Харьковской местность
Я был там один только день.
Болото там есть и козы
На каждой могиле — яблоко.
* * *
По темноте, за манием руки
я не пошёл, остался в нише
и к статуе прижался я
как невозможно уже ближе
У статуи бока блистали
Они блистали от дождя
И в руки к статуе попали
три капли тонкого дождя.
* * *
Милые перила через милый мост
время вас свалило
помер ваш костяк
Лишь торчат под небом
голые бруски
да свисают в воду
чёрные доски́.
Память человека сохраняет всё
Тихую пустыню
наконец
память моя в шляпе
сохраняет шов
гвоздевые шляпки
стук ночных подков.
* * *
По-майски пылало окно
и в нём сражался огонь
Любил этот мир и он
потому что старым забвён
И только света нет
в окне, где было бы да
да утекает вода
под корни дерева лет…
* * *
Там были вазы, паутины
по стенам странные картины
и сколько нищеты в углах
холмы из хлама на столах
Подмётки, кружева, рубахи
перемежались с рваной книгой
Большая клетка канарейки
и маска жёлтая корейки
и длинная коса еврейки
Прибор большой и мрачный сильно
стоял, в луче блестел обильно
Своими гранями стекла
здесь жизнь невнятная текла.
И сыпались отвсюду мухи
Ссушёные, о мух нет муки!
* * *
И памятник. И белый лист
И гром геройский в небе
и пляшет поздний гимназист
вия своей одеждой.
Плетёных этажерок ряд
все книги в непорядке
матроски на плечах висят
детей и братьев младших.
* * *
Плавали в буром пруду листья
ивы узкой и хмурой густо
Попусту лодка плыла синяя
выцвела уж давно… вёсла…
Помнит ли он… кажется, чёрный бок
камня…
Или же жёлтый бок
берега.
Кажется, что облака и сосны
были.
Впрочем, может, одни узкие ивы
только.
После обеда к вечеру ближе
катались.
Лодку наняв… её отвязал
сторож-китаец.
И разговор был такой
словно
Видели всё, что впереди
ясно
Жарко лениво лежала она
Он же
вёслами слабо руководить
бросил
Книга упала в воду и вниз пошла
быстро
Классик седой утонул в пруду
Скучно.
* * *
Петя Кукин представлял из себя
человека.
Мать его находилась совсем
далеко
Красное лицо Пети было большое,
Петин рыжий чуб — висел вниз
Петя ходил по утрам в магазин
на службу
там он в халате белом стоял
за прилавком
Он отрезал ножом колбасу, сыр ли
и отмерял их на точных весах.
Как он встречал подругу свою Наталью
Он ей улыбку и колбасу доставал
Вот так и шла жизнь Кукина Пети
По вечерам скамеечка их ожидала
Скоро женился и стал по жене своей лазать
Чёрные кудри её от страсти кусать.
Дети его подросли, отпустили причёски
Скоро женились и также родили детей
В хмурые дни осеннего времени как-то
Петя взял умер и был схоронён сообща.
* * *
Однажды жил Бекеш на свете
и ночь собой переживал
Знакомит как-то на дороге
его с собою девочка.
И говорит ему: «Пойдёмте
гулять в долину, где колодец
в овраге том остатки стен».
Пошёл Бекеш за нею потен.
Они прошли под жарким солнцем
Спустились в форменный овраг
Со всех сторон дымы вилися
зажжённых сваленных бумаг.
Бекеш нагнулся над одною
изображён был целый мир…
Она его взяла за руку:
Пойдём же дальше, мой кумир.
Её примета была длинный
намного бо́льший сарафан
Её же узенькое тело
легко-легко болталось в нём.
Бекеш не понимал ни капли
зачем его сюда ведут
Она его всё волновала
и прыгала вокруг него.
Деревья старые порою
на склонах глиняных стояли
Тела поросшего травою
оврага молча украшали.
Бекеш и девочка сидели
полулежали под их сенью
и муравьи их раздражали
и поцелуи их сближали.
Она несла всё время камень
к колодцу, кинуть в него чтоб
Колодец светлый был, однако
поили в нём лишь только коз.
А коз гуляло очень много
и чем-то очень неприятны
они вздымали в высоты
разнообразные хвосты.
Она бросала камень свой
и брызги в стороны летели
потом они пошли и сели
и мутный тёк поток большой.
Было болотце посередине
Не видимо конца оврагу
ветра гоняли вдоль бумагу
у ней же волосы висели.
Бекеш тут обнаружил странно,
что один глаз её не свой
что не живой он, а стеклянный
но точно будто бы живой.
Его всё это изумляло,
что запиналась её речь
что выпивши воды, упала
и стала плакать, слёзы течь.
Бекеш сидел над ней не зная
как утешать, что говорить
овраг вокруг темнел, и стая
бежала уток — воду пить.
И тут она в слезах затихла
комком лежала на траве
и сразу травами запахло
и задрожали души — две.
В ответ её какой-то просьбе
обнял её он как дитя
Она смеялась и просила
чтобы её душил, шутя.
Он горло ей слегка нажал лишь
как вновь заплакала она
А в это время две фигуры
ребёнков маленьких прошли.
Она вскочила, потащила
Бекеша за руку, вослед
ребёнкам, что в руках сжимали
кто деревянный пистолет,
другой же автомат железный
и в копне́ сена поползли
она в игре их принимала
участие как командир.
Вон жук, вон чёрный в ели, чёрный
неси его, неси сюда
ах, ну какой же ты упорный
ну, лезь же, мальчик, лезь туда.
И мальчик подавал жука ей
Она сжимала вся его
в ладони мокрой, словно кашу,
и он трещал, и он уж павший.
Такое наблюдая смутно
Бекеш полулежал в копне
Раздумий пробегали тени
в его чертах лица наедине.
Когда ж она в него смотрела,
заглядывая и грустя,
Любил он слабенькое тело
и неподвижный один глаз.
Она странна и, несомненно,
она болезненно больна
Её вон прыгают как руки
и как вся бегает она.
Затем она меня позвала
и познакомилась со мной
что я ей показался тоже
и свой, и бледный, и чужой?
Вокруг развешанному миру
но что-то делает она
она пустилась кувыркаться
шуршит под нею вся копна.
Уходят маленькие дети
куда-то рядом, где дома,
Бекеш с своею непонятной
сидят и длительно молчат.
Всё так же тлеет там бумага
Вдали видны её дымы
А правая вся часть оврага
совсем темна, и видим мы
Что та целует у Бекеша
большую руку всю
и что-то шепчет
и говорит «укусю».
Они поднялись посидевши,
отправились к домам своим
Взбираться на гору пришлось
он помогал ей, обнимая
Когда пришли
«Прощай, прощай»,—
ему сказала, убежала.
Он очень долго постоял
пока её спина мелькала,
когда же не было её
он так подумал: да была ли
она, быть может, забытьё
фигура дыма в летней дали
Ни адреса не сей земле
ни имени не сохранила
и местность ту я не найду,
хотя б вокруг меня кружило.
Где козы, где колодец, где
ещё и кладбище на горке
Такое встретите везде
Овраг. Поток бумаги… Корки…
И он ушёл, чтоб в час ночной
лёжа, мучительно сжиматься
Легенду сделать из неё,
молиться ей и поклоняться.
* * *
Егор был братом этому саду
Саду земному, тёмному яду
Аду краплёному, листья точёные
Чёрные земли и толчёные и у ограды
Ворота кручёные будто драконами
искривлёнными изборождённые.
Егор был братом, своим человеком
в этом саду корней, ветвей, стад,
где лежит кто-то подобный брат
женоподобный и красо́ты манят
и извивается, точно гад
и данный уже фиолетовый сад
испускает ночной аромат
от любого своего предмета
на все четыре тайные стороны света.
Даже Егор не был рад,
когда один приходил он в сад
и под ночными шептаньями сидел
и в глубины вокруг глядел.
Ему шею резали взгляды кустов
Ему было больно от сада кусков
и во спасенье его седин
ему запретил туда хаживать сын
и сад глядит, наружу стучась,
и льёт свои соки в песок и грязь
и ищет шляпку, которую съесть,
если б владелице в гости забресть.
Стихнет в нём всё, лишь коровы стучат,
которые ходят в запретный сад.
А утром уходят, в коровьих глазах
утром стоит большая слеза.
* * *
Личность Петра сидела в норе
в своей сырой нанятой комнате
Бледненько лоб из тьмы выступал
Пётр в своей книге что-то читал.
Вот перерыв он себе объявил,
руку он в ящик стола запустил
Хлеб он достал для себя самого
шумно и с солью поел он его.
Крошки последние в рот обведя,
снова он книгу берёт, заведя
Речь монотонную чтения вслух
немолодой он, лет тридцати двух.
И на нём чёрный берет.
* * *
Кости стали дешёвые, как никогда не были прежде. Вот и стали их продавать. Ночь, как пустой кошелёк. Хочешь быть мягкой — будь, ступай в дождь и, может, не пустят затем и не нужно будет стекло. Мест нет никаких, но куда же это ввергнуть чин дать и дать мозг. Как дать мозг, каким образом, чтоб дать, а не взять, потому, как это хорошо в белом оставлении, и мы вынесем того, кто думает талантлив, наружу — испытывайте их. Они, конечно, без дара. Круглый лишай родился в стране, где страх и страсть и блок блондинок с песней мы раз мы два, но мы не три.
* * *
За редиску из флага,
За модистку из лука
Я отдам свою память
совершенно так.
За редиску из флага,
За модистку из лука,
За пустяк.
* * *
Придя к порогу гладких индивидуальных переживаний, решил есть чуждую похлёбку из состоящих без времени продуктов. Доктор старался жить поменьше, а побольше умирать, и это доставило удовольствие чадам ждущим. Они спрыгнули с мирного потолка и подошли, опираясь на тени. Кто является из вас главный доктор так запросил. Сущность от этого ли меняется, или ты спасёшь мелочь? Они так ему давали назад. Дрова жечь не поле перейти. Главный из декабристов был Култаев. Он был, может быть, граф или же жёлтый повстанец и никогда не ходил у Наполеона в ногах, а отвечал ему легко со свистом. Сколько ты подарил цветов Розе. У нас в роду никто не дарил меньше чем пять. И тут-то пришла бритая кошка — один-единственный зверь, что пела, что ела — неизвестно, а только кошка Ираклия — Ираклий француз родился поздно, крестился сам, а умер холостым. Сколько ещё неженатых несчастных субъектов снуют в комнатах, режут себе усы и хлюпают в слезах, но вечер перед зеркалом в туфлях глухие. Чувств нет, всё забрало время, только керосинка, ужин, ужасное пустое сердце и что-то описываемое зрительным путём и отдельно путём уже другим — путём восторгов, то есть словесным мозговым. Передвижение же предметов на плоскости есть выражение сущности нашего я без участия ума. Совершенно чистая моя сущность есть передвижение меня и моих предметов по плоскости.
Каллистрат Генералов — величайший лирик эпохи. Его шинель — это шинель шёпота и многих даже. Всё, что он одел на себя,— это речи мирового духа. Это нежное нижнее бельё — эти реки нижнего голубого белья и это серое земельное верхнее шинельное — это земля, и сам Каллистрат Генералов — это выступившая булка, это хлеб, который вышел на земле. Тут приходит к нему любовь. Прямо в дом. И желает добра. И берёт домру. И начинает играть. А поддельная, а выдаётся за белую. Но почти все знают, закрыли глаза. Солнечный удар. Пышные тела расселись по лавкам в бане. Каких красавиц согнали сегодня сюда. И немногое лишь скрыто паром горячей воды. Остальное видать, и оно хорошо. Но как горько отцу, что такое, и дочь тут. Он согнал всех, а дочь не объявил. И вот она прикрылась руками стыдливо стоит, а он же её зародил. Политическая ошибка, надо было вернуться, заделать ошибку, вынести сердце и заглушить бой метафор о стыде и детях. Гордый жестокий, белая пена Кавказа, ярый властитель. Щекотная личность жена возила за собой краски и рисовала поля, рвы и крепкие крепости. Выходили вечные сердца, а на поляне танцуют целые орды и глупо кричит дерево — дайте морозу! Дали зажигалку, и вспорхнула мудрость — тяжёлая птица фазан в последней стадии лета. Молча зреет пшеница, как-то сбоку бегает ячмень. И стыдим мы Машу, пристыживаем. Среди лета. Клумб. Пыли и радости и стыдим Машу. Припугиваем даже. Она зажалась вся под деревцем, сумочка рядом, чтоб умереть — шаг сделал и пожалуйста — умерла вся. Бурьян покрыл, буран повил, намёл, накрутил, уши заложил. Красочные краски. Стулья в сердце лезут. Пора лезть в мешок и потом спать. Как будто сказали «Возьми напялить, напади на Пашу и будь, как все». В то же время не в том дело.

Четвёртая и пятая тетради
Сон
15 августа 1968 г.
Глядя из окна. Окно чьё-то, каждый вечер или же это ночь, показывается как бы на озере вдали. Как бы там павильон. Он белый (?). Показывается фигура. Она белая. Она вроде женщины с кокошником. Но она плоская. О ней рассказывает он — Иван Петрович, что ли. Он крепок, он коренаст, он тёмный и масляный рабочий. Живёт он в доме влево, если глядеть от окна. А павильон вправо находится (или то место на воде, где появляется). Вот там пульсирует белая пунктирная линия квартиры, где он живёт. Он лёжа говорит о том, что появляется, когда и как. Она плоская, она белая светящаяся и она со всех сторон одинаковая. Говорит он как бы лёжа и как бы с ухмылочкой.
Тот, из чьего окна гляжу — он высок, худ, и нос вроде длинен и волос серый, что ли, завьён немного. Будто бы имеет мать, и она где-то поблизости. Но, наконец, мы у окна и начинаем видеть и всё так, как сказано. Фигура появляется задом, лица у неё не видать, а затем поворачивается в лице что-то общее. Затем какие-то огни странные или пятна. Они ни на что не похожи и бегут по воде к окну рядом и там исчезают. Они не похожи вроде и на животных, но страшны, порой кровавы, это ужасно. Я закрываю одну створку окна и другую из другой рамы. Мелькает мысль, что они пролезут, но страшно уже высунуть руку в то, что наружи. Боюсь, что схватят за руку, нет чего-то неосознанного. Бегу в комнату его, этого парня, в коридоре натыкаюсь на два огромных длинных мешка. Пробую рукой, а они мягкие-мягкие. Ещё более пугаюсь. В комнате он и другой, и они глядят какие-то работы другого. «Хочешь работ»,— говорит парень. «Нет»,— говорю. «А то выставляй на выставку завтра».— «Нет»,— говорю. А сам думаю: хорошо бы выставить, да, нужно было им сказать раньше, я бы успел что-то нарисовать, и тут же книга. Она толстая и на ней светлое заглавие как бы на фотографической обложке. Я её читаю, а там написано: многое было до нас и нужно об этом помнить. Многое было и говорится, что не было. А я думаю о том, что у человека лишь часть дня, когда не работают духи, а затем вокруг работают духи. Тяну всех к окну. Но они как бы привыкли. А там по воде бегают всякие тайные знаки и вещи и опять исчезают в окне рядом справа. Из двери справа выходит Ира Брусиловская, и она, оказывается, тут живёт порой, сей хозяин у ней как бы ещё муж. «А они не влетают в твоё окно»,— говорю я.— «Нет, я на них не гляжу. А если не гляжу, то будто их нет. Хотя я их очень боюсь». Вот у меня билеты. Их достаёт Савинова. Но мы не ходим в кино. Мать парня не удивляется Брусиловской. Очевидно, она не знает, что та находится замужем. И она девочка — ходящая к своему парню. Я всё время думаю о том.
Добавление: Когда я листаю книгу, то думаю, что если сидишь внутри комнаты и читаешь и пишешь и все ясно несложно, но сие есть разум. А на самом деле, какие жуткие завихрения происходят вокруг. И огромна область духов.
* * *
Под правым боком — лес лежал
и левым боком степь — зияла
крестьянин в шапке прошагал
и от него подмётка спала.
Травою тихою задет
лежит и спит пришелец Миша
Сергей Иваныч от него
прилёг в каком-то полуметре.
И смотрит грустно напряжён
бухгалтер бывший исполнительный
как за рекою виден он
их цель пути — завод волнительный.
Они пришли, чтоб тут себя
на время тру́дом подстрои́ть
чтоб попотеть и покряхтеть
за это деньги поиметь
ведь нет же выхода у них
Один был выгнан, другой молод
а без работы мир есть лих
и нападут болезни, голод
О рыжий Миша, ты ещё
всех трудностей не представляешь
подумал, глядя на него,
задумчивый Сергей Михалыч.
Его щека дернулась вбок
он сел и стал глядеть на ноги
уж скоро примет кабинет
отдела кадров их в чертоги.
Маша
Она была толстая с толстым носом, ленивая, даже будто отёки, вздулось вроде лицо. Было ей пятнадцать лет, и она себя вела как-то не так. Одета была в нечто длинное не очень опрятное, скорее всего, чёрное, а может, коричневое или тёмно-синее или бурое. И это стлалось за ней. Юбка ли её, или же иное, другое. Она писала некоторые стихи и делала себе удовольствие — прогулки со старыми пьяницами — седыми и в пятьдесят лет торгующими книгами. Очень любила пить в забегаловке с ними вино и закусить бутербродом. А они бывшие старые железнодорожники-контролёры. Худые с кадыками в ватных безрукавках. И в зоопарк с ними ходила и была растрёпана нечёсана с сальными длиной волосами как голландские толстые старые художники-мужчины. Она была больна, и лечил её доктор Сонников. По-видимому, такой субъект в чём-то сером одетый и седой с серым волосом. Вот.
А потом она перестала пить кофе много и появляться там и тут. Она стала быть знакомой с фотографом цветной фотографии и целый денёк сидела у него в мастерской на базаре. Он был там один. Но там же он и жил. Стояла печка, была кружка, и кошка ходила. А в другой комнате он быстро сажал заказчиков. У него перед тем было две жены, и от них он имел по девочке. Ему лет тридцать было, когда болезнь туберкулёзовая. Сам белый телом и очень честный и хотя слаб, вроде, и даже дрался, если ему кто чего такое скажет, вроде кажется обидным.
Всегда сидит там, и когда приходят знакомые, то иногда долго не открывают. А знакомые войдут, глядят, она без чулок, а ведь зима. Видать, что-то меж ними. И тиха по-прежнему молчалива, и юбки ещё длиннее у неё. Володя мне не разрешает коротких юбок. Володя. Володя. Он её стриг. Он с ней поехал в лето отдыхать. Она стала ужасно худая, какая худая! Она всегда иногда раньше заводилась истерически хохотала и переводила немецких поэтов. Например, Кляйста. И рассказывала о его чудной жизни. Очень был необычный взгляд. Отличный от обычных взглядов. Теперь она очень спокойна, но не лениво-спокойна, а по-другому.
* * *
Тот помнит страшные слова,
которы говорились утром.
И также ценные врачи
прошли на цыпочках сперва.
Затем кокетлив санитар
нёс тело длинное под мышкой
и обломился один день
и от него пошёл жар.
* * *
Белели не кости на дивной бумаге
И то не вели своих, нет, не вели
В шарфах не ходили босые по влаге
Не шли к отдалённым виденьям земли
Всяк был своих сонных частей хозяин
И если вы взяли какую-то часть,
то вам возвратили наследника целого,
а он проклинал вашу власть.
* * *
Удивительные люди,
удивительны сутки
в магазине полдневном
чёрный ворон висит
На Козловской картине
есть девица с левкоем
У неё распустился
этот что-то левкой
На Козловской картине
есть ещё тёмно-серый
совсем низкий мужчина
с своим галстуком белым
и того, и другую обнимают потёмки.
* * *
Бумаги варёные
Счастье развратное
меж мною и вами — бельё.
Я верю значительно
в свою исключительность
в волшебное имя моё.
Поправили бороды
пошли закачалися
все тени на теле твоём
и пряжка печальная
на что-то надвинулась
и серый твой галстук затух.
По-прежнему играется
только вышивка
по карману едет она
А на ложку упала
твоя высохшая
слеза как из окна.
По морозу с кровати
ты дошла оборачиваясь
я люблю твоё мягкое ухо
и вот ты легла изворачиваясь
на правом боку
в одеяло из пуха…
Пока это происходило,
я стоял у окна
и глядел на тебя
и во мне возникала
мужская сила
и она смеялась в ответ
ты фуражку мою не терзай
В этом свете пяти часов
нам предстал
твоей комнаты край
Твоей зимней ноги твоей зов
И того, и сего нет
и нет сего, и того тоже
и только будто портрет
твоей бабушки слабо ожил.
* * *
Жулик лез в окно Леонтий
Без последних дней жилось
Красная Луна подходит
Всё в квартире забралось
Тащит узел он по снегу
Шумно трескает сапог
Холодно… ах мне бы негу
Тёплый весь бы уголок
Брюки ватные с халатом
и селёдку на столе
и жену бы с книгой рядом
да узоры на стекле.
Эти тайные порядки
Я мечтаю приобресть
лишь продам я шубы, шапки
состоянье стану плесть.
А скопив довольно много,
поведу себя в базар.
Там куплю довольно много
дом, а также самовар.
А потом жену по семьям
я отыскивать пойду
Не хотите ли отдать ли
вашу дочку мне… веду
я одну такую дочку
и сажаю в уголок
шёл Леонтий, нёс он узел
и шумел его сапог.
Приближалася равнина
А за нею поворот
Вот свернула его спи́на
Никто больше не идёт.
* * *
Лампа божья горит
Стол стоит стол столы
Бледный человек глядит
Книгу толстую листи́т
Парень он, парень сам
Парень верит голосам
Сих веков и тех веков
Пылью тянет от столов
В мире дощатом до низу
Хоть ты парень и красив
Но однако не на столько
чтобы был одноречив.
* * *
Боже мой, помоги мне, маленькому
Помоги мне, костюмчик мой, помоги
Я да найду себе жену богатую,
Да найду её себе поскорей
Уже истощаются силы моральные
Как истощились вдали материальные
Скоро ткань поредеет и разрушится
Немедленно надо ей решиться
Решись, моя девочка некрасивая,
Нет сил у меня, мною собранных
Все они кончились, уже кончились.
Мне стоило многого, такому слабенькому
изображать из себя любовника
мне стоило многого средь виноградников
гулять с тобой у моря южного.
Туфли лаковые чужие лаковые
натёрли пальцы мне мои бледные
Костюм мой тщательный скоро разрушится
О выходи же за меня, столь робкого,
Ай я жизни боюсь бродяжницкой
Или жизни боюсь я нищенской
Потому и сулил предстать обольстителем
Пожалей меня, любимая, выходи за меня
Некрасивая, снова я оденуся
Буду у тебя сидеть в куртке бархатной
Рисовать буду некие образы
В большой светлой рабочей комнатке
Скорей уж, а то вид мой рушится
Пиджак залащивается,
туфли сбиваются
Как увидел я
твою жизнь богатую
твою жизнь знатную тёплую
Как попил кофе из чашечек
Как поел фруктов свеженьких
Так захотелося мне остатися
Век тут жить, сливки с кофе пить
в белом всём засыпать
Нет, нельзя мне идти в каморку снимаемую
Невозможно мне вновь там в сырости
там всё всякое по стенкам бегает
насекомые, а мыши по полу
нездорово там и тускло там
Я тебя за глаза молю
Будь неумненькой, будь влюблённою
Пусть я мил стану тебе до невозможности
до союза заключения брачного.
* * *
Эти двери длинные — тревожь
Нет какой-то милой тишины
ты еврей, ты носишь из муки
две твои печальные щеки.
Маковые зёрнышки волос
и усы, и борода в них скрыты
Поздний чем-то ел телеграфист
Волны набегали где-то близко
С шумом подошёл ещё один
оказалось, он уже татарин
Ах, ну до чего ж на свете стран
много и людей, он мавританин.
* * *
Из пункта А в пункт В шёл один еврей. На голове у него была шляпа. Навстречу ему из пункта В шёл ещё один еврей, и на голове у него сидела птица. Они поздоровались и поменялись головными уборами. Потом ушли. Теперь дорога меж пунктами А и В абсолютна пуста.
* * *
Стоит человеку как-то от чего-то от заботы какой-либо отойти, отдохнуть от неё, наступает у него задумчивое такое состояние. И тут он начинает задавать себе вопросы. Какие же это вопросы. А всяческие. А очень различные. Как такие, так и иные. Например, о себе. Кто я? Действительно, кто я? Моя профессия. Ну, может, я ученик доктора. То есть я учусь у доктора или у многих докторов их искусству. Выучусь и стану лечить людей и получать за это деньги. Деньги? А может, и духовное удовлетворение?
Может, что и духовное удовлетворение. А как это — духовное удовлетворение? Что же такое дух и что есть удовлетворение духа.
Что дух? Ну, я человек простой, в смысле необученный, и объяснять себе это стану по-своему. Дух это, ну, это такое, чего нет в материальном смысле — это не предмет, т.е. это не животное, не растение, не камень, не небо, не вещество.
Выяснил я для себя — дух это не предмет. Дух нельзя увидеть. Если дух нельзя увидеть, то что же нельзя увидеть? Как называется то, чего нельзя увидеть. Оно называется мысли. И оно может называться ещё чувства. Так что же дух — мысли это или чувства. Или же дух это и мысли, и чувства.
Тут я стану представлять себе, что же такое чувства и что же такое мысли.
Что такое чувства?
Это свойства моего тела, присущие ему, проявляющиеся у него при прикосновении к предметам внешнего мира. Они присутствуют постоянно беспрерывно и улавливаются специальными органами моего тела. Зрением я вижу предметы мира, при помощи носа я различаю их запах, т.е. мельчайшие частицы их, этих предметов входят в мой нос и там вызывают определённые каждый раз различные раздражения.
Своими пальцами, да и не только пальцами, а всем своим телом я могу осязать предмет, его твёрдость или мягкость, его поверхность, ровна она насколько. Таким осязаемым предметом может быть что угодно: и собачка, и вода, и камень, и огонь, и небольшая горячесть печки.
Слухом своим я слышу звуки столкновения, вернее сказать, соприкосновения двух или сколько угодно предметов между собой или же соприкосновение предметов с воздухом.
Ещё один аппарат моего тела — рот — устроен так, что я могу ощущать им вкус предметов. А что такое вкус — это просто различные раздражения поверхности рта и языка.
Обобщим и добавим:
а) Вид предметов моё тело воспринимает посредством зрительного аппарата — глаз.
б) Вкус предметов моё тело воспринимает при помощи аппарата — рта.
в) Звуки от соприкосновения предметов с другими предметами или же с воздухом улавливают посредством волны в воздухе его колебания — мои уши.
г) Запах предметов, их мельчайшие частички, рассеянные в воздухе, улавливает аппарат моего тела — нос.
д) Улавливать же свойства предметов — их твёрдость, ровность, их горячесть или холодность — их форму, температуру — короче, их состояние — может аппарат — руки. Но это может делать с тем или иным успехом и вся поверхность тела. И зад — ягодицы человека ощущают форму. Когда речь идёт о прикосновении предметов — тут же можно вести речь о боли. Колющие, режущие предметы ощущаются всем телом: и иголки, и ножи, и горячие инквизиторско-фашистские щипцы. Всё тело ощущает боль. Осязанием занимается всё тело.
е) Аппарат размножения связан, очевидно, с другими аппаратами чувств и является их ответвлением. Впрочем, я, кажется, ошибся, да, точно, я ошибся, включив его сюда. Это уже относится к работе человеческого организма.
Тут нельзя ли предположить, если учесть, что осязанием занято всё тело, что всё тело также может видеть, как и глаза, также слышать, как уши, и нюхать, как нос и вкус различать, как рот.
Недавно появились слухи и факты о видении пальцами. Так может, человек мог ощущать раньше всем телом то, что потом перешло к отдельным органам аппаратом тела. Ведь осязание — и боль от его крайних проявлений принадлежит всему телу. И ведь вот есть открытия о видении пальцами. Ладно, помолчим об этом.
Что же такое чувства, вернёмся к началу. Это свойства моего тела, присущие ему при соприкосновении с предметами.
Добавим, что эта формулировка полностью соответствует только осязанию. Для других её расшифрую. Какие свойства моего тела при осязании, то есть при соприкосновении его с предметом. Если предмет колючий — острый — остро. Если он очень горяч — горячо очень. Если он сыр — мне мокро. Если он тёпел — мне тепло. Чувства это: колючий, раскалённый, тёплый, мокрый, холодный. (Больно — это отношение организма к чувству.)
Далее во вкусовых ощущениях: горько, сладко, кисло, терпко, вяжуще. Три первых основные, а остальные уже смешанные очевидно. (А как организм отвечает на сладкость, кислость — это уже его дело конкретное. Хорошо мне — это уже мысль.)
Также зрительные: большой, маленький (осн.), цвета сюда входят и многое другое.
Также ощущения носом запахов — тут уж и не знаешь, что назвать, тут крайне ограниченно: сырость, сухость, а дальше подмывает написать запах сероводорода, запах кала и пр. Но это уже работает мысль, она узнает.
Звуки. И того меньше их, когда начинаешь думать. Громкий, тихий.
Тут побежим скорей вперёд, чтоб не потерять мысли. Весёлость, как повашему, это чувство. Как можно ощутить весёлость. По-разному: поглядев на голубое небо. И ещё плюс хорошо поев. То есть вкусовые раздражители удовлетворены и зрительные они получили своё и, сложившись, образовали чувство весёлости. Чувство ли оно? Мне думается, нет. Почему нравится голубое небо? Почему моему телу вид неба нравится. Как так нравится? Что находится в нём такого, что мои глаза. Нет, не так. Мои глаза раздражились от цвета голубого от обширности небесного предмета, т.е. воздуха и от его голубого цвета. Но кто сказал да. Кто сказал нравится. Кто отдал команду смеяться. Глаза ведь они только раздражились. И всё. Считаю, что внутри меня какой-то аппаратик зарегистрировал это раздражение — ага, раздражение вот такое — не спутал с другим ни с каким, ни с серого неба раздражением — а именно это — и передал его туда, где всё зарегистрировано и как следует организму на это отвечать раздражение. Соединилось это раздражение с двигательными концами мышц и моё лицо расплылось в улыбке. Откуда же моё тело знает, как ему ответить на это вот раздражение. Откуда оно приобрело это знание. Да ведь бывает, что я не улыбаюсь голубому небу. Когда я занят чем-то иным. Нет, не только тогда, но и тогда, когда ничем не занят, я могу не улыбнуться голубому небу. Не обязательно.
Где же тут ответ. Может быть, я улыбаюсь только тогда, когда я думаю о том, что это хорошо. Поглядел на голубое небо, подумал — хорошо и улыбнулся. Но мог же подумать, что хорошо, но не улыбнуться. А просто пройти, а мысль в голове. Может быть, голубое приятно моему телу — раздражение на голубое. Но ведь часто приятно и чёрное, и жёлтое, а ещё приятно и зелёное.
* * *
Писатели в прошлом умели читать своих предшественников. Умели брать от них те навыки, которые необходимы профессионалу, не особенно затрачиваясь на приобретение этих навыков самим. Мы же не умеем этого делать. И у нас отсутствует смелость. Мы не считаем себя готовыми к написанию больших связанных кусков — полотен.
Начиная «формалинничать», наши забывают основной принцип — серьёзность жизни человека, которую они описывают. Да и себя самих они, очевидно, не могут рассмотреть серьёзно.
У них ущербный принцип исходная позиция какая-то такая, будто смысл имеют разговоры, характеры людей, их профессиональная деятельность, а не их жизнь. Отсюда нет трагизма в таких произведениях. Нет, значит, ощущения подлинности. К жизни своей и изображаемого персонажа надо относиться с трагизмом, прочувствовав каждую утекающую навсегда минуту, старение своего организма и единственность его, и отсюда важность всех действий, поступков и мыслей.
Раньше писатели как бы принимали это ощущение единственности человеческой жизни от других, если не от себя. Это было само собой разумеющимся. И потому даже второстепенные писатели того времени грешат чем угодно, только не отсутствием трагизма.
Надо давать понимать в каждой строчке, что этот человек умрёт, что этим мы, люди, и интересны, а будь мы бессмертны — мы как бы были скучны.
И потому не только люди необыкновенные чем-то интересны. Но интересны люди и совсем обыкновенные, напротив того, чем-то мелкие и мерзкие. Где-то есть такие области, что там смыкаются и благородный необыкновенный человек, и обычная обычность. Всё начинается с человеческих штанов, где стоит запах мочи, если их долго носить, как мужские, так и женские. И только у тех, кто имеет свою ванную комнату и моется на дню по два раза, этот запах исчезает. Но таких мало, чтоб уделяли этому время.
Дух у нашей литературы не тот (у искренней более или менее её части), а того духа, великого духа русской литературы, нет.
Очевидно, ею занимаются не те люди. Или те ещё не родились после продолжительно кровавой прополки русских людей, а ещё более после прополки их умов.
В жизни своей они те что есть, не разобрались, что ли. Самосознания не достигли.
* * *
Попозднее радостью пронятый
жил себе и в жизни был чудак
В ранних же годах считал её проклятой
и от ней испытывал он страх.
Но тогда он не умел подумать
обо многих меленьких вещах
ни о вилке с салом ни о солнце
ни о до́ске, пахнущей ай как.
Как идут по этой до́ске жилы
дерева тугие напряженья
и как гвоздь хорош своим единым
обликом резным и строгим.
Всё это хотелось уже делать
также и чернилом по бумаге
даже и не буквы выводить
а лишь просто линии чертить.
А любовницу по этой жизни
взять себе найти так это вовсе
что-то неземное совершенно
ну такая радость ну такая.
Публика любуется вся ею
ты её ведёшь, держа за руку
а потом тебе она покинет
поимеешь за неё ты муку.
Мука же о ней ещё прекрасней
чем даже и с нею пребыванье
Ты сидишь собою занимаясь
и тебе теплы твои страданья.
Как привычной шубы мех старинный
и её к плечам прилеглость
так и эти муки ночью длинной
по щекам течёт вологлость.
Был ты в бледной юности печальник
Под конец приятны тебе дни
хотя смерть и верно твой начальник.
Невозможно лечь заснуть
Станет стыдно там в постели
написать вы не сумели
вам потомки воздадут
Так и стало по ночам
В двор весь чёрный есть окошко
По своим идёт делам
мной подобранная кошка
На прижившемся столе
и блистая, и светясь
лежит белая тетрадь
от меня отворотясь
Тяжело идут дела
отвлекают всё работы
На вопрос простейший кто ты
нет ответа от стола.
* * *
портной жил бодро был разиня
невесту он и проморгал
Тогда он кажется не умер,
лишь только шить он перестал.
Ночной порою ходит медлит
сидит на тихий табурет
в своей небольшой комнатульке
где только стол кровать комод
А кстати так живёт полгода
потом переменяет жизнь
на жизнь бродячего урода
и это вдаль его ведёт
Свои места давно покинул
к другим местам покочевал
то на песке, а то на глины
ложился просто так и спал.
Ему под утро пела птичка
А если уж зима была,
то он просился чёрной ручкой
впустите, люди, я без зла
а в нём и вправду зла не бы́ло
Ему, наверно, всё равно
Лицо ничто не сохранило
оно — прозрачное стекло.
По нём стекает всё на свете
Ещё мне надо вам сказать,
что слов от той поры лишь мало
решает он употреблять…
Вон вижу я, он вновь подался
куда-то в сторону лесков,
рассыпанных подальше к небу
промеж с коровами лугов.
* * *
Я потом, когда стану любезней,
когда стану старее намного
Вспомню страну вилок и ложек
нашу жизнь молодую вполне
Прежде всего нам лилась от столицы бодрость
а во-вторых, нам хотелось её победить
Ноги дрожали, как взойдёшь на высокое место
и увидишь всё тело богатой Москвы
Видишь кучи товаров, рестораны, пивные,
где сидит и смеётся одетый народ.
Видишь правую руку в огромном брильянте
ну а левую к столику её золото гнёт
Мы же бедные бледные люди
надевая одежду потрёпанную
каждый день мы клялись победить эту силу
что родила нас так, не дала ничего.
На пути мы узнали, что всякое можно,
но нельзя чрез себя преступить
Мы от ней отказались, от огромной гордыни,
и без ней пропадали остальную всю часть…
* * *
Я знал когда-то очень многих
Подпрядова вот — например
Он жил в сараях, чердаках
водой речной всегда он пах
Рука его мокра́ и сла́ба
Её он тихо подавал
Ловились им большие жабы,
которых детям продавал.
Он не работал после школы
и выглядел он старше лет
как будто он собой являлся
иль пожилой иль даже дед
Однажды он купаясь поздно
нашёл покойника в воде
Его он выволок при звёздах
и положил он на бугре.
Потом позвал людей, привёл их
и повернулся, и ушёл
пошёл он спать туда, где можно
себя от трупа он увёл.
Вот видите, каких я прежде
совсем уж странных знал людей
Всегда он был в одной одежде
и в пиджаке среди лучей.
* * *
Преогромную роль я играл
в жизни этой, которой я жил,
когда я ещё был страшно мал
и ковры на кроватях любил.
Это было лишь только у нас,
чтобы мальчик трёх лет получил
ту полнейшую власть над квартирой.
где хотел, там лежал и мысли́л
Ноги быстрые, сам же не скор
Только думы в карманах у брюк
и идёшь в них засунув едва
и по комнатам делаешь крюк.
И вернёшься к исходной кровати,
что стоит в самом тёмном углу,
там понюхаешь женское платье
и впотьмах поцелуешь сестру
То нога тебе попадётся,
то рука или волосов клок
если ж грудь тебе подвернётся
удивляешься, голову вбок
Что такое, совсем не понять
как-то странно она торчит,
а другая в своём одеяле
вместе с телом лежит и спит
Ты потрогаешь узкий сосок
он зачем-то похож на кору
А когда не проснётся сестра
то садишься и смотришь в сестру
Через время опять средь столов
всяких стульев и ваз, и штор
ты бредёшь, нащупа́я рукой
будто сестрину грудь с синевой
Уж большую свободу я взял,
когда три моих года имел
Среди ночи себя подымал
и всё в комнатах молча глядел.
* * *
По кабинету ходит кто-то в круглой шляпе
Кручёный шнур вкруг шляпы обвился
Другой мужчина, полулёжий на кана́пе,
с кольцами дыма дружно обнялся.
Их разговор происходил всё время
Наверно, ночь, а может, даже днём
Пальто ещё та шляпа одевает
Окно ещё он резко отворяет
Ты что, ты что, забыл мою простуду,
но он ему сказал, что не забыл
Я тем только унял свою досаду
вот почему окно я отворил…
Вдруг женщина средь двери объявилась
и слёзы по её лицо текли
Другой сказал, ну, что же, всё решилось
мы уж теперь к развязке подошли.
Мой сын вас обольстил и бросил
Он нынче покидает старый свет
Быть может, там вдали его болезнь закосит
иль духу хватит — купит пистолет.
Я денег дам Вам, вскормите Вы сына
Взгляните-ка немедленно в окно
Какая там хорошая картина
и радостное небо, хоть темно.
Вы не того, не унывайте очень
Ещё Вам нет и двадцати
И, коль у вас хороший почерк,
смогу работу вам найти.
А в это время, пока он подведши
младую женщину, ей указал в окно,
То сын ножом ударил подошедши
Вскричавши после:
Но отец мой, но
И не покину старого я света
и у тебя наследство отыму
висеть ты будешь в качестве портрета
я труп тебя с трудом, но подыму
и унесу в мешке чрез двери в сад
и подкопаю старый виноград
засыплю и скажу, что ты пропал
ведь ты был странен, всяко вытворял.
И с этими словами он исполнил
она же так стояла вся трясясь
по ней текли событий этих волны
на молодом лице её плещась
Он жестом приказал ей дать подмоги
она сзади́ кренясь несёт мешок
какие пятнами у ней все ноги
и вышли в сад, который как чертог
тем что полно светвлений, расплетений
кустов дородных и мешков, цветов
повеяла в них сырость от растений
и для отца земли раскрыли зёв.
* * *
Нежный ночью слышен шум
Слепо барышни оглохли
Красный луч полз по полу́
Приближаясь к их углу.
Вдруг вскочили побежали
в ночных рубашках порывисто
И за ними шаги отрывисто
А они себя оберегали.
Тёмный сырый коридор
в кухню вёл с большими сводами
Дверь служила как забор
связь с ночными огородами.
Барышня была одна
очень низенькой и плотной
А вторая аж легла
во время бега своего быстрого.
И теперь они терзают
ручку двери отдвигать
но закрытые их не пускают
а шаги идут опять.
Тут они упали обе,
обнимая животы
А из-за угла животно
в темноте идут ноги́.
Тёмной силой тела ихни
обмерли, в ногах слабо́
и лежат они две баловни
своих родителей ого.
Метафизический цикл
I. Велосипеды
Как-то вечер, как-то ночь
Как-то тело машинистки
в темноте лежит одно
на постели в одеяле
машинистка спит и часто
вдруг ворочается мнёт
и постель её чудачно
звуки скрипа издаёт.
Три часа уже… порядок
средь вещей и средь вещей
И ночною всё ж тревогой
как-то веет от дверей.
Пусто будто… но то чувство
пустоты сейчас пройдёт
и тогда нечто ужасно
вдруг откуда-то придёт.
Видно, угол этажерки
и кровать в неё упёрлась
Видно, ногу машинистки
слабая она простёрлась
Вдруг к ноге из-под кровати
едет странная вся тень
Вот уже мы можем знати
то рука. на ней — когтей
и вылазит тёмный в шерсти
человеку так далёк
начинает машинистку
с одеялом разлучать
и в луче Луны бесцельном
даже более — ужасном
видно, что она в руках
и безумие в глазах.
Он её терзает, рвёт,
кровью тело покрывается
на постель её кладёт
и опять под ней скрывается.
Наступающий рассвет
Нам являет плоть умершую
и непахнущий букет
на груди её положенный.
Первый, кто войдёт сюда
убежит, глаза закатывая
В её тазике вода
Она мылась, спать укладываясь.
II
В окрестностях жёлтых Каира
средь глин и сухих ковылей
Стоит дом, он страшно насе́лен
живыми, но кроме людей
Как ночь, в его пышные двери
сползаются длинные змеи
и молчаливые пауки
вползают на его потолки
И все ядовитые гады
по зе́ркалам старым его
проползывают по-кошачьи
подпрыгивают на столы его.
Оставлено здесь таким образом,
что будто вчера лишь ушли
живавшие здешние люди
и только всё это в пыли
Ковёр потрясая, выходят
из стен его сотни жуков
из пола его рокового
выла́зают мяса червей.
Здесь жил необычный владелец
читатель замшевших уж книг
ночами всегда посиделец
и в тайности тайн он проник.
Он в чёрных листках одной книги
узнал вызыванье зверей
он сделал той ночью, как надо
они все пришли поскорей
Увидел он тех, что не видим
и женщин с телами от крыс,
живущих в развалинах старых,
ловящих детей и больных.
Увидел зверей с красным мясом
и не было даже лица
и всё это стало стояло
и ждало его голоса́…
Учёного небо побило
когда он уже говорил,
чтоб всё это полчище злое
прошло бы назавтра к нему.
С тех пор этот дом боятся
и только здесь эти живут,
которые всех нас таятся
и всё же когда-то убьют.
III
По тому тёмному небу зелёному
В пене небу лохматому химерному
проползало немно солнце скрылося
и земные происшествия не видимы
Между тем какие губы океанские
на берег заржавленный кусаются
и какие воздухи тяжёлые
в окна человеческие влазают
Между тем покоя не имеющий
он сидит дрожит под одеянием
Липкий и воняющий и схваченный
за желудок чьими-то когтями.
Всё так падает, так быстро разрушается
и сады курчавые ломаются
и дома роскошные сдуваются
что ж наши учёные глядят.
Три положения рабочего
I
Вбегают в фабрику костлявые метели
С сырою сумкою плетётся наш кассир
калоши с валенком рабочие надели
и небо плотно, нету синих дыр.
Гремит металл о брата о металла
Рабочий плачет в чёрном уголке,
что придавила ногу ему шпала
и он теперь не будет налегке.
Другие злы от всей своей недели
и от погоды в длинное окно
штаны и куртки двигают на теле
мечтают спать или пойти в кино
И я средь них задумался и сел
и повернул лицо своё на воздух
мне жизнь моя когда-то началась
когда ж назад она им возвратится
И правда ли всё это, что кассир
С сырою сумкою плетётся в снеге
что небо плотно и без синих дыр,
что раньше были Игори, Олеги.
II
Пришёл домой, стал кушать белый суп
и ложкою играть на аппетите
Желудок был и дик, и груб
и не желал он ждать, пока ему дадите.
Он рвался вверх и тут куски глотал
с такою силой и таким свирепством,
что я подумал, я, наверно, зверь и раньше им бывал
и, уж конечно, вместе с моим детством.
И тут, оставив едовой процесс
тем, что закончил миску с чёрным хлебом,
я попытался вспомнить тёмный лес,
в которым был, но часто будто не был
И мне пришло, что в образе волка́
лежу на жёлтой снеговой поляне
и маленькие два моих глазка
наведены на что-то вроде лани
то маленькая козочка дрожит течёт
мочой от глаз моих прикосновенья
и раздражающий тот запах бьёт
и вспомнил вкусы того я укушенья.
III
вошла мне в комнату жена моя
она день служит, книгами торгуя
когда же ночь посмотрится в жилья,
друг к другу лезем мы, потребность чуя
и обнимаемся, и я в неё кладу
кусок себя, торчащий из-под паха
у ней горячее внутри найду
и то бесстыдство ночью из-за страха
Когда сегодня я лежал потом
облитый после всех объятий потом,
то кое-что я вспомнил со стыдом
Давным-давно в три года
от роду… там, где дремота…
мы в доме офицерском тогда жили
Второй этаж и комнаты большие
и много там детей и взрослых, и простых
и бы́ла Ида среди них
Она ходила в школу уж тогда
иль во втором, иль, может, в третьем классе
отец её был старый офицер
пирожные печёт и торты часто
и часто ходит с женой на концерт
И вечерами вот в такое время
когда их ремонтируют рояль
и пахнет он столярным театральным клеем
и кружева висят у них все вдоль
Тогда та Ида и её подруга
приводят мальчика меня к себе
и двери запираются на ключ, с порога
они снимают всё, что на себе.
Я помню в той дремоте на кровати
на край ложились кверху животом
и ноги раздвигали свои вместе
и заставляли тыкать там карандашом.
Он был огрызок синий или красный
я помню ног отчётливый развал
я чувствовал, что этот жест опасный
и карандаш со страшностью втыкал.
Они переворачивались также на живот
и подставляли зад карандашу
Я это помню жёлтый лампы свет
и клеем я, и пирогом дышу.
Затем меня в кружа́ва пеленали
и малого и требовали, чтоб
я им показывал то, что скрывали
ребёнка брюки в глубине своей.
Потом иду — родители — мне страшно
Не помню, как кончалося тогда…
Лежу. а обернусь… жена… белеют чаши
больших грудей и с губ течёт вода
А что у ней в тот жёлтый свет случалось
и позже за её за тридцать лет
кого ей принимать в себя досталось
но спит она. и мне покоя нет.
* * *
Сумерки белые платья содрали
с девочек, которым едва лишь исполнилось десять
или тринадцать, которых ждали
дядя один и дядя другой, надеясь
тонко и нежно они обходили их
вместе встречаясь, даря им конфеты
вместе купаясь, сажали на плечи их
плавать учили, держа их руками
Девочки к дядям тянулись всегда
они боролись с ними на травке
Девочек дяди принимали всегда
чуть ли не голые иль в безрукавке
этим весь тон задавался игре
ласково гладили дядины плечи
ты потолстела, Маринка, уже
дядя на ушко на белое шепчет
и у Маринки он пробует грудь
так, что Маринка вся замирает
Дядя ей шепчет: «Ну, дай мне взглянуть,
как у тебя твоё всё расцветает».
То же с другой за стенкой с другой
Дяди их голых и гладят, и тискают
они их целуют в задний проход
Девочки тихонько, как свинки, повизгивают.
Цветы лишь глядят у дядей с подоконников
как на постелях идёт игра
и как движения девочек и их поклонников
ими же наблюдаются пятнистые в зеркала.
* * *
по разным я делам жил разно
случалось мне бывать в таком,
что место будто бы приснилось,
так это кажется потом
и щели сквозь глухие шторы
на спящего упавши лоб
такие тонкие бывали,
что ничего не освещали
понять, где есть я, чтоб
иль эти все ковры мой вымысл
и перенёсся в летний день
в такой мой уголок ума,
где старые предметы, тьма.
Устало пахнет нафталином
Упал на кресло длинный шнур
А на столе был только пир
Куда он делся.
* * *
по тем любимым уголкам
душа метается ночами
где было странно нам
где были чувствованья с нами
и там она дряхла уже
находит всё в расцвете силы
и там малыш один лежит
на кладбище под вишней, милый
и лепестки на него все
ложатся вишнёвые плотно
ползёт пчела по их спине
свободно, чисто и щекотно…
О те часы, в которых я
наверно, и побыл счастливым
о вишня, ты моя семья
ты мать моя, а не другая.
* * *
По рогоже и марле
сини мухи ползут
на окраинной свалке
люди ищут, рою́т…
собирают в мешки их
и куда-то таща́т
кости, тряпки большие
кошки там же пищат
Развевает бумаги
ветер дымный и затхлый
на седых стариках
капюшоны висят…
* * *
Бледные руки, пахнущие мочой
касаются лимонного дерева в кадке
на скатерти несвежей и сырой
видны предметы быта в беспорядке
У женщины преклонных уже лет
ещё такие молодые руки
и маленькая кожа шевелит
на сгибах пальцы, зеркало же в круге
Нога белеет, из-под юбки выходя
своей поверхностью шершавой
и в воздухе разлитые духи
легко летают и величаво
* * *
И воздух бел, и слива розовая
овраг персидский жёлтый глух
растрескан солнцем дух мимозовый
здесь бывших ранее болот
Идёт вверх дым из белой крепости
Там варят три куска вола
И в кожу завернувши внутренности,
собакам кинут от угла.
* * *
Спать желается очень сильно
Безобразно желается спать
Жёлтый воздух находится в комнате
идеальный для сна твоего.
И ты медную куртку снимаешь,
и ты уж головою прилёг
Изнутри из себя вызываешь
чью-то сцену… на ней есть дымок
Из середины у этого дыма
Лица всяких одно за другим
и уже умиравших, а также
уморяемых духом твоим
Почему на Шотландию раньше
вдруг напали розы гурьбой
Через год же напали вороны
на Шотландии каждый клок.
* * *
Вот стоят как леса, как леса
И зима у деревьев в хвостах
Толстая здоровая зима
Полно дров в имянинных печах
Легко разговоры идут
под чай и варенье крутое
и мысли, как пены текут,
весь стол окружая собою
Запутали наш разговор
уж мы по портретам и стульям
и розовый сделался стол
и бабочка чая летает
* * *
Здоровый деревянный день
Дрова щеплю ножом на мелкие
перед открытием плиты
готовлю ей её еды
Метели падали вчера
Набрасываясь, грызли крышу
А выдь сейчас… так от утра
красивее и тише…
В суконных брюках, в сапогах
разыгрываю я крестьянина
Огонь зажёгся и запах
И воздух комнат стал печальным.
* * *
Задолго до меня жил прадед
высокий ловкий осетин
он генерала охранял
и эту сотню возглавлял
Его упавшее лицо
лишь дед позднее и подня́л
А мы — ну, я с моим отцом
лицо навечно потерял

Шестая тетрадь
* * *
Ты возьми-ка меня, табуретка,
посади на колено своё.
Это будет та самая радость,
от которой я раньше не пил.
Говоришь ты старинные речи
Держишь смутное тело моё
А когда я уйду в злые глины
ты застонешь, что нету его.
В потуханье дневного свету
нам случалось надолго молчать
Я не двигал себя, не качался
Укрупнённо ты будто спала.
Я в дремотную лёгкую яму
сел, живя, видя морды животных
А ты помнила землю пустую
ветер, тащущий только песок.
* * *
Двигается туча над кустом
и притихший низкий слабый дом
На трубе поставлен жёлтый дым
Я гляжу в окошко молодым.
Свежелобый, ни единый прыщ
моё тело прежде не пятнал
Тёплый старый ветер завивал
мои волосы, как будто плющ,
и стоял в саду прошедший стол
и на нём стакан гранёный
невлюблённый так себе и вёл,
будто я давно влюблённый.
Мерял я одежду целый день
В зеркале я жадно уловлял
что нужно́ моей фигуре счас
цвет который и каковый зал.
Но как стеариновый кусок
уж наполовину я оплыл
некий и так маленький листок
я в размерах сильно сократил.
Туча муча ходит под кустом
Соученики бегут с портфелем
Порыжевший слабый дом
Дым по крыше ровненько расстелен.
* * *
В тогда, когда мы были звери
ещё как молоды и по́тны
тогда хвосты ночных животных
ужасно били по бокам.
Мы слушали их плескот стоя
и набирая в груди страха
а по возложенному небу
шепча, шурша стремился змей.
* * *
Имея щёки воздухом полны́
когда сезон морей дрожал вокруг
так пахнет лес на берегах страны
и этим же попахивает юг.
А были ль вы героем сна в лесу,
где красные стволы искривлены,
которые всегда лежат почти
и слушают мешание волны.
А девушку из вас кто раздевал
имеющую грудь такую как
имеет молодая дочь песка
прохладную, как песня моряка.
* * *
Все аптеки как камень тверды
и занявшись историей их
я столкнулся с шкафами судьбы
и с бритьём человечьих носов.
Пожелтели дома бедноты
На полу наших улиц пусто́
Только лязгает дверь в теплоту
да насядет на уши авто.
То машина вчерашнего дня
проходила стальна и чужая
А у каменной кладки стоял
мальчик, мальчик, её провожая.
Маразм, опыт №
чулочки фильдеперс тугой
весь в глубине зарос ногой
наполнен мягкой детской мясой
и за колено доведён
А выше белое и голо
смыкается и признак пола
дрожит открытый и воняя
в себя предметы призывая.
Ей маленькой тринадцать лет
играет голенькою попой
которую затем покрыть
кусочком шёлка быстро-резко
И вот ей юбка скрыла ноги
она довольна от того,
что увидали мы вдвоём
её зелёный цвет и первый.
* * *
Мы с вами бедные бедны
Мы с вами смертные странны
О третьем часе каждый шум
такую делает ужасность,
и даже кошка тихий зверь
и та как будто подползает.
* * *
За то ночные волки плачут
что чаще дети в Новый год
игрушки в уголок стащив
желают ждать часов со страхом.
По их глазам уж сон скользит
Они стряхнут его руками
и всяк не спит спящ сидит
и наблюдает за часами.
Поддёрнув курточку, рубашку
и пуговицу застегнув
в праздни́чных блёстках их мордашки
А волосы в серпантине
Уж высунулась ножка года
А вот живот его, рука
А на часах проклятье рода
тенью невидимой пока
Они живут в своём спокойном
Бобруйске в снеге и огнях
А сколько праздничных процессий
назавтра вертится в дверях.
* * *
Была здесь чудная больница
ведущая себя давно
Смотрели в окна бледны лица
худые очи, как вино,
и рты прокисшие дразнили
прошедших вдоль оград людей
а жирной ночью голосили
кричали и метались в ней.
Была здесь умная больница
а нынче запах сорных трав
над её прахом веселится
и он своим весельем прав…
Лишь в жаркий вечер полежать
придёт на сей пустырь бездомный
в замасленных своих штанах
белоголовый и огромный.
Карманный хлеб всегда жуя
лежа́, чеша́сь и улыбаясь
земли советской кикимо́р
заснёт он, с мухою играясь.
* * *
Обступает меня жёлтый гул
и нашествие козьих племён
Сколько много вокруг обезьян…
В это утро Москва, как петух
Я одет во второе пальто
Из широких сырых рукавов
руки белые вьются вперёд…
и ошибочка и даже нет
можно радость сказать даже да
эти ткани, их много висит
весь Петровский пассаж, все углы
это первое дело моё:
тканей вид и тепло
Как приехавший из деревень
я стою возле них целый день.
* * *
Я прошу вас завернуть в бумагу
этих ёлочных игрушек струи
Мамочку порадую печально
подарив ей ёлочку сквозную.
Принеся обвязанный верёвкой
дерева хороший тёплый труп
чтобы братики и мамочка, сестрички
поздравляли целовали друга друг.
Мы поставим в уголок на коврик
напечём мы белых пирогов
и посыпем сверху их вареньем
разломи́м на множество кусков.
Дети, дети, цапайтесь за ручки
Круг! пошёл по стрелке часовой
Мамочка, сестричка, братик, Пучка
топайте, притопайте ногой.
Синие штанишки замусоля,
притащился младший наш герой
и слюна по розовому полю
его курточка вязалкой кружевной
Ждём его, не поднесли ни капли
мы варенья к твоим ртам
он подходит отмыкает губы
в это время раздаётся — Бам!
Все переместились, закричали
Мамочка взметнула юбки край
стала горделиво улыбаться
В животе лежал ещё один
На балкон ли что ли побежать
ветер зимний ноги жмёт руками
В комнате фигурки говорят
Девочки блестят чулками…
Между тем, как служил, как мечтал
I
Между тем, как служил, как мечтал
то его пыл щеки́ догорал
и он сделался с белым лицом
хоть рождён был здоровым отцом
Одеялу он ворс отсидел
Каждый вечер и ночи кусок
и от лампы он слеп и болел
и тоньшал его прежний костяк
Как известно, занятье читать
человеку так сил уменьшает,
что он делается невелик
слаб и телом всегда усыхает.
Что спасти нас от смерти, что нас
он искал тот ответ на страницах
Никакой не нашёл он состав
До сих пор он сидит и труди́тся.
II
Ночь одна… старый стол и чужой
Наш жилец стул подвинул, шагает
голова его мажет стену
его тень потолок задевает
и картонка над лампой дымит
огражденье для лишнего света
на поверхности сто́ла открыт
том давно неживого поэта.
Там средь умыслов всяких и мечт
средь желаний земных и понятных
вдруг какая-то бледная мощь
внутри нескольких песен заметна.
Этот круг, этот круг он не прост
этот обруч имеет причину
он почти это дело узнал
и тем самым приблизил кончину.
* * *
лучше б я не восстал из живых
лучше я бы под вишней лежал
Этой вишней старинных кровей
беломраморной мудрости ласк
Ах, зачем отступился от ней
и ушёл, и восстал из живых
Разве плохо жужжанье пчелы
и подстилка из трав молодых
И средь травок ползущие три
муравья в беспредельном лесу.
Стали думать они, обходить
мои пальцы, куда их девать.
* * *
Мне зал приходит потною зарёй
весь оголённый содранный до мяса
Торчит лишь посередине гнутый столб
да арифметика валяется для класса.
Порой мне кажется, что сторож там сидит
и головою видит, водит, водит
Он этим доказует то, что спит
что стар, что слаб, что смерть его находит.
и я крадусь, и рот мой так большой
и через ноги я переступаю
затем я мел краду — мешок пыльно́й
скелеты анатомии ломаю
и собираясь уже уходить
и руку прихватил я костяную
как вдруг шаги звучат, ах, как мне быть
мечусь я в зале, прячусь и тоскую…
И входит он. Его глаза слепы
он спит, но движется прямой походкой
туда, где свалены отжившие столы
и я притих за ихой огородкой.
Руками извивает воздух он
и цапает он жёлтыми ногтями
и скрытые за веками глаза
а я умру в том зале за столами.
Зачем полез, зачем пошёл, пошёл
Сейчас задушит, кровь под кожей встанет
Всё ближе… ближе старое сукно
Вот выделка его перед глазами
Все ниточки и перехлёстки… перед глазами…
петли от пиджака, разорвано окно
и пуговицы злобными конями.
* * *
Средь воды на милых, милых землях
вырос город в тую злую пору
Жили там другие вовсе люди
все князья, чиновники, старушки
Они к нам относятся, как к Риму,
вымершие скорбные этруски
и в пропорции такой бессильной
проживает современный русский.
* * *
Радуясь и вольно размышляя
жизни под небесным потолком
с ужасом я часто признаваюсь
что боюсь момент, когда умрём.
Что боюсь к кровати подходящей
и болезни, и её конца
Даже если он совсем счастливый
нового не избежать лица.
И всё ближе, ближе к тем последним
и застывшим роковым чертам.
и в могилу я пойду — смешной чиновник
трогательный мелкий человек.
* * *
Помню первые поэмы
и зимы вокруг морозы
Привлекали меня те вопросы,
что стояли в поле одиноко.
Эти стулья посередине степи
Я под ними прохожу и дальше
Занавеска в доме поселилась
От жены навечно отделяет.
* * *
Под скалою три женщины снялись
Это было у южного моря
В пятнах солнца была вся скала
И улыбка у женщин росла.
А одна была тонкой еврейской
молодой и с такими чертами
что заранее вам объявляли:
не жилец я на долгой земле
Их фотограф так снял необычно
что скала занимает всё место
А они лишь внизу проступают
Его воля осталась и мне
Эти пятна, и тёплые тени
и, по-видимому, ветер с морю́
и клочки наскальных растений.
Человеческой жизни сорняк.
* * *
Красный день над мебелью поднялся
Осветил верха шкафов
В зеркалах уже костры пылали
Холоден под стульями песок.
Под столами тот же самый холод
Но проходит неприметно час
Доски накаляются от жара
И трещит тихонько шифоньер
Ветер веет и песок стучится
и скрипит в одном из шка́фов дверь
и проходит день, и лев ложится
трётся он о ногу у стола.
* * *
Мебель утварь. Предметы столицы
Всё, что сделал рукой человек
Одного сапожника знаю
Сшил и сбил он великий сапог
В восемь метров он был высотой
А другого я столяра знаю
Сделал стул он, который собой
достигал десяти, даже с лишком
Потому это всё, что они
в одиночестве жили в каморках
и любовниц у них не было́
никаких, только книги и только
ихий мозг перерос наш удел
И они совершили бегство
и под небом стоит этот стул
и его можно видеть — пожалста.
* * *
Будьте живы, господа, вам в помощь
О, струися жидкий тёплый чай
Будь роскошной — чаща городская
и живой — тоска у бедноты…
В свете леса — люди, как деревья
Если же лежат — то как предметы
Милому конторщику живому
прыщ в подарок посылает бог
А вчера по вечеру в газете
рыба растерза́нная лежала
И её продуктом малосвежим
вполовину я торчал из одеяла
Красный свет зашедшего светила
всё стекло замазал. исчезал
Почему-то тело покрывалось
хладным потом. по ночам стекал.
* * *
Были тишина и лишь лазали в мебели мыши
и вздыхало растение в своём деревянном жилище
и лежали монеты одного или двух достоинств
тихо в кармане умершего отца.
Сонно пахла земля, если очень открыть раму
Одиночная женщина шла домой
Горела густая настольная лампа
и листки бумаги лежали на полу.
* * *
На то, что я сделал летом и осенью, жаловаться особенно не приходится, только уж очень этого мало. Но помешали писать обстоятельства. Я пытался наладить свою административную жизнь, и только ухудшил её. Я зарабатывал деньги, а подлые мелкие люди присвоили деньги.
И теперь я решил: пусть будет как будет, и всё мне равно в отношении жизненных условий. И пальцем не пошевельну. Да я и не верил, что у меня что-нибудь получится с оформлением моего пребывания на определённом месте земли. Не вышло. И пускай не вышло, и пробовать больше не стану. А к так называемым «простым» людям не подойду и на шаг.
* * *
Воздух как рыба. вечерняя польза
Тихо, как сонные, едят моряки,
еле сдвигая руки и ноги
будто бы восковые едят моряки.
По́ низу ходят волны о берег
Манная каша с жёлтым пятном
Будто бы солнце и тех киселей
много лучей много дверей
И у меня от ламп с темнотой
стали и гетры на тонких ногах
стал и портфель школьный негустой
и рыбо-вечером холм запах…
Дорога от моря лежит на камнях
Иду по корзинам, луне и траве
Банку с открытиями семнадцати лет
давно я разбил, а зачем, например,
у лавки был стол и чешуйки на нём
и женщина боком мягким своим
давно на почту ушла она
и не возвращается много лет.
* * *
Мальчиком любил он называться Килей
Приходить попозже в школу на второй урок
или же на третий в среду, где учили
времени глубины открывая крышку.
Мальчиком он в гетрах в брюках за коленку
Вечно одинокий в перемену стоя
всё глядел в густую коричневую стенку
но́гтем ковыряя, носом беспокоя.
Киля удивлённый, Киля мальчик с банкой
Бледный мальчик с мелом на руках на рукавах
с мокрою рукою, с тряпкою молочной
Смесь понятий ходит на твоём лице.
* * *
Ласковой луны зелёный рот
Не имея ног, ползёт улитка
В глубине куста среди его красот
плавает вечерняя калитка.
Лампа керосинка как висит
ведь с рукой не видно человека
Дым над крышей дачи имеет вид
давнего ненашенского века.
От окна не видят ничего
и хрустят печением и чай полощут
и стола средь своего
руки то подымут, то положат.
То в библиотеку забежат
двое молодые, как верёвки
обовьются в шкаф себя облокотят
а весна меж книгами летает ловко
и хватает волос на лету
больно-больно так его закрутит,
что приблизишься к отверстию в саду
поглядеть, кто в темноте там шутит.
* * *
Меж теми же садами, и в тех самых вишнях
при свете океана является скала
Дотоле видно не было из-за причин тумана
а ныне она буйно проросла.
На кромке домик малый
Окно его свети́тся
Кто это любит ночи
и к ним кто прислонён
Какого ночь имеет другого очевидца
чем я, чем ты, который глядит на водоём
Все женщины, все волны
холодной ночью этой
ползут на белом брюхе
и страстно бормоча́т
Хожу, как офицер я по пристани дощат
Как будто у военного, шаги мои стучат.
* * *
Ветхие дни разрушаются мною тихо и смирно
Вот я сегодня был и было много всяких
Но не видал их я, совсем не видел
Только их тени по полу бегали, бились
Господи, где это всё и в какой это книге зловредной
Что это, разве же иначе как-нибудь с мною нельзя
Может быть, медленней можно и где это, в чьей это книге
Быстро так, быстро так — раз! и уже стариком…
Вот я недавно, вчера ведь почти ведь вчера ведь
Только лишь помню, купался в морской самой свежей воде
Тело моё так твердо было, так энергично
А уж сегодня как рыбка, на берег снесло бледную, вот и лежу
Будьте любезны, поймите, ах нет, прошу милость
Всё что хотите возьмите, но только не надо спешить
Всё что хотите, возьмите хотя бы другого,
или меня, но не счас, а когда-нибудь дальше, потом…
Стаи деревьев холо́дны и будто не богом созда́ны
Будто бы их сделал из дерева, выкрасил, взял человек
снег это тоже система их козней, их козней, я знаю
Да, они снег привезли, всё включили в своё колесо…
Крутят и вертят и к смерти меня подтолкают
или манят, обманут, обманут, обманут!
Нет, не пойду, отпустите мне белые руки
шапку отдайте, куда вы несёте меня
Я же не главный, бывают меня покрупнее
их и берите, тащите, давите им шеи им! им!
Я же из бани, вот мой чемоданчик фанерный
Вы перепутали, я же не тот человек
Ну, я ж не тот, моя вовсе другая фамилья
Я же портной лишь, ошибка в системе у вас
взгляньте скорей в свои книги, и в механизмы
стрелки приборов вам ясно качнутся: не он!
Что? для чего? Мне крюки ваши страшно увидеть
Ай! отвинтите вы это кольцо от меня
Боже, зачем тут у вас помещается холод
Как он ужасен… он остр, как кинжал…
Для меры для веселья не нужно ничего
I
Для меры для веселья не нужно ничего
из окон в него смотрят шестнадцать человек
они все манекены и служат навсегда
пока червь не поест их деревянные тела.
Из рук перчаток чёрных не в силах уронить
в пальто с холодной шерстью, оскалив рот смело
дышала армия людей и подвигалась
Они стояли. На них ничто не отображалось
И вот идёт студент Казарин
Бегущей плоскостью своей
Фигуркой стоптанной мигает
в глазах стекла в очах людей
Под Новый год его несла всех деревянных дел
какая-то его такая в квартире мгла,
что он уйти от дома захотел
Он движется под звуки тел…
II
Парадной жёлтостью своей его лицо отъединялось
иных оно и форм было́,
чем это всеми дозволялось
по мере хода он налево
заметил вывеску что Рыба
и лежали мороженные белые перья рыб
и на нитках спускались вниз
маленькие сушёные детки…
А Казарин был в калошах внутри красных
сколько лет они служили не снимаясь
в белой голове снимая шапку
обнажил он след опавших своих дней.
Вот недавно он был близок из столовой
тётей Варей низкого происхожденья
Она кормила пищею его готовой
и просила, чтоб читал стихотворенья
Её живот огромный был запрятан
под юбкою суконною, и он не видел,
но вывалила на первом же свиданье
живот наружу, и не только, а вот как
Жила она отдельно и просила
чтоб он её когда-то навестил.
«Ты приходи, а я бы угостила».
И как найти, она ему всё объяснила.
И он пришёл к ней, в воскресенье загрустив…
и когда вошёл, то увидел небольшую комнату
зелёного цвета и тётю Варю,
которая стояла в этот момент перед шкафом
и доставала оттуда какой-то предмет
студент Казарин был уже не в первом возрасте
потому он без всяких чепух
перешёл к её телу
и схватил руками эту тётю Варю неизвестную,
чтобы поскорее выполнить дело
и очень быстро сосняв её одежды
и она тогда вывалилась из них
он запыхавшись прихватил её поцелуем
отметив запах весёлый котлет из рта…
на кружевных оборках её одинокой постели
он стал воздействовать всеми своими силами.
Половой орган вошёл в тётю Варю свободно
и то, что было предназначено, у ней отворилось.
Наконец тётя Варя похорошела
Они встали, разошлись и одеваются
или делают над собой порядок.
Сумасшедшая зимняя муха
ползает по шнуру у зеркала,
где глядит на себя Казарин студент.
Но это всё случилось, а после уже студент и идёт
Уже и дни кой-какие пролетели
В воздухе птичка клюёт
Двое столкнулись, оторопели…
Дальше пошли… замутнён уже день
каким-то количеством вечера.
* * *
Легко… спокойно…
в горы ли сбегаешь
или с гор ты возвращаешься назад
ты в этом мире
ничего не понимаешь
и говоришь, как нормы повелят.
* * *
Разрушил я Данте, разрушил Петрарку, Боккаччо
Сказал, что плохая теперь их игра началась
Что нужно иное, что этого мало и скучно,
что люди развились и стали как звери они.
Поставил в упрёк я и Данте, Петрарке с Боккаччо
Большую громаду и целые возы пустот
А что же иное в замены сумеет годится
Какое такое и кто это нам подберёт…
* * *
По вечерам очерчивая плоть
К вам тень ещё прибавится глухая
А сучья тянутся, чтоб звёзды наколоть
и от земли отходит мгла сырая.
но белый камень, кажется, один
и никого к себе не прибавляет
Сидит на нём сверну́тая змея
и всю полночность слабо озирает…
* * *
Вот русский человек, как воск
лицом всю улицу перечеркает
Я вижу, на витрину он взглянул
где стая сумок кожаных витает
Потом направился он впереди
заметив вывеску еды напротив
и чёрные навек звучат шаги
как бы в историю он входит.
Отведена им набок дверь
и запахи толпой бежали
и пар косматый белый зверь
его окутал при начале.
Потом уже стоя в ряду
других же, есть что собирались
от пара он совсем отлез
и глаза свободно разбирались
Закуску с рыбою берёт
и вслед за ней суп белёсый
и мясо на картошечном полу
лежит тарелку попирая косо
и заплатил он за еду всю разом
и высмотрел свободный столик
сел, обложился, зачерпнул
и на горячее подул.
Так вечером, немолодой
он ел и думал о всех близких
о жизни большей частью прожитой,
о положениях своих о низких.
Вот русский человек, как воск
он прекратил жеванье
и смотрит голову набок
на нечто, чему нет названье.
На бестелесное, на то,
что на стене ему явилось
на той завешанной пальто
людей, которых много рассадилось.
* * *
Либо я крах потерпел, или же я
самые лучшие дни проживаю.
Но не пойму, почему это я
только куда лишь придя — убегаю.
Я незаметно стараюсь уйти,
чтобы меня не позвали, не взяли
Тихо иду по пустому пути
слабо зовущего сонного сада
Разные строки из книг, что желтей
воска и солнца, так стары
Господи, может быть, я их святей
или же я столь усталый…
* * *
В горячо обнажённых квартирах
и бурлит, точно в сотах, еда
Тут колония наших рабочих
по дороге течёт на завод
По залитой водою дороге
молодые и старшие шли
обросли у них очи туманом
занавесило разум у них,
на мозгу их песчинки повисли,
оттого и идут, как поток
от колонии наших рабочих
на завод по одной из дорог
и другие их тучи подняли
подвигают в пределах своих
и большой и железный продажный
обнимает их мясо завод.
* * *
Был сын студент, задумчиво чертил он
убрав посуду со стола, болты
Противно в комнате и неспокойно было
и только тушью пахло хорошо.
За занавеской мама закрывалась
и в пену погружала их бельё
история их вовсе не касалась
они жили и делали своё.
Уж лысоватый сын пошёл учиться
Теперь учился крепко, нелегко
Он книги вычитал в колонном зале
у библьотеки, что был высоко.
По крайней мере, руки выдавали
Однажды пригласил меня он в дом
и я зашёл и был в большой печали
и успокоиться не мог потом.
Мне эти люди нудно вспоминались
Как запах старого у них борща
и чертежи, что хлебом натирались,
от жирных пятен добела треща.
Бродяга
И за тыщей следов знаменитого хвойного друга
впереди, позади расстилалась иголок пустынь
Как безумные псы, мы бежали, бежали, имея
впереди, позади только хвойную ель и снежок.
На отдельном отрезке древесного тихого мира
поселившись однажды, я не смог усидеть
Подниманием рук я приветствовал горные цепи
Их увидел я там, где окончились леса столбы.
Я недолго держался, костёр зажигая и греясь,
Всё равно эти горные цепи пробили мой глаз
Как-то утром, селёдку в запасе имея
вместе с хлебом ступил я и, не оглянувшись, пошёл
и не встретил народ меня, не было криков
лишь у тихих отрогов произрастала сосна
да по тихим пещерам ютились какие-то звери
убегали, не дав мне себя рассмотреть.
Я остался и жил, замотав свои волосы крепко
чтобы горные их не метали ветра
и в громадном дыму полутёмной железной пещеры
я писал и сидел, как последний в миру человек
Боже мой! Хорошо как! Какие глаза у деревьев
и какие большие пещеры глаза
и какое удобство у синей реки пробираться
углубления делая пятками в жёлтом песке!
Каждой ночью мне слышался шум непонятный
я вначале его замечал иногда
но сильнее и больше он делался и погремучей
и висели на ушах моих его тяжести уж.
Невозможно. Пускай остаётся пещера
и всё то, что успел наготовить согласно делам
Так прощай, голубая охота на солнце
утром я пошагал за спиною и тень захватив.
На восьмой день пути мне увиделось ровное море
и песок вкруг него был насыпан в большом беспорядке
подошёл я, потратив ещё три часа на дорогу
и шагнул я в волну и присел, и остался сидеть…
* * *
Я люблю пространство в мирном доме
тонкие и жёлтые полы
и луч солнца зимнего на стуле
на обшивке, в состоянии игры.
Отражается окно раскрыто
и перебегает на костюм
старенький костюм висит убито
на краю у шкафа зацеплён.
Мне уж сорок, боли нету в теле
но шумят, плюются годы
Где же эта шляпка дорогая
Уж истлела в чреве у природы.
* * *
Утром рано в пыльненькой гостинице
где чай в стаканах огранёных подают
весь бледный потребляет его сидя
заезжий маленький циркачик лилипут
Затем слезает наскоро с кровати
в игрушечной одежде запершись
И много неудобств ему от мебели
но терпит он и усмиряет слизь…
К нему в двенадцать тонко постучались,
он отворяет, пододвинув стул.
К нему пришла большая балерина
Она приходит, у него спросясь.
Он оживлён… он требует вина
и сходит вниз, и сам вино приносит
В костюме фиолетовом она
и шляпочка в руке, никак не бросит.
Да я пойду, я дело рассказала
Но он — останьтесь, шепчет ей
Ей неудобно как-то стало
ведь он размером с маленьких детей.
И руку ей целует и клянётся
и пьёт вино, и ей влить норовит
Он думает, когда она споткнётся,
тогда он на неё и набежит.
* * *
По крайней мере рано утром встанешь
и сон большой оставишь за собой
А в глубине себя узор завяжешь
и замолчишь, и будешь неживой.
Запомнив ночь и белую, как камень
Запомнишь также левый павильон
и красную косу на солнце
и белый лоб, и связку жёлтых книг.
Где эта прежняя смелость,
на какую душа согласилась
раньше давно согласилась
да словно забыла её
Где это прежнее, в сон не влекущее
состояние правды и ясности, как в старике.
Лёгкие дни осени, словно
сели на лавочке рядом со школой
где осенних наук
строго взыщут учителя.
* * *
Ему печальная минута
большие руки подаёт
И у стола, у поворота
на пол спускается живот.
А он безумный ищет груди
да, пока жив, он ищет груди
в старинном свете как испанец
их ловит, ловит под Луной.
* * *
И я жёлтый любовник дождя
подымающий в дождь на весу
эту банку своей красоты
и я странный сиропный шутник
собирающий шум дорогой
пролетающих пчёл водяных
но и есть у меня на лице
небольшое отверстие — рот
календарь для заезжих сирот.
* * *
Как подымалось наутро светило — я заживо помню
как оттолкнулось оно вверх и озарило останки человечьего пира
стол, позвонки твои шейные, нож и пирог
на пироге пожелтелую массу цветка
и на руке три следа от укуса.
По берегам когда-то много росло тростника,
но для этих приезжих — нет закона
Вспомни, как сутки сидели за нашим столом
Ну-ка, Наташа, скажи своё странное слово,
как по вилке железной метался долго рассвет
и от холода вяли твои груди
нынче давно уже утро
и мышь только звука
перебегает по столу, в углах
это мне, смертному, будет наука
Не принимать чтоб Наташу и Таню в гостях.
* * *
Валик, Валик, что ты тянешь
На верёвке на прицепе
Это рыбка — бледный дядя
это рыбка, это рыбка.
Почему один скелетик
Валик, Валик, мелкий мальчик
Потому что мясо съели
мать и папа — бледный дядя.
По песку, между строений
Тащит груз свой тонкий Валик
Он весь вырастет кошмарным
Сам с собою говорящим
По шипению и звуку
По нечаянной одежде
Уходи, покуда нужно
по сиреневой тропинке
Уходи, покуда утро
и открылись магазины
и заспавшиеся дети
глухо смотрят из перины
Ты ушёл, но ты на месте
Твоя шапка, как ворона
Шепчет, шепчет молчаливо.
Уходи, покуда дети…
* * *
Пахнет сыростью собачной
Наш подвал зелёный старый
полон воздухом умершим
толстогорлым змеевидным
Дважды лампочки вкручали
Ничего из них не видно.
Лишь грибы растут виднеясь
шляпкой серою моргая
там живёт лишь поросёнок
напитаемый картошкой
у него глаза белёсы
от темно́ты постоянной
А хозяйка тётя Клава
для прикорма покупая
Поместила, чтоб на праздник
заколоть его ножами.
Пахнет сыростью собачной
Наш подвал зелёный старый
и там изредка ночует
дед Никола — он рабочий
Он худой, как через дырку
был продет когда-то узкую
Как напьётся, так и ляжет
хоть и вредно, пусть и воздух
Эти мысли мне приходят
когда вечер на Москве
Вспомню наше я предместье
из деревьев вечный парк.
И глаза мои слезою
обольются, закричат
Ах, подвал, шепчу с тоскою
Ах, друзья, Украйна-сад.
* * *
Это очень красиво, ребята,
когда ваши убитые живы
Когда наши убитые шляются
и лежат на песке
Это очень красиво, ребята,
когда пешие ноги гуляют,
предвещая рожденье бегущих
и великих конных ночей
Вся листва возмутилась и сдохла
Все запасы зерна закричали
Появилось белое небо
и исчезло, работой пылая.
Мыши высыпали колонной
и пошли на раскопку дома
на копанье старинного дома
под горбатой землёй он
мыши высыпали как младенцы
с бледной кожей и с бьющей веной
ток их крови общей заметен
под нежданно голодной Луной…
Это очень красиво, ребята,
что старинные бледные мыши
усадились на лапы и моют
свои губы церковной водой
что калош и дырявый и серый
послуживший весь век Каллистрату
был Сергеем отброшен набок
при ходьбе его через песок
Постарайтесь запомнить это
керосин преградил им дорогу
и поток, обвивая сторонкой,
повернули они на восток.
* * *
В чайных чашах бледные напитки
Вечер розов, валики круглы
у дивана распустились нитки
паутины вдоль большой стены.
Лёгким лаком пахнет, пышной смертью
десятью сынами у отца
и ведёт ковровая дорога
отсюда́ до самого крыльца.
У альбома крылья оторваты
он зияет и глазеет в мир
сто — почти — столетние ребята
голые лежат на животах.
Стовосьмидесятилетние старушки
положили руки на подушки
или же на меховые муфты,
вытянув их кисть из кружевов
Мальчик Митя, а теперь безумец
обрывает листики, бросает
и хихикает со сладким звуком
Ты лети — бумажное перо
Ем и буду есть иголки, гвозди
и кусочки мяса золотые
и сидит он бледный славный голый
На полу лежат его родные
И весна… Об этом заявляют
ветки сливы с цветом на боку
Что стоят в стакане порыжелом
словно бы на дальнем берегу.
* * *
что января, что мая, всё едино
что января… и только нет в живых
уж в мае нету той, что в январе ходила
так жизненно подви́гая спиной.
А так — что в мае,
что в январе — едино
Но в январе уж нету мне того,
что в прошлый май я видел на скамейке
была улыбка очень у него
и был костюм, которому завидую
и женщина, мне не достать такой.
Наверное, что петь она осталась,
не мог же он забрать её с собой…
что в январе… что в мае…
боже мой!..
* * *
Хорошо вечернею порою
взяв диван, разбросить его
Поля, пахнущего так травою
что возможно тут же умереть…
Почему имея милосердность
я её с людей не получал,
а лишь только общие упрёки
мол, иди своей дорогой ты…
Я и так иду своей дорогой
Раньше было много хорошей
Господи, в какие мне ворота
постучать, не выгнали б взашей.
* * *
Ни одной удачи, в зале кинотеатра
маленький, как кукла, вылепленный вами
я стоял — милашка, боже, я букашка
не достался мне общественный букет.
Я промёрз до дрожи, мальчики, старухи
все ведь получили обещанный билет
лишь один я в шапке, лишь один в фуражке
нет, не получаю общественный билет.
В робкой тихой дружбе, с шумными рядами
зонтики, платочки, золотое всё
Я умру так скоро, как хотите сами
Может быть, и завтра, или же и нет.
Люпус хомус эстум, говорили греки
Ну, а мне зачем же радость латинян
Я еврей и только — русский человечек
вволю наносившийся шляпок да панам.
Может быть, я Август или Бьонапарте
или я собака, потерявший шерсть.
Шёл я вот сегодня, шёл я, размышлял я,
что даёт мне имя — позднее внутри…
* * *
Слушай, да ведь ты чуть ли не гений
Я же ведь же помню — любила тебя одна.
А ты и отказался — как ты мог отказаться
рыбы что ли не пробовал — вернись назад!
Дурак! В цирке тебе морду щипали
Чучело в костюме в золотом сукне
Сколько ложек стареющих украдено с вами
и пропало бесцельно в великой поре.
А я помню каток. Десять девочек милых
с восьмикратной усмешкой, с носами припухшими
Есть ли мясо моё? Нету, кости, мосолы,
Заедайте его, запивайте его!
Ах, как холодно мне, ах, как мне неуютно
В Ленинград я поеду, в ночной Петербург
Там дадут мне квартиру — друзья мои смутные
Ну, а коль не дадут,
я и сам пристроюсь!
* * *
Слушай, красавец, ты был когда-то пионером
а ты помнишь то утро,
когда ты галстук снял
не из-за убежденья
не из-за морд инородных
а из-за удивленья
ты сказал: «Я не их».
Да и то было верно.
Сумасшедшим вельможей
косоротым любимцем
не был ты никогда
в реверансовых комнатах
ты сказал иноземцам
чтоб они убегали
К далеко. Навсегда.
* * *
Саша. Величанский
вспоминая о тебе
и купив третью бутылку вина,
я скажу, что ты, голубчик,
был свидетелем происходящего,
хоть бы Наташу, хоть бы горе принесло
Разве ж я могу рассчитывать, чтоб меня одной
бутылкою смело.
* * *
Имеет то место нетвёрдую почву
Покрыты водою растениев корни
Облеплены тополи низкие массой
тяжёлых ночных насекомых из класса
тянущих по трубочке кровь из людей
В надвинутом небе как будто злодей.
На голые ноги приходит орава
и ест. И смородина чёрная справа
и ешь её ягоды це́лую се́мью
съедаешь, а тут и выходит Луна.
Она так и знает тебя как едока
её чёрносмородиновых полей.
Много сот метров этой равнины — трясины,
а я нахожусь у её сердцевины.
И боже, чтоб знал я её магазин
Ногой не коснусь сих проклятых низин.
* * *
Тридцать три недели
ничего не пишет
Возглас сохраняет
посереди себя
Встанет в полвторого
ходит, стучит, дышит
Стул роняет на пол
Ударяет в дверь.
Легко собирался
Пожить да отшиться
Поховают будто бы
а ты есть живой.
Вижу, не получится
Придётся убиться
Вечные вопросики
чудят надо мной.
* * *
Кто же имел железный язык
лету вдруг скажет: «Конец твой пришёл».
Лето испуганно сразу уйдёт
красным и жёлтым мелькая плащом.
Утром на площади старый кирпич
будет покрыт беловатою слизью
В ватной одежде крестьянский старик
сонно поедет на серой телеге.
Милый малыш из вторых этажей
перебежит запотевшую площадь
из переулка зевая, шурша
выйдет закутанный старый аптекарь.
* * *
Часы стучат, толкая его плакать
Он сел под деревом, помяв костюм
А дерево густое, расписное
И в дерево был вложен ум.
По той же ткани тонкому жилету
Скользит забегший муравей степняк
Заулыбавшись как больная в банках
Старухин вылепил себе лицо.
Печётся солнцем голова седая
и пыли ком летая опустил
кусок себя на отворот и брюки
ботинок серым пеплом заложил.
А он в часы подставивши до уха
Всё слушает их необъятный бой
Старинная мучительная штука
Футляр однообразно золотой…
* * *
Овевается мать уже общим былинным узором
и ложится уж пыль на живую далёкую мать
Серебристая пыль на сухую на серую маму
в кофте той, что когда-то я ей подарил
Прошлым летом я в гости
ездил в их неживой санаторий-квартиру
Я питался и спал там во сне золотом
но меня там не бы́ло, не бы́ло, не бы́ло
и питался не я, а какой-то другой их борщом.
Окружается мать чем-то белым иль серебристым
паутины ли комок иль времени дымом и сном
Только это вдали — что была мне мамаша
моя мама давно, как пятно теплоты
Так же помню её, как и солнечный свет на коленке
В малышах этот солнечный свет, в давнем дне
Соскользнул на меня побывавший вначале на стенке
как он тёпел, как тих, как молочен и ласк.
Мальчик
Из летних мух толпой рыдающей весёлой
и сбитой в плотный клуб плюющих молодых
он выбирал одну — следил за ней из щёлок
и очень не спешил, не трогал он иных.
Но эту взгляд прибил, уже к стеклу приклеил
и внутренностей белое пятно течёт
Хотя ещё рука минуты две лелеет
и пальцем трогает, надежду подаёт.
И нравится ему вначале сделать больно
щипая и дразня, крыло вдруг оторвать
Чернеет мир у ней в её глазах невольных
Пытается ещё погибшая бежать
и бьёт одним крылом по молодой природе
по воздуху весны, что пахнет кислотой
но он уже застыл и палец на исходе
в тот недалёкий путь до тела — роковой…
Раздался хруст и вмиг семья большая
весёлых мух весенних и зелёных
могла увидеть на стекле повиснул труп
одной из них прибывшей из компаний отдалённых.
* * *
Взгляды у ворот
огибает кошка
холостые ступени
звучат впервые
имея детей
от почтенных вершин
до словосочетаний
будь здоров
живи, как песок
и в легендарных дорогах
не забудь своё
имя — Лимонов.
* * *
Жил холм из бешеных гвоздей
Они стояли и лежали
А мы — младенцы их копали
и чайки, и хвосты мелькали.
Здесь свалка мудрая была
и в ней лежали все дела,
что люди ими занимались
теперь в земле они валялись
но в основном куски машин
металл отделанный так метко
торчал резьбой из хлама глин.
Но здесь встречалась и тарелка,
разбитая на пять кусков.
Куски подвергнутой бумаги
влиянию подземной влаги
и кости куриц и коров…
Бледнело небо пред дождём
и пожелтевшее моргало
по голым нашим по телам
полно пупырышков бежало
и покидали мы тогда
у свалки трубки, кости, перья
и изгибаясь, мы бежим
по грязи четверо, верёвкой
и нам ещё преодолеть
подъём, до кладбища ведущий
и сад уже перебегать
под дождь уже так мутно льющий.
* * *
Ты не помнишь ли, как поховали
маму, мамочку Вити Ревенко
Не видал ты при жизни её
Только в гробе увидел её
и запомнил так крепко…
Все те комнаты голые были
Хотя там в первой было ведро
кружку ощупью находили
подымали дощечку с ведра.
Мутный стал тот колодец у них
и вода, как с песчинками с илом
осторожно не взбить, не вспугнуть
зачерпнуло, переломило
Женя девушка старше на три
или даже четыре года
села в белом светящем платке
у коры осторожной груши
Муравьи на столе, как зерно,
и из дома поют сквозь окно.
Умирают ли летом всегда,
чтоб гоняли велосипеды
чтоб соседняя дочка плыла
взяв за руку тебя из забора
Я Лимонов теперь, а не он
не такой удивительный мальчик
Помню с курами их, с молоком
а иконы мы сняли с полочек
И воруется жизнь у меня
листком чистой холодной бумаги
Помню местность — немного овраги
и в оврагах блужданье огня.
Не убийцы ль в пещерах живут
не они ли по летнему ходят
то есть вовсе уже и плывут
и на женщину порчу наводят.
* * *
Я метельщик огня на призыв
на сзывания лучших лепёшек
и на тёмный большой перерыв
созывали мы сонных тележек.
А на валенках красных — жирён
снег тупой намекал оставался
Вся Москва как ведёрный баллон
сиротливо огромный остался.
Лист на крыше, как заяц ночей
убоявшийся волка ускачет
Губы грязные, ноги и груди семей
то отступят, придут замаячат
Вижу я — горизонт заменив
всходит грудь и мучная и дряхла
и висит её конский сосок
и одёжною грязью запахло…
Быть не тем, а другим, а другим
А скорее — уж лучше булавкой
или ключиком, или деньгой
как поддетою страшной ногой
поднятою вечернею давкой.
* * *
Овсяную крупу неся на ужин,
он должен был купить ещё и колбасы
Всем деньгам счёт был два
отнять из них рубль восемь
и будет шейсят шесть
в бумаге колбасы
Освещено в толпе
окно твоё седое
Вечерний магазин преподнесён,
и в беленькой руке с немногой желтизною
три, тридцать волосков
и каждый запрещён…
* * *
Я помню, что в груди моей блуждала
какая-то раскидистая песня
Она меня собою назначает
а я и ничего тогда не весил
Была меня подкинувшая сила
Холмы, холмы, блаженные леса,
к которым сердце с палкой доходило
но не в одном из них не разлегся…
В противном случае у песен — ноги
У ног ходьба у сорока их всех
А вдруг имеются квартирные чертоги,
где исчезает у идущих смех.
* * *
Я был с холмами в некое их время
когда они переживали звук,
который произвёл своим паденьем
с высоких чёрных древесин — паук
валявшийся напротив весь отбитый
имел вид старого безумного мешка
и кровь запачкала камней кусочки
и смерть ушла уже на два шага
и вся окрестность и моё же тело
мы продолжали сравнивать его
как с девушкой всей мягкой жирноватой
так и с лесною мышью на снегу
То все они их трое, все упали,
а смерть уже ушла на два шага
и девушкины ноги поломали
живот порезан, наруши́лось всё.
Какая мышь красивая, быть может,
какой травы наломлены стебли
а было очень их богатство, очень
у девушки колено донельзя.
* * *
Грустно вечерами, с тёмными когтями
До меня подходит голод и борьба
Потною ладошкой подопру головку
Думаю придумаю — что моя судьба.
Много меня было — мало меня стало
Чистые продукты я уже не ем
Убежал сам — лично сделал, свершилось
С тёмным чемоданом. бороды и нет…
* * *
Зимние сумерки. Крыши две светятся
Лапа деревьев ветрами треплется
Кликнули бога с верхушек церквей
кресты освещённые с помощью лучей
Кончилась химия, лирика, физика
и гимназист старших классов с карнизика
прыгает вниз на лужайку,
где читают книгу и образовали стайку.
* * *
нет моего пальто, нет моего пальто
украли у меня пальто, оно исчезло
Приходят девушки трое
Одна небольшая милая
так хороша
нет моего пальто
нет моего пальто
никак не открою фанерные двери
я живу не тут, я живу не тут
Мне тут нельзя ничего делать
Меня тут ругают за такое
и ругают — за такое и ругают
если девушки ко мне прибывают
Но две из них сели на стул
в комнаты глубине, глубине
А другая отошла ко мне, ко мне.
* * *
Меньше часа остаётся
до деталей золотых
той еды, что буду есть я
до деталей небольших.
Трещинки в продольном мясе
жир у боковых сторон
каши жемчуг засверкает
в густом масле будет он.
Меньше часа встану, выйду
и, ударив зимней дверью,
в храм еды в чердак жратвы
как стрела от тетивы.
* * *
и не с Богом в ладу
не с собакой в раю
не с властями вдвоём
не с семьёю напротив
без коричневых глаз
без кудрявого рта
без осенних локтей
близ жены живота.
* * *
Имеет ценность не один рассказ, не что-то одно или несколько, а всё творчество вместе взятое, к тому же ещё и внешний облик и то, что Гумилёв был охотником в Африке, а Хлебников был бродяга. И вот то, что он был древний урус, более даже может многих его стихов подаёт его нам — составляет о нём представление. Следует, выходит, не только добиваться максимума поэтического выражения, но и как можно правильней определить свой облик как поэта и человека. Ту нить, по которой позднее будет ткаться легенда. И уж тут цельность образа многое значит. Цельность и его отдельность.
У многих пишущих бывают вещи какие-то непринципиальные. То есть читаешь и видишь — это хорошо и всё правильно. Но таких вещей может быть много, а писателя, поэта не будет (особенно это верно в отношении прозаических произведений). Очевидно, все рассказы должны быть надеты на некий стержень — они вместе должны составлять книгу жизни. И надо быть жёстче к себе. Ежели моральные проблемы совсем не возникают, например, передо мной,— я не должен о них писать. Вопросы морали и психологии человека долгое время пережёвывались в литературе и теперь практически нельзя ничего сделать, не повторяясь. Неверная жена, пожалуйста, было; отец убивает сына — пожалуйста. Различение меж долгом и иными — было!
* * *
Как пруд столицый я говорящий
родил других
Внутри оконных больших разрывов
пейзаж кольцом.
Я гражданин родился зимой
Умру весной в её конце во вторник
И белое лицо у камня будет
казаться вдруг живущим.

Приложение к шестой тетради
* * *
Глядя в широкое окно,
я серую видал поверхность
Дома сидели на боку
и таял снег, и было сыро…
Наверное, с своей работы
жуя угрюмый воздух,
идёт сейчас работник Миша,
неся болезненные вздохи.
Заходит он этаж на третий
и дверь свою он отворяет
Бегут по полу его дети
вчерашний крик ртом повторяют.
Он ест и борщ, и кашу вместе
в пустынном уголке у кухни
Потом он учит, как сказать им:
Моя фамилия Гриценко.
Тебя спросят твоя фамилия
Моя фамилия Гриценко
Параничев ещё и Ветров
твоя фамилия гласит.
Что родило дома и дети
и Мишу с его этим делом
ложится он уснуть и спит
и неестественно храпит.
* * *
Напомним, что нас пробегает
немного по этим местам
что нас возникает и снова
скрываться положено нам
В аптечном киоске налево
в года отдалённые те
Сидела Марго королева
и всё продавала в мечте.
Закутанный в тряпки густые
до ней приближался отец
Померли мои дорогие
стоит тишина у колец…
* * *
Свет лампочки табачной
Немного вялой силы
измученной мочально
едой и сном со снами
скорей бы всё кончалось
и этот день листочек
и красота без пальцев
и ваза на столе…
* * *
Я — ведущий деятель чёрной машины одиночества
чёрной машины, где возят собачьей старости мысли
а зачем мне тростниковые болота в снегу
и одинокие дети, одетые во взрослых,
что шмыгают, проваливаясь и возникая
меж стеблей их лица!
До того они уже домелькались…
Как тяжело в цветочном диване
переносить послеобеденный сон
Без оживленья вином и консервами
клеем и чернилами
жить невозможно
ни мне
ни ему.
* * *
Господи, ведь было у Алёши
две сестры и два дрожащих брата
Почему не один, и почему же
у него у комнаты так пусто.
Даже и страшна стена другая
своей голостью и белизною.
И Алёша, сидя он страдает,
повисая книзу головою.
* * *
Едучи по некоему троллейбусному пути, сидя на сиденье, увидал рядом рукав синего пальто. Рукав был весь истёртый до самой структуры — плетёнки ткани и ещё угольничек выдранный подшит чёрными нитками. Рукав принадлежал женщине, девушке, худой и бедной.
Я ехал, у меня было больничное состояние моей психики и, кроме того, я приехал уж три дня в родной город, где провёл множество лет жизни и детства, и юность, и уже некоторые зрелые годы. Это также усугубляло мои дела. Но не умел я образовать слов для той любви, которую я имел, и которой теперь нет.
* * *
Надевая шляпу или туфли,
вспоминаю прежние года
Вкруг меня ложатся полутени
начинает говорить вода.
В зеркало вы видите мужчину
с тонким отвратительным лицом.

Седьмая тетрадь
* * *
Я помню дни прекрасные природы
Расчесанные бледные виски
и вишни выдающиеся своды
над молодым полотнищем реки.
Нас группа всех была и мы гуляли
но только локти нас двоих дрожали…
С холма были видны леса обрезанные
и там ходили огоньки нам неизвестные.
* * *
Зимним сном и страшным, юным
запорошены мои сердца
У деревьев дальних на руках
лёг лежит загадочнейший месяц.
Близь и даль имеют один цвет
От следов людей чернеют ямы
По тяжёлой лестнице в Москву
не взойти сегодня, как бывало.
И мундира я не заслужил
Только понял я, что у провинций
на их старой синей их коре
снег и лёд покоятся с тревогой.
Вот войдёшь ты в неизменный дом
с неумелым старым же ковром
и тебя там жирный ждёт обед
Как всегда висит там твой портрет
Это дело нудное — сидеть
за послеобеденным столом
И в окно тягчайше глядеть
Всё растаявшее сверху взялось льдом.
Всё растаявши тихонько трещит
Сколько грусти в этих поколеньях
В первом, в третьем, что ещё лежит
ползает ужасно на коленях.
Мне бы старый гвоздь достать
Процарапаю тогда на стенке
Ничего я не хочу видать
Этой степи, дома, переменки.
* * *
Вот были ласковые дни
метра́ воды тогда шумели
и пожилой старик студент
сидел на пахнущей постели.
Его залосненных одёж
густое солнце освещало
он гладил взглядом на столе
где в склянке верба процветала.
По грязной молодой Москве
катались странные трамваи
Шумел огромный белый свод
ворон и галок сообщая
Он помнил эту тесноту
пальто всех старых вместе взятых
и по щеке тогда гулять
стремилось солнце золотое.
Подвалом нежным занесён
в какие-то большие двери
снимал свои калоши он —
на нём ботинки небольшие.
Весенний волос был прохладным
и от жары запотевал
когда немножечко нарядным
пред ней в поклоне он стоял…
Какое море детских жалких
воспоминаниев без сил
Они при смерти не помогут
Лишь ужас ей усугубят…
* * *
Была картонка, в ней хранилися всегда
разнообразные её красивые перчатки
Оторвана одна доска у той картонки в вечер гадкий
вернее, в сумерки — кувшина тяжелей,
всё лились из ужасной кружки.
Прийти поплакаться об ней
явились всякие подружки.
* * *
И вот индусы раскачали
и длинное и страшное бревно
и белой пылью лёг на жаркие сандалии
твой воздух — крайний юг — его твоё вино…
мне было десять лет
когда колени тихих граций
уже меня качали как своё дитя
и в нише у прохладных дней —
египетские танцы
большого паука.
Китайский воздух тёк
рекою мёда с пудрой
и над рекой тогда
склонялся женщин белый рой
их ноги жёлтые безумная природа — терзать постой.
* * *
В том уюте шерстяном
где касались одеялов
ноги мокрые детей
Там толкаются и днём
напирая, разрывая
крупы ярых матерей…
* * *
Пятница липкая утром крупа
манны заварена до потолка
варенье уронено в жёлтую массу
лиловая пятница смородина чёрная
С милыми застёжками
на давно существующем платьице
чёрном и тихом посередине ковров
Старое обиталище
жизни еврейской длительной
сбережённых сукон зелёных
шелестящих часов
и розовых носов.
* * *
Эх, не трудися ты, пахарь еврейский
на ниве дел часовых,
Прижимая весь день себя к зрению
Дома у тебя дивная дочь
Приближающаяся к таинственному растению.
* * *
Как снега Миронову поднадоели
не рабочему и не служителю
тающий их вид и серый словно
в печку проникающий рассвет
Уж снега Миронов продырявил
тонкими немощными ногами
В выросшем забитом всём костюме
и в кармане хлеба был кусок
У Миронова пустые плечи
клок волос берётся из-под шляпы
Залоснившись в жизни этой очень
он пошёл к старинным берегам
неправдоподобные растенья
привлекают зренье кто плетётся
кто улёгся ночевать на землю
то немного овевает ночь…
Извиваясь сонной на кровати
там сзади́ любовница осталась
и лежит — жена двух лет упорных
и несчастных в мире отношений
Порываясь, он забыл об этом
А теперь несчастному на фоне
снега и земли почти раздетой
ему кажется она при вздохе
и тогда жалея, он проникся
неким нежным ласковым оттенком
и оттенок закричал, сжимаясь:
Возвернись, Миронов, возвернися
и уже тогда поворотивши
он до ночи приплелся до дома
и лежит его большая баба
по кровати стелясь несравненна.
* * *
Утекло у жизни многих нас
сколько украинских их степей и вишен
Но чего не вспомнит старый глаз
юный ум — чего он не забросит
Вот и полем гречки занозил
я когда-то ум свой и неловкий
Десять или боле лет прошло
Поле гречки — взяло расцвело
и по нему одинокий человек
как фигура молодого пешехода
как светало через поле шёл
как смеркалось — в лес его свернуло
Тонкими кусочками блестя
началась гроза — виднелись даже листья,
но его видать было нельзя
Верно, он навечно углубился…
* * *
Открыл я штору вечером рукой
Дома людей в свету стояли
А между них виднелся лес ночной
и там, наверно, мыши пробегали.
Других, я думаю, там не было зверей
но тыщу раз прославленные мыши
я думаю, ходили меж стеблей
шурша собой и белым закрываясь.
* * *
о холодном дожде по плащу
наступающей гордой весной
в этом городе долго ищу
не себя ли, трамвай ли, покой…
По тому, как хожу, как долго
запах жареных мяс и земли
наступают растения вновь
а с героев стекает вода
Когда я неизменно умру
вкусив пива забытого вам
то не кажется вам, что свою
я коробку картонную дам
В ней хранились мои письмена
мои жалкие письма к жене
я вернулся, ведь я не нашёл
лик кафе затуманен и глух
На сардельке печать одиночества
и на кофе с лимоном подобное
и с одежды стекает отрочество
А в груди восклицательный знак
Повалил окончательный снег
и застлало весну пеленой
Погляжу на себя в зеркала
и пальто вниз висит, рукава
Моё жёлтое с белым лицо
что-то пятнами в нём или что
я единственно жил молодой
а ты с зонтиком вышла тогда
и какой ты тревожной была…
Человек он и маленький свят
Твои, Боже, колени и вверх
и большие твои бока
так белы, как и снег…
Этот сахар умрёт, но зачем
А в груди восклицательный знак
И по серой земле зеркала
Ты похож или нет на себя…
Вот какой ты была молодой
ни морщинки у глаз, ни струны
я же в чёрном и бел воротник
и черна голова на плечах
Перебитое чем-то лицо
* * *
По далёкой отсюда дороге
над тяжёлым значительным морем
собралися цыганские тучи
и пошёл благодетельный дождь
неизвестные тёмные ночи
все покрылися сетью морщинной
В их средине скопилася пыльность
её смоет протекшийся дождь…
* * *
Эдинька, что тебе делать
как тебе маленький, ах
Бедная курочка Боря
пальчики в курточке в швах
В странных любимых карманах
длинные гнили рубли
И капитаны в туманах
на острова набрели
Долго осенним уродом
в тихом скопленье дерев
ходишь ты, Эдинька, жатый
долго ты ешь свою плоть
Никли костлявые люды
в платьицах на рукавах
только лишь вышли из трав
тонкие руки собрав
* * *
Я хочу быть простым человеком
Никогда ничего не мудрить
Быть мне скромным простым человеком
и чужую жену взять любить
А свою ненадолго оставить
А потом уж вернуться до ней
Неизвестным лицом с красной кожей
младшим братом всех тонких теней
Там, где кончен живот, там, где ноги
начинают прекрасно расти
Там живут беспечальные боги
и дрожат они там, и горят
Я приду и туда поклонюся
и прилягу щекой на живот
и семейное пусть одеяло
мою кожу на теле дерёт
Я люблю эти запахи снизу
они морщат меня и зовут
Эх, Лимонов, печальный Лимонов
Золотой молодой человек
* * *
В восторге старости идущей
вослед за юношеским бегом
печальный гений брат тревоги
над тонкой нивой пролетал
Его любили и ловили
руками прежними как будто
На самом деле руки новых
уже чудес, уже сирот
Огромной мухой в тёмной чаще
казался всякий человек
и всё существованье наше
имело сон на берегах
* * *
Маленькое варварство глухое
совершить ночной и стыдный труд
на коленях над женою стоя
важно подползая и один
и красней бумажного пиона
видишь своё сердце на верёвке
на ветру весеннем малом тощем
груда у козы твои заняты
Прочитаешь ноги, кожу, даже пяток
летними туманными губами
Было мне шестнадцать, было девятнадцать
Двадцать шесть — раскрытье самых женских недр
Глубина, где ходит смерти запах
и откуда дети разбухают
Я люблю простую очевидку
моих сотых над собой страданий
* * *
Все цветы, что предо мною лягут
в час, когда глаза заснули
мне являются железным мылом,
вылитым на рельсы голых дней
Побегут мужчины-карапузы
двухнедельным хвостиком махая
Каждый из подмышки мех покажет
при одном из резких поворотов
Так цветы передо мною лягут
так махну отъявленной рукою
так скажу крахмальным ртом ужасно
Вы ложитесь, я вас поджидаю…
* * *
Я хочу быть маленьким худеньким
несчастным человеком,
Лежащим утром в ужасной спальне
только начинает рассветать…
Но чтобы меня тогда терзала
кости мои все вокруг обнявши
грустная и подлинно на белом
нарисованы её глаза
Я хочу быть иным и по причёске
и по левой руке, и по носу
А душа чтобы рядом лежала
на столе и грязью бы пахла
и моей, и её мочою
волосами и потом и тою
тою чёрной любовью далёкой,
что является белой любовью…
В странном поле бродили бы руки
все бугры мне поведав и страны
Этой комнаты в стае туманы
сбились — ноги укрыли… живот
Вот упала густая гребёнка
тёмный лист прошумел, стол оставив
то порывы подрядные ветры
осушили мой стол, мою площадь…
Все предметы глядят на меня
и меня осуждают за пищу
Этой женщины телом, как май
что-то пьющей меня невзначай
* * *
Ему плохо, нет, чтоб замереть, прижаться и молчать —
так он самоутверждается и кричит о себе.
Правильно больною синей ночью
Находится в глубине у снов
Там толкаться, дико просыпаться
выпрямляться на кровати здесь
Ртом ловить тот воздух тех жилищ
заколоченных и смяты одеянья
И на стульях цвёл инициал
и огни в коробках догорали
Лёжа на боку у всех людей
родинку почтительно целуя
вскочишь станешь меньше закричишь
ляжешь… соберёшься в тонкий узел
* * *
Потно было на небе широком
Глубоко где-то листья светились
Проходили кусты подминая
Орды диких и грустных животных
Шерсть их была свята и прозрачна
Оставалась она, повисая
Вслед им шла воспалённая дева
В красных прыщах большая, босая
* * *
Сотрудник Бога кот согнутый
на стуле мягком день тянул
В кармане у меня минуты
гремят, болтаются, смешны
Всё ездеют внизу прохожих
Спинные облики туги
и старятся чужие кожи
Ползёт своя, уходит вглубь
На нашей маленькой подушке
лежать и щёлкать голове
и разной степенью молчанья
себя в другого погружать
* * *
Вымыта Петина старая кружка
Робко сверкая, стоит на столе
лет молодых дорогая подружка
Воды и морсы, и кофе, и чай
Петя, стареющим ликом махая
Не умирающая, говорит
О нестареющая дорогая
Фарфор как прежде… улыбка висит…
Быстро пошло разрушение тела
старой сосной, моя кружка, моя
Мелко умрёт твой, Петруша, хозяин,
левой рукою тебя потянув…
Даль приблизится и близи отпрянут
Петя скривится грубеющим ртом
Сколько испуга и сколько проклятья
кружка безумная в виде твоём
* * *
Жёлтым вечером, придя в дикое упоение,
любил выпавшую пыльную ветку
со стены слетела, где была
прощаясь безумным целовался и
обнимал за шею
ничего не говорил, ничего не говорил
Позже, имея тягостную суму,
шёл на свидание к лесу
и дорога краснела по мере того,
как пропиталась солнцем последним
* * *
Свеча оплывшая, надежду погасив
приветствует меня, как будто утро
и пахнет мне таким открытием границ
меж небом и землёй, меж светом с тьмою
И тайною химерою садов
бредёт в поход ночная утка
и светятся стержни́ её усов,
когда она зубами разгрызает
* * *
Я искал этот плод в ночи древней
Затекли мои ноги тогда
от хождения чёрной пусто́той
среди резких ветвей и воды
Я искал этот плод до весны,
пока мягкой садовой дорогой
не ползла погружённая в сны
та улитка коричневой масти
* * *
Бешено едут дикие цыгане
Их вид красив, смущён и робок
и плачут вдаль при виде побережий
степных и горных ценностей
В обозе их с моими зеркалами
завязками по пыли волочась
выделывая след змеиный
плывёт от нас жена от облаков
Где женщины ослабевают тесно
в компании, где груди всех четыре
там радуются дети золотые
жуя сосок развинченный и мягкий
Когда и мне светила мать вдали
я был другим лежащим сонным юным
и след змеиный делали в пыли
густеющие дни слепые
* * *
Вот странные тяжёлые листы дорог
звучат на языке так милом
Я, может быть, сказал себе — приди
во вторник, в среду
Купаются во мне овраги те
и реки те различных цветов
Красавиц никогда не оторвать
Внутри они гуляют
* * *
Я люблю эту жизнь свою мелкую
закруглённую где-то, а где
Никому не понятную барышню
на рояле играет и спит
И дерево белое и его чёрные плоды
и стоящая под ним табуретка
смеются, блестят, говорят о себе
жмурятся и трепетают
сменив молодые года на других
весёлых, но также и мрачных
на той табуретке Наталья сидит
природе весьма поддаваясь
* * *
Основная задача современного поэта — сделать как можно более эмоциональным свою строку, строфу и весь стих. Уже нет и речи о рифмах и других формальных ухищрениях. Эмоциональное напряжение! Только оно! Начинаться стихотворение должно с эмоционально запоминающегося сочетания слов. Читатель должен получить аванс. Первая строка должна быть очень исключительна и хороша, чтоб читатель захотел глядеть дальше. И всё остальное должно быть ясным зримым для читателя или если не ясным конкретно, то дымка, окутывающая неизвестное. Должна быть интересна читателю. Надо хватать его — читателя и заставлять — А ну, читай! А то!.. А то многое потеряешь.
Строй живой речи, только он способен в какой уже раз оживить поэзию. Там наша кровать стояла! Вот что есть пример мне самому. Все оттенки, интонации ахов, вздохов, кликов радости и вспомним основы речи своей и эти виды предложений. Вопросительное, восклицательное, описательное. Так, путая наречия и предлоги, бранясь и банально умиляясь, должен выражаться современный поэт. Для оживления стиховой речи нужно идти не только на сознательный перенос ударений в слове. Но и даже на нарушение элементарных правил грамматики. Несвязанные между собой, несогласованные в отдельных случаях части речи, когда того требует стих.
Единица стиха есть не строка, не строфа, а эмоциональный выдох или вдох. Одно напряжение поэтической воли — вот единица стиха и его написания. Выделять это напряжение и под ним писать другое и т.д.
* * *
Любил вишнёвый сад и тёмные дела
которые в траве творятся до утра
и звуки, что дают растения собой
под ветром зацеплясь цветами иль листвой
И маленьких таких ползущих по делам
безумных муравьёв, причастных в чём-то к нам,
строения земли, начавшие желтеть,
а стены зеленеть, а воздухи дрожать
и крики допоздна из середин ума
Проклятый белый свет. Тюрьма, тюрьма, тюрьма!
* * *
Я ведь, братцы, помру, и никто не узнает
где могилка святая моя
Я ведь, братцы, помру — вы со мною все жили
жил и я с вами, весь я
Это воля от судеб — чтоб рыбою пахнуть,
чтобы Игоря мне провожать в Свердловск
чтобы рыба осталась, и стол весь измятый
А уж Игоря нет, Ворошилова нет
А шестого приедет удивительный Вовка
Придёт Саша Морозов, другие друзья
и Наташа с улыбкой выпьет и заморгает
Я люблю вас как квиты — молодые мои
Знаю Стесина в жизни в полосатом костюме
и еврейское он — голубое дитя
и крича, и волнуясь, ничего не изменит,
и Россия его подомнёт под себя
мы капустой и луком крепко связаны вместе
Вовка с чубом приедет, закричим, замолчим
И жена моя Анна долго не́ жив, вдруг входит
Воцаряет во мне восклицательный знак
По зелёным и жёлтым, высоким и низким
прохожу я рукою по головкам друзей
что любимые — слава, что любимые — повесть
Мы умрём, но мы жили, красовались любя
У меня на рожденье у меня на стене там
выступали уже уже вас имена
Ещё мать не рожала, ещё только мечтала
А уж ваши стояли на стене имена
Мы помрём, как в Париже помирали другие
кто-то раньше, кто позже улетев, улетев
Жили мы в одно время время — о-ля-ля-ля-ля
На земле так красивой проходя, проходя
* * *
тихой молнии любимец и зверинец и зверинец
шляпу нежную ломая как бы воду
не приходит твоя помощь моему народу роду
моему лицу в оправе чёрного безумства
Восхищаясь в мостик влюбчив
что из дерева поёт и стонет
А внизу река течёт терзая обгрызая
берега седые юности далёкой спешной
Как я стал стоять и плакать плакать
как уж я не говорю, а восклицаю
Ах, мои ободранные руки
и вцепились и глотают небо
Счас ещё хоть утро, а уж вечер вовсе
ночь как плоскогубцы защемляет
Ржавая она так давит давит
Чёрная мелькает морда
Вот уж сколько вот уж сколько сколько
дней таких таких таких и суток
Не спускаюсь больше уж в овраг зелёный
Не летят слои из уток
* * *
Заходяще солнце убавлялось
Хорошо горят вон те дома
Тень уже так много удлинялась
и совсем навеки померла
Моя куртка плачет и тоскует
о твоём измятом рукаве
и безумное лицо целует
щёки твои милы сразу две
Ухо приближается к густотам
твоих чёрных и седых волос
Ах, приедь, приехай поскорее
где живу я, есть тут дикий мост
Яуза течёт походкой грозной
А вверху проходит акведук
Он такой старинный и прекрасный
Здесь тебе понравится гулять
Съедешь ты на санках с невысокой
детями объезженной горы
Закричишь при этом, завизжишь ты
Девочка волос седых
Ночью ляжем мы в углу каком-то
страх вначале оттолкнёт, прижмёт потом
Господи, как сладко ты сияешь
телом и дорогой, потом…
Как ты велика, как развалилась
как живот твой вязок, бел
Обнимая его тонкими руками
И в могиле бы лежать двоими
* * *
Редко приходят завалы из памяти ранней
Брёвна навалены там, где была красота
Помню… не помню, а может быть, мне просияло
имя какое-то, то ли её, не её
В тех черносливенных наших утёсах гуляли
Вся была площадь земли занята
Там вон река как красивая женщина груди
мерно выводит и прячет свои.
А по тому что нам чёрные стали деревья,
можно понять, был февраль или март для детей.
А по тому, что комедии утки играли
в жёлтой воде
это была весна и опять…
Шли муравьи остроногою пыльной колонной
Время текло по деревьям и падало вниз
снова собой удобряя грядущие годы,
что ещё в семени тихо лежат на горе…
Мальчик в матроске бежал и пугливо вертелся
Солнце ведь нету и стала трава темней
Жаркое лето его-то туда пропускало
то он в обратную сторону тихо бежал
Рот пузырился… а то упадёт сыро, мокро
холодом веет и жёстко кусает трава,
а за холмом там река, и от ней всё подальше
взглянуть и то страшно на этот коричневый цвет
Трах-трах что-то падает с дерева, руша
ветки ещё по пути и листы, и кусты
Что это! Кинулся крикнуть, боясь и давяся
зелёной слезой для его девяти с лишним лет
* * *
Нынче сегодня как кукла большими шагами
Возле реки там гуляет один человек
Чисто одет… на красивом плаще отвороты
лет будто сорок, но жизнью изрядно побит
Вечер начался гудит молодыми жуками
Только что май и так множество соков в толпе
грузных земель и кустов и луны постепенной
Всё-то сочится и громкие песни поёт
Ландыш судьбы моей думает был нехорошим
Быстро увяли его красота и белизна
Только его приколола к груди лишь Светлана
Было едва хорошо, но уже от груди он отпал
Завтра суббота придёт ко мне утром и в двери
сладко позвонит условным звонком
та, что приходит всегда по субботам
Тело подёрнуто поясом милым жгутом
Длинные дни. Ещё более длинные ночи
Нравится верно — кому-то людей истязать
Дать им и день, чтоб его уже некуда сунуть
Ночь, чтоб постелью его придавить и измять
Бритые лица идут мимо глаз, что закрыты
И пауки там ползут, говоря и возясь
К бледным истокам судьбы ни за что не добраться
Можно лишь выть и разлить молоко из грудей
* * *
Никаких моралей и никаких моральных проблем. Может быть, и не так, как я это раньше делал, но никаких моралей, выводов. «Основной конфликт романа — в столкновении Юджина со своим отцом…» К чёртовой матери этот конфликт и всё с ним связанное, и Юджина, и отца — к чёртовой матери. Давно и навязло на зубах. Очевидно, человек ходит в комнатах, пейзажах и только. Вокруг него вещи, он их трогает. Если он человек что-то и думает, то это совсем не то, не то и не то. Даже самые банальные заведённые человечьи истории никогда не покоятся на каких-то идеях, выводах, решениях. Человек неуправляем. Как выходит, так и живёт. Мало ли о чём он говорит. Мало ли, что ему кажется. Он хочет. Нет, он не хочет, ему кажется, что он хочет. Хотеть можно только есть, спать, испражняться — хотеть, например, лучшей жизни человечеству — нельзя, это невозможно, этого не может бывать никогда. Это уже не хотение, это слой пыли, покрывший человека. Пыли слов и вредных или невредных привычек. Проза, хочу я сказать, неизвестно быть должна какою, но что из неё надо изгнать вот эти вот отношения Юджина с отцом — это уж точно. Если и есть какие-то отношения не они суть. Они ничего не определяют и ничего не значат. Главное это вспомнить, придумать обстановку, поступок, передвижение предметов на плоскости, их яркость, их существо. Как то делает поэзия, обходящаяся совершенно без отношений Юджина и его отца. Поступил тот человек плохо или хорошо — это не дело литературы. Её дело создавать то, чего не было.
* * *
Уже меня что вдохновляло
не стоит замыслов теперь
настолько время изменяло
мой брег всё более далёк…
В огромной чашечке цветка
приснившегося прошлой ночью
жил подобный малышу
но всё же как-то странно старый
А господину говорят,
чтоб он сменил костюм на новый
на серый в клетку, говорят,
что схож с туманом: растворитесь
А он служанке говорит,
чтобы она туманным утром
ему из магазина чтоб
доставила большие сапоги
Коричневый он сел под светом
и курит он табак скорей
А в зеркале своём постылом
ему виднеются семь дней
* * *
Сколько беременных в мраке деревьев догадок
что ли не дерево или стоит человек
ты пробирайся своей необозримой дорогой
не для чего пробегая из сада в леса…
Тут вот такая высокая масса предметов
Это трава, в ней сияет змея головой
Там ты и сел и её поджидаешь нагую
голую всю, лишь одетую в лунный свет
Вдруг всё вскочило, столкнулися все предметы
Тени вповалку одна и другая и все
Это от ветра такое большое шатанье
внятно запахло чужим неизвестным цветком
Бальные очи цветка задают мне загадку
Длинная шея его говорит мне — люблю
и обвивает мою тоже нежную шаткую шею
шалость творит и любовь средь травы начинай
Ноги мои обкрутило подвластное племя
Ходят они, очевидно, в рабах у того
Только Луна моё бегство сумела поддержкой
приободрить и направить ползком на холмы
Сев наверху, ощутил я ползучую землю
вся моя бедная старокрестьянская кровь
вдруг загалдела, перетекая, браняся
и я разлёгся, и сон земляной меня съел
Долго я спал ли, но было тенистое утро
Птица, горбатясь, сидела напротив меня
и мне кивнула и так это ух — улетела
стало теплеть, и ручьи потекли кто куда…
* * *
Лёгкие дневные часы стучат
Женщины старые в кофтах молчат
Карты летают у них по столу
машут одним крылом во мглу
И глубоко вздыхает диван
когда передвинется кто-то, качаясь
А в воздухе тлен, в воздухе туман
Ни у кого нет коленей и пальцев
И всё же милое дорогое тепло
отходит от бел заключительных тёток
И шалям немножечко хорошо
И юбкам, затёртым от щёток
Какая-то мерцает глазом своим
А какая-то карту сгребает
Рука шевелится, как ветка куста
бледна и совсем проста
Никто не бывал в чужих городах
Каждая прожила средь стен, стесняясь
Утром ходили, спрятав глаза,
только в постели и высвобождаясь
Бумажность и грустность грудей в глубине
Потёртых нарядов и влажных
и усиков старых седых на губе
капризность и чепуховость
Последних коварств в дураковой игре
касается голова их
И вот заливаются смехом две
А две другие терзаются…
* * *
Ты горда и прекрасна, как кто
Легко движутся ноги твои
пострадало большое пальто
в перемётных скитаньях любви
Тихой пошлости тёмные сны
у тебя на лице так растут
Только вниз от дрожащей спины
будто влажные руки идут
Ты стояла, колонна висит
А ты в сумочке роешься ручкою
Эта ручка твоя такова,
что вся кожа на ней говорит
Говорящая кожа права

Восьмая тетрадь
* * *
Солнце и тень отдалённой деревни
Мелкий и серый песок всё залил
Тихие сонные гости природы
Под вечер вышли в пыли… молоды
Грязные банты. Тяжёлые старые шляпы
Прядь от волос изгибается вниз
Вольные руки висят как у дерева ветки
Что это значит. Куда это всё привело
Местные люди не знают и не отвечают
Солнце сказало последний свой свет и ушло
Стало разборчиво видеть и холодно слышать
И далеко свист деревьев тянулся сюда
Вот чемоданчик берут эти руки за угол
Шаг возникает и топот уходит в лес
Словно не было и больше не будет не будет
И никого не стоять не лежать говорить
* * *
Из поры, где школьниковы платья
и штаны блестят сзади лоснятся
пахнет фиолетными чернилами,
мелом и чёрным глазом
Белые торчат и веселятся
Кружева желтеют, погибают
Сколько лиц приплюснуто к стеклу
Старых дней стекает с волосов
Там туман укусит за плечо
Там калошу потерял в тоске
Красные далёкая щека
В воздух улетевшая сирень
Шёлком шею первый обмотал
Хорошо! Но прежняя тоска
тоньше стали пальцы подрастал
шли над отчим домом облака
* * *
Среди жара деревни и пыли
находясь под деревьями сбоку
тихо я наблюдаю природу
подперев себе тёплую щёку
И найдя вон ту ямку в дороге
и вот эту вот ветку на вишне
я отброшу их ради другого
красных пятен поставленных солнцем
Счас куда-то по жаркому следу
вдруг проходит душа молодая
Появилась из старого дома
и проходит, одеждой махая,
А из этой проклятой одежды
вытекают короткие руки
шея с поясом белого жира
и густые тенистые ноги
И я брошу приятное место
и пойду за ней, клянча и ноя:
Дай мне мясо своё молодое
* * *
По рассказам больных очевидцев
перешедших порог навсегда
там кровати всегда улыбают
и едва говорит тишина
Там о зубы чуть клацнули зубы
нитки тонких протяжных зубов
Там хрипело дыханье, но скоро
оно стало пугаться себя…
В длинном теле железо сидело
и как будто там шила игла
А из глазов там что-то глядело
И другое — нежно́ и синё
Просыпаясь, оно убегает
золотится, потом убежит
Если мальчик — оно продолжает
целый час ещё смутно сидит
* * *
Под роковыми старыми деревьями
метаются кричат худые птицы
мелькают пред глазами постоянно
оскаленные птичьи рты
И та вода, что грустно протекает
возле стволов в траве упруго синей
молчит почти. Сидишь бедняга узкий
и с девушкою слабо говоришь
Луна являет её пышность груди
Жара и сырость от неё идёт
Боящимися хладными руками
ты гладишь мягкий водяной живот
И прекращаешь разговор и молча
по ней руками лазишь ослабелый
Она от странных ласк застыла будто
Её с твоим несовместимо тело…
* * *
Грандиозные событья и безумные восторги
растворились во вселенной как могли
Наступило время свечек и воды ночной в канаве
Улыбаешься и тихо — пахнет плохо!— говоришь
И давно оставив малый
свой порыв к небесной школе
где создания лениво
косы вешали на грудь
стоишь в тряпочке суконной
ворожей зеленолицый
Тебя парит, парит, парит
нескрываемо один
* * *
Мерцает в марте лунная деревня
Кора надулась, крыши налились
по закоулкам комнат земляных
лежат и дремлют братья травяные
По их мозгам перелетает мышь
Их громко тянет мокрая природа
Они хватают их сестёр во сне
Владеют ими дико своенравно
Вертят их всех. Зовут их, как хотят
Во тьме толкают их на стенку боком
руками части тела мнут подряд
и внутрь тела брызжут своим соком
А те, спустив малиновы чулки
и дышут хрипло так и завывают…
вот так на свете наши мужики
как хорошо, завидно проживают
* * *
Как-то вечером в обнимку
с тёмной тьмою, с тёмной тьмою
и с блеснувшими деревьями
под явившейся Луною
шёл одетый грустно некто
без бородки и в очках,
Огороды огибая,
мостовая в волосах
Он имел желанье кинуть
дом тяжёлый свой, жену
И стопу в столицу двинуть
Там понравилось ему
Но позволено не было
отлучаться вдаль столицы
красной тенью он живёт
и провинция поёт…
* * *
Валентин приближался к оврагу
И овраг на него задышал
Уже синяя тень задремала
уже каменный мост холодал
Он, подошвами землю взрывая,
осторожно спустился на дно
Там ручей тёк мусо́рный, виляя,
Постепенно ставало темно
Под мостом между свай его толстых
загорелся медовый фонарь
и его окружило сейчас же
пятно масла… бумажная гарь
Поднялася на воздух и с криком
разбежались сжигавшие вдруг
кто с платком, кто с железным крюком
возникали рубахи их вдруг
Валентин ощущал в своих туфлях
сырость с холодом напополам
преградила дорогу канава
заросла для гулянья котам
А из тьмы протянулась рука
и его за пиджак ухватила
меня Зося зовут ах тоска!
погуляем вдоль берега, милый
Валентин весь отпрянул долой
Побежал. Но она не бежала
Вылез на́верх… поплёлся домой
Сзади сырость его оставляла
Больше, если гулял, никогда
не спускался в овраг на закате
Вдоль краёв лишь ходил
И встречал иногда
костыли и пиджа́ки на вате
* * *
Ноги двинут листву первертят
на другое уж место положат
Птицы поздние мелко свистят
и тропа прекращается всё же
где в общественном парке темно
в закоулках у стен у заборов
то свети́т одиноко окно
то поляна кружок сидит воров
их занятие в карты игра
они в тёмных пальто и ворсистых
Ты уйдёшь, и сомкнётся куста
и не будет их слышно и видно
Никуда ты совсем не идёшь
А блуждания эти полезны
и, соломы сырой подстелив,
сядешь ты в заросля́х походив
То какой-то вдруг домик… висят
на верёвке рубашки от женщин
Темнота голый ветер верти́т
и рубашки качаются женщин
* * *
А прошлым летом бабушка скончалась
Светилась перед смертью вся
Наутро пироги печь собиралась
муки из кладовой вдруг принеся
Чего это задумала такое
ведь мы вчера уж ели пирога
С картошкою и с мясом, и с повидлом
Всё бегаешь ты, наподобие слуг
И пироги пожарив, отложила
И стала вызывать детей
И каждому по пирогу вручила
и это было так приятно ей
Ещё улыбка краешком держалась
А дети убежали в дальний угол
А бабушка присела, отклонялась
и тихо отошла к своим подругам…
Прогулки Валентина
I
Валентин сегодня к вечеру проснулся
Бил осенний неприглядный дождь
Он в окно до пояса воткнулся
Думает, куда ему идти
Мать, с которой жил он одиноко,
тихо и таинственно ворча,
медленно и ласково приносит
ему на́ стол мисочку борща
Сидя и почти что не одетый
и глотая ароматный борщ
Валентин решил идти на вечер
к Катарине ЭР сидеть
Вдев свои тягучие подтяжки
стройный торс в костюмчик заковав,
полил он чуть редкие волосья
эликсиром из ближайших трав
Мать тянула, говорила стой-ка
там на волосы спадает влага
Но, одевши тёмную накидку,
он пошёл, как будто бы бродяга
Было всё темно… ударом двери
Сзади оставалося тепло
и пошёл он к Катарине узкой
мать глядела, за́няв всё окно…
II
А у Катарины было шумно
Не смотря, благодаря дождю
собрался народ тут странный умный
мокрые мучительные все
Вон сидит в углу бордового дивана
плачет и под тонкою рубашкой
тело всё приходит вдруг в движенье
Ах, придётся умирать мне рано
Два других ругаются и спорят,
Рюмки тонкие вертя
В медленной потрёпанной одежде
от столицы далеко внизу
Валентин приветственно махает
мокрою и красною рукой
и на этот жест из групп вставает
женщина с смертельной худобой
Не имея ни одной улыбки
в платье розовом подходит принимать
Говорит, что Валентин прекрасен
в этих каплях на его лице
В карты мы сыграем, я считаю,—
говорит ей Валентин, глумясь
На костюмчик серый Валентина
облетает пудра, засветясь
В красную щёку другой влепляет
он большой и жирный поцелуй
Та ему на это отвечает
тихим лепетом воды…
Кадки с злым растением низины
пышной высятся грядой
перегородив до половины
зал холодный воздух голубой…
Здесь висят цветы табачных ды́мов
а под стенами хотят лежат
а хотят, склонив большую шею,
длинный стих ужасно говорят…
Тонкий домик низенький и мокрый
от квартала ты не отличишь
Никогда ты не узнаешь, что там
Проходи, чего ты здесь стоишь…
* * *
Я в тайнах до́мов деревянных
себя невеждой показал
вчера мне дом тот показали
определи, кто в нём живал
Друзья стояли кучкой тесной
Ответа ждали от меня
я обошёл дом неизвестный
я видел всё от их коня
качалки детской для развитья
кончая чёрным мотыльком
большим размерами приколот
на вате был и под стеклом
Бумаги на столе лежали
их всех задерживал шпагат
когда же бритвой подрезали
то хлынул жёлтый водопад
Я разбирался в тех потоках
Возился там и я читал
дневник и жалоб, и упрёков
кого-то пишет: ростом мал
А в возрасте как мне пятнадцать
ещё упал, сломал ногу́
ничем не можно заниматься
мужским я больше не могу
Моё лицо содержит оспу
Я дожил к двадцати пяти
меня преследует вид женщин
но нет, мне к ним не подойти
Вот день холодный был вчера
Виктория, служанка наша,
копалась в грядках до утра
пришла поесть на кухню кашу
Она зажгла огонь в печи
и лампа старая горела
Глядел и я… вошёл молчи
И потушил я эту лампу…
Теперь мне стыдно проживать
Как это всё ужасно было
Ей лет, наверно, сорок пять
На ней одето много было…
Не жить теперь не говорить в лицо
двоюродной сестры мне…
тут обрывается… листы
другое уже там содержат
Друзья стоят, ответа ждут
и что случилось с ним пытают
они ещё теперь живут
они о мёртвых знать желают
* * *
Редиски целые возы
вдоль этой улицы провозят
Идут нескоро жеребцы
а возчики их всех поносят
Ругание висит… весна
Большое зданье голубое
красивый мальчик из окна
глядит с какою-то тоскою
Кусты качаются вверху
и пыль песочная летает
прохожий профиль на мосту
в задумчивости застывает
Ребёнок в красном от мамаш
Бежит, всё визги издавая
их трое догоняют с криком «Паш!»
Вернись, дитя моя родная
* * *
В докторском кабинете лиловом
при начале месяца мая
при конце дня докторского большого
на столе лягушка умирает
Её печальные ставшие жёлтыми лапки
двигаются очень долго, но затихают
голая женщина, пришедшая на осмотр,
сидит на белой тряпке
жалеет лягушку и вздыхает
неизъяснимо печально стоит
Доктор в пороге своего кабинета
Какая-то металлическая штучка
в руке у него дрожит
Впереди четыре месяца лета…
во время которого, вероятней всего,
кто-то умрёт из его пациентов
Женщина, о которой доктор забыл,
прикрывается марли лентой
* * *
В квартире в розовой бумаге
лежал на полке книжек ряд
Салфетки водные свисали
Шептали складки живота
Была закрыта площадь пола
ковром тяжёлым и худым
Спина загадочного стула
в тени растянута, что дым
Лицо отлогое взбиралось
всё время по воротнику
и прядь волосьев выгибалась
поближе к левому виску…
* * *
ах, сколько чёрный может
деревьев посещенец ловких
скакать поверх от краешка коробки
где бег летательный освоен глубоко
и луч угла ноги повёрнут странно…
Корзинка светит глубиной своей
А замысел истлевшего базара
Какой-то сторож пальцами гремит
Ему под головой пятно сажалось
На складе видны чёрные тюки
Согретые тем женским телом,
которое лежит перед весной
считая чёрное своё великолепье
* * *
Великой родины холмы
Из всех, которых я и знаю
Золотаренко был мне друг
Какой он тёмный и мужицкий
Его есть кости-рычаги
Большие шрамы кожу портят
Он знал. Что жизненные сны
Его уродуют — а вышел…
* * *
Тем, что пыль повевала, что пыль повевает
Я спасён был в ладонях этой пыли
Я жил
она так меня мягко отделяла дышала
берегла моё детство и юность мою
Лишь в апреле задует
только речка прохладу
хотя чуть уберёт, хоть едва уберёт
я хватаю уж куртку и иду и по тропке
через кладбище и через многи поля
Уже Витька со мною Проуторов и в сердце
У него залегла его яма — болезнь
И от этой болезни на меня свет садился
И такая же жуть на меня залегла
* * *
Только стан мелких зонтичных
находились над равниною
А вообще она бесплодная
и болото на ней с тиною
Ещё небольшие бамбуки
грохотали, когда ветер был
и в свирепой грязной местности
ходят узкие животные
Значит, только стаи зонтичных
находились на той местности
а копытные животные
уходили от неё…
* * *
Я люблю вечерние товары
в магазине ближнем по весне
Там высокие томятся залы
и освещены фонарно не вполне
И в такой ограде тихих лампок
там лежат из тканей целы дни
и рыдая, говорят старухи
о желанье многое купить они
Невозможно восхищённым зверем
этот синь костюм не проводить
когда он весь выставленный вздутый
только что не может говорить
есть какой-то тон прелестный
в том, что туфли кожею блестят
что из тротуара чрез витрину
вдруг подловишь манекенов взгляд
Полный день вот отошёл без пользы
под конец блуждая и томясь
ты зайдёшь в Пассаж Петровский возле
в опустелом в нём гулять пустясь
* * *
Каждый мелкий человек имеет такую же ценность, как и самый великий. Жалобность по отношению ко всем людям как к существам обречённым на исчезновение. Простые, но глубинные чувства этого присутствуют во мне и заглушают всякую мою враждебность к людям. И я уже не могу их за то, что они мне причиняют, преследовать и порицать.
* * *
Лёгкие новые ботинки закуплены
Васенька завтра наденет чуть свет
А сегодня отпраздновать это событие
он пригласил детей на обед
Кружатся, полные детскими вздохами.
пары, мелькая хвостами кос
Одна только Соня со странными мыслями
от них отгоняется, как бы от ос
У ней на лице её тяжесть написана
Она ничего в себе не поймёт
Она сорвала свою нитку со сто́ла
и долго её неизвестно жуёт…
* * *
Банка олифы желтеет на солнце
бедными бёдрами в мир поднимаясь
Я неизвестное прошлое знаю
главным сижу я на стуле теней
Но если густое моё названье
резинку от женщины не отберёт
и она снова наденет чулок
и залезет в гущу растенья
то сколько по поясу ременному
не будет ползать у солнца хвост
пятна сотрутся древних ребят
с матовых плит у угля
цинка слеза, оставаясь стоять,
легла на доску предмета
и валик резиновой груши прилёг
к горячей щеке соседа
* * *
Больная вечерняя тайна
Лекарственных растений ряды
стоят и колышутся ветром
сжимая руками закат
У самых корней валерьяны
лежит изумительный крот
Он выполз на солнце скорее
Склонил свой блестящий живот
По жирному, жирному телу
зелёные бегут пауки
А ниже, всего в двух метрах
бежит полотенце реки
У самых корней валерьяны
прошёл, задевая крота,
Володя — безумный разносчик
моркови и молока
* * *
Деревянным маслом намащёный
в одеяле лёжа из сукна
В город «Хвост» приехал накануне
Безутешно в город заболел
Льёт зелёный дождь по краю досок
Примус остановленный молчит
Полотенце вымазано мазью
Крупный хвощ из баночки торчит
Сосчитав все капли на стекле
вся больная в голубой эссенции
приподнялась в траурном шарфе
розовым коленом опирается…
* * *
Сочиняют исторические драмы, руководствуясь общепринятыми примитивными представлениями о тех временах. Они их вычитали в учебнике истории. Вместо рисунка живой души являются нам слова фальшивые и действия ничтожные.
* * *
В лавке булочной, где розоваты булки
и хлеба́ как грудь вдовы
там, расстёгивая дверь,
как удав на шее у тебя
День велик и так сыра нога
Волчий диск над домом низким
До чего приятно иногда
быть в любимцах у ручной модистки
Каждым утром отправляет ты
покупать еду в зелёном зале
Так же как приятно иногда
слышать запах лаковых роялей
* * *
печник усталый полудённый
тащи́тся с ломом на плече
его могущество в штанах
оно сидит там и смеётся
Интеллигент седой ступнёй
на кухню бегает без права
изборождён огромной головой
он у кухарки пищи не получит
Сидит в кальсонах он и применяет мазь
Ему открылась бездна скотской силы
и смотрит с восхищением дивясь
как конь в окне добился у кобылы
* * *
Отёчные лиловые дорожки
Центральным парком выпущенный свет
Встречаешь на предутренней террасе
огромный стол, блистающий буфет
и музыканты в собственных наколках
несут на блюдах гвозди, молотки
и белые чудесные бараны
толпой подходят, чешут о столбы
Я сбрую помню, капельки сиянья
разлитого кругом и топот, и рога
и что приехавшая в той коляске шумной
искала вечера и на губе губа
Подземный гул небесного заката
и трое скатертей в шипящем зале
Варили нам конину на прощанье
водой из газа поливали нас
* * *
На стене печальной
к дому припечённой
жил замок мятежный
в шерсти из железа
По огромной силе
рук его лавровых
масло выливалось
жидким тестом чувства
* * *
Под диким небом северного царства
раз Валентин увидел пароход
он набирал скорее пассажиров
чтобы везти их мутною водой
Рекламная поездка обещала
кусты, сараи, старые дрова
Полжителей речного побережья
выращивают сорную трава
Другая половина разбирает
на доски ящики
А незначительная часть
утопленников в лодках собирает,
чтобы не дать умчаться и пропасть
И Валентин поехал облизавшись
от кухни запахи большой стряпни
там что-нибудь варилось одиноко
какое блюдо — мыслили они
Морковь заброшена, багром её мешают
и куча кровяных больших костей
и тут сигналом крика собирают
на пароходе нескольких гостей
И раздают им кружки с чёрным соком
дымящеюся жижею такой
А пароход скользит по речке боком
минуя примечательных людей
На огородах вызрела капуста
угрюмо дыбятся головки буряка
Большое кислое раскидистое древо
вот важно проплывает у борта
С гвоздями в ртах с пила́ми за плечами
огромной массой ящиков заня́ты
ещё не со́всем зрелые ребята
стучат и бьют, обведены прыщами
У них запухли лица медовы́е
и потянулся лугом свежий лук
и бурые строения глухие
на Валентина выглянули вдруг
На пароходе закрывались двери
Помощник капитана взял мешок,
надел его на выгнутые плечи,
издал короткий маленький смешок
Ворочаются смуглые лебёдки
канаты тащат, чёрные тюки
А с берега без слова, без движенья
им падают вечерние огни
И повернули и в рязанской каше
пошли назад, стучало колесо,
и вспомнил Валентин, что это даже
обычный рейс, и больше ничего…
Теперь другие пароход крутили
и появился некто так высок
Когда стоял, то голова скользила
по берегу, где света поясок
Столкнувшись с Валентином, испугался
пузатый маленький и старый пассажир
заплакал он и в угол весь прижался
А Валентин рукою проводил
Когда сошёл по лестнице мохнатой
на пароходе вновь пылал костёр
морковь тащили красные ребята
и ветер наметал на кухню сор…
* * *
Я люблю живот у добрых женщин
чистых мылом, крашеных водой
а у молодых у нервных женщин
прыгает он, гибкий и живой
Смертный, как учитель музыкальный
нашей чистой школы проводник
я люблю богатых ног ознобы
синей ночью в каменном мешке
На кровать таинственного мужа
лёгшая прохладною спиной
милая собака молодая
жаркая кобыла ты моя
Пасть твоя раскрыта, как ботинок
в тесноте там обитает бог
Сласть твоя зажата под щекою
каждый раз ты мне её отдашь
Летний день
Тихо болтались в стареньком доме
три занавески
бабушка вышла в глупом забвенье
с богом меняясь
Там у ней, где полянка с мышами
жёлтые внуки
В честном труде собирали пшеницу,
радуясь солнцу
Бабушки жёсткой руки скрипели
трава вырастала
Внуки сидели в столовой, затихнув
отец возвратился
каша болталась в белых тарелках
пела, сияла
и от варенья круги разрастались
щёки краснели
мух толстозадых густое гуденье
и длинные списки
что ещё нужно сделать до вечера
летней прохлады
Лампа зажжённая
вся раскачалась над полом
Бабушка ходит с слепым фонарём, собирая
красных детей, что запрятались в лунном парке
белые скинув матроски, чтоб не было видно
* * *
Старый набор синих графинов
Всё, что случилось оставить умершему в марте
Служащий поздних глухих подвалов управы
Где управляли делами каких-то заводов
В тёмной квартире единый наследник — пыли
серые пыли, гуляющие беспечно
Где захотят, там и лягут, куда угодно
Окна задёрнуты тёмной тяжёлой тканью
Синих графинов набор глядит из буфета
Летний костюм габардина висит на дверце
А у него была тонкая синяя шея
Смертному праздник бывал в магазинах с едою
Там он глядел, восторгаясь на снеди, напитки
О эти сладкие старые пытки!
* * *
Огромное хорошее лицо
и тонкая ненужная нога
Позор зелёных листьев до утра
страдает и желтеет надо мной
Скорей бы я покинул этот парк,
где мальчик молча писает в фонтан,
Всегда его две пары жирных ног
и выпяченный бронзовый живот
По вольной воле зверев и листов
По лавочкам, бегущим вдоль садов
коричневая наступает муть
огромная от бога есть слеза
Заброшенная женщина идёт
шагами, сердцем мнёт свои перчатки
В пальто её большой живот
весь обнимают трепетные складки
Я робко вызываюсь отвести
её домой, держа её под руку
в канал, в канал летит листва
и ветки, что размерами поменьше
* * *
Большими ручками в черниле,
сжимая папу на заре,
две светлых дочки проводили
в поход кромешный в сентябре
По разным боковым вокзалам
метается их папа счас,
они в пижамах дальше спят
а воздух комнаты, как яд
* * *
На белом свету полуголая мушка дрожит
какой удивительный день благородный
по крайней по мере оттенков протяжный лимон
от солнца нам падает прямо на прежний балкон
Цветущая ветвь винограда — не надо
так сонно свисать со стены
сегодня мы вечером выйдем сорвём и желудку подарим
твою красоту с облаков
Поделишь ты стол с ветчиной дорогою подругой
с вином измышлений и ядом от страха,
что женщина — зверь в полуголой накидке
плодами кидаясь, в твой сад от меня убежит
* * *
Водила меня по полям эта странная злоба тупая
Я горько бежал и я мучился рядом
Но вдруг мне когда-то в кустах оголённых
явилось явленье моей неосознанной жизни
Я понял, что бегать не нужно, тишайшая мудрость
за стол мой уселась и мясо дала мне коровье
Мне их непризнанье совсем не обидно нисколько,
ведь я знал наверно что это всё жалкие люди…
* * *
Начинаю со всяческой риторики, хотя в начале, конечно же, необходимо представить себе, о чём собираюсь писать. И от какого лица: от своего или же от автора, не вмешиваясь. Сказывается большой пропуск в сочинительстве, чего не воротишь. Интересно, какие же стихи были у Альфреда Жарри? Что-то часто появились в моих вещах все эти витают, проплывают, идёт, лежит, их, все, всё и т.д. Не говорит ли это о том, что уже у меня появился свой излюбленный набор штампов, и уже их надо выбросить, т.е. надо начать всё сначала, вернуться к своему воображению, заставить его всё себе представить, как это в природе — закрывая глаза и писать, забывши те самые законы, что для себя открыл с таким трудом.
Вижу я, что написать первые стихи совсем этого мало. Это может быть и случайной удачей. А вот написать вторые труднее — надо преодолеть первые и так, очевидно, без конца. Останется тот, кто выдержит до конца весь путь. Но как трудно писать — будучи уверен, что все поэты и все художники в сущности шифровальщики, если не шарлатаны, они зашифровывают простое, превращают его в непонятное сложное, а уж красивое или нет, то нельзя этого сказать. Всякий знает, что, будучи смертным, бессмысленно что-либо делать. Какие стихи, когда не знаешь, будет ли мир существовать ещё десять лет. Бог его знает, вроде, он будет существовать. Но в любом случае — поэтическая слава недолговечна. И если даже в лучшем случае несколько поколений читателей, весьма небольшое их количество, сочтут тебя забавным, то много ли это. Сколько было разнообразных имён и сколько их есть ещё. Поэзия только средство жить, а не что иное. И чуть больше тщеславия, чем у других. Всегда находятся пылкие люди, готовые последовать примеру Ван-Гогов и Хлебниковых. Даже если заранее таковы виды.
Но что это я вместо того, чтоб пытаться писать стихи, занялся банальными рассуждениями. Давно всё решено, давно известно. Сиди да копайся понемножку в своих бумагах.
* * *
Картинки маленьких кусочков
Лужок пространный и пустой
А за кустом лежит на солнце
пастух с роскошной головой
Две пары низеньких овец
зубами дёргают траву роскошную
Вблизи текающий ручей
шумит работой своей спешною
Растение «пли-плип» шумит
листвой тяжёлой своей коркою
Собака складная бежит
из-за кустов с перегородкою
* * *
Привянет свечкин парафин
и кожа юноши потухнет
и блуза белая вздохнёт
трёхстами складок и загадок
и с длинной шеей на плечо
другая голова склонится
и закричит в своём углу
из клетки шуточная птица
Вздохнёт ячмень в своём окне
Три раза всколыхнётся просо
и яблоко на том столе
другим куском перевернётся
* * *
У мелких сизых сыновей
расширенных голов сверкает темя
Шары песочные кружит
на месте серых пляжа время
подходит лодочная тень
и голова определяет
какой сегодня день
над этой личностью летает
но зарослей приятна лень
и лодка в них изнемогает
* * *
Вот в расчёте возраста мельничных колёс
стук изнемогающий хладный день принёс
Всё уже развеяно… сырость залегла
Утюги чугунные спят вокруг стола…
Девушка помощница уж уходит в пять
и ложится сразу же, по рассказам, спать
А наутро в комнате на окне вода
от забытой лужицы примет форму льда
Манекены старые содержат в зубах
платья полуженские, жир мужских рубах
А табличка падает, падает рука
жил пошив извилистый в дебрях городка
* * *
Лёгкий ветер воду водит
пред собою гонит вкось
на углу у самой речки
лезут заросли к воде
на большой ступне бродяги
окунутой до средины
десять каплей этой влаги
и укус зубов звериных
Ветви дерева большого
жирные над тем висят
листья шлёпали в ладони,
когда ветер приходил
* * *
Нагрело солнце Ваньку и Петра
Оно свершило путешествие по полю
и добралось пешком аж до куста
где на траве щекой лёг Коля
Потом оно, пошевелив лучом,
пошло по всяким листикам картошки
к реке, что в километре возлежит
и по дороге на песок взбежало
А в это время дом стоял в тени
Захлопнуты все щели были
На кухне лук в печи пекли
и искажённое дитя бродило…
Висит фуражка на углу двери
Солдат военный в зеркало всмотрелся
Увидел прыщ и выдавил его
Прыщ с характерным шумом разлетелся
Спешит невеста из комнаты второй
Выныривает, отодвигая тряпку
и платье белое, эмалированный бидон
в котором принесла немного квасу
Горящий уголь лезет из трубы
и на соседней улице ложится
Солдат, оторванный от своего лица,
к невесте прикасается руками
На одеяле пара их сидит
Солдат, краснея, расстегнул ей платье
а чаша грудь как вывалится вдруг
огромная и белая мясная
Безумность проявляется в руках
Солдат ей грудь сжимает, как резину
она его пытаясь оттолкнуть,
легла спиной на мягкую перину
Все вишни водят запахами вбок
Начало дня… И майская погода
По улице идёт печальный Пётр
И Ванька возвращается на место…
С тоской глядит проезжий на возу
Старик нездешней местности суровый
А насекомые поют внизу
помногу начиная песню снова
* * *
Сколько древних старых длинных пилорам
стружек розоватых на сырой земле
Сколько дисков светлых крутится в ночи
Здание ночное, дряхнут кирпичи
И от водной струи, бьющей в колесо,
Раздаются звуки, шлёпанья и стон
и от росших рядом многих тополей
тень чудовищ бродит по траве всегда
* * *
то о многом, то лишь о себе
ты жила, жила и говорила
белая бумага в чёрный сад
через много зданий улетела
По прошествии зимы большой
под мостом река пошла
И фотограф снял на берегу
девочку в сиреневых чулках
А за ней фотограф нарядил
В плащ обширный куст зелёный
и заснял его издалёка
как фигуру старика
* * *
Восемнадцать тысяч болей
опрокинулись на школу
Солнце смежное с рекою
листья ставит на дорогу
Круглый маленький ребёнок
синяя рубашка мамы
Рук больших окорока
в одиночестве в тумане
Мутный бык на солнечной поляне
заедает головой куста
Чёрный день свой ёлка обнаружа,
бьёт её кусками живота
Кто здесь люди. Кто гуляет в поле
кто прилёг в отеческий пиджак
Чьи же груди, распахнув бюстгальтер,
подставляют, малые отцу
на тепле, на листьях мятных бледных
вот нога нагая протянулась
и дрожит душа, когда два тела
ударяются с огромным звуком…
И пора из леса уходить
под сосновыми песочными лугами
и пора без головы домой
с серыми мешками через плечи
Как так греет, как тончаша тень
На песке иголку, шишки, стулья
и лежишь, в твоём пупке песок
чёрные и рыжие песчинки
А её пупок здоров и кругл
впадина, как ямина ночная
волосами жёлтыми оброс
кожа живота как душевая
Жар и пар валит и между ног
запах древний необыкновенный
молока густого и мочи
пота и могучего здоровья…
* * *
Только дети так ноги сдвигают
Только дети так плачут и вниз
дети только руками спадают
волочатся кричат пощади
Полотна только шелест и юбки
отдираю стремительно вбок
Только Ольга так может кусаться
защищать свой священный кусок
Жениху его хочешь мальчишке
с освящённым лучами рукам
Так в овраге бормочет бродяга
девке рот зажимая, свалив
* * *
В том дворе камни сырые
В том числе камни крыльца
Также арки камни висящие
далеко в глубине дерев
Волокушу ли тащит рабочий
загребая листы меж зубцов
Когда вывернет ящик на землю
много будет гнилья, сатаны
Много будет мокриц кривоногих
длинных мягких зловонных жуков
Отвратительных ящериц сгнивших
и выплю́нутых лю́дских зубов
Организмы в траве оставляли
кто есть спичку, кто вату, кто ноготь
Из ушей жёлтый мокрый поток
и кровавый чего-то клочок
* * *
Сколько жил сколько мало кушал
Череп древний носил с собой
На мосту в час полувечерний
так белел его плащ меловой
У стоячего много карманов
А какие всё воды текли
мостик маленький деревянный
недоделанной узкой реки
А какие рабочие жили
и баграми ловили бревно
и детей как щенят народили
их напарницы всё равно…
* * *
Я знаю край… В нём бегает вода
от умывальника к сырому тазу
там не бывает криков никогда
там тёмный день, как смертная досада
В волнении на розовом диване
на белой на подушке кружевной
там голова молочная крутится
бормочет, брызжет вяленой слюной
* * *
Отвлекись от смутной группы силуэтов
что виднеются на самом крае парка
Там есть женщины и белые их платья
будто плавают в тумане нехорошем
Все деревья и кусты обняла сырость
что там делает та группа у забора
Почему там крики, столкновенья
Выкида́ются из кучи длинны руки
Отвлекись от дел каких-то силуэтов
и по парку в освещённо место выдь
там у тира торопление и звуки
хлопы выстрелов в бутылки на стене
Ну а всё же, чем заня́ты силуэты
Эти женщины и те, кто с ними
Ты уходишь, и безумное вниманье
к тому месту шаг твой направляет
Топотятся там кусты, звенит музы́ка
никого уже там нет, пустое место
лишь бумага, носовой платок заброшен
на кусте лежит и светится неярко
* * *
Природа свищет птицами своими
В лесу проходит преогромный бык
Перед засу́хой дождь происходил
И на мосту прохожий уходил
На память Николаю шла досада
Он вспоминает чёрное пальто
мелькнувшее среди деревьев стада
и больше не было никто…
* * *
Главный старый камень мокрый
Вид корявый у обрыва вдаль
О песчаник слойный и травинки
Тело жёлтое обрыва как больной
В жёсткой шубке на плечах кусочки хвои
С огородов забрела впотьмах
проплывают берега канавы
на меня легла большая тень…
* * *
Дождь перед закатом
вдруг в лесу пошёл
медленная сырость
стала прибывать
Дерева пустые по своим ветвям
грусть распространяют
Давят сердце нам
от тёмного свету
от холодной влажности
нет нигде уходу
спрятки нет в надёжности
Даже чрез окошки
в стареньком дому
слышен шум убийственный
жить теперь к чему

Девятая тетрадь
* * *
В раннем дыме лета задыхаясь,
я сижу себе под потолком
тёмным и горячим, размягчённым
и, как муха, по́ю на окно
Мне сегодня очень жаль работать
шить штанов неимоверный холст
Моих пальцев кончики натёрты
хочется пойти и погулять
Вся мне жизнь испорчена работой
за тяжёлым низким утюгом
Грани ножниц сделали мозоли
Всё это совсем нехорошо
Был я в городе другом, весёлом
Брызжел крайней юностью своей
На́ всех лавках я сидел, томился
под широкополою листвой
Привело меня сюда зачем-то
сухость и довольно жаркий рот
Уж неделю в дверь не выходил я
надо будет отнести заказ…
* * *
В воскресенье лист капусты чайной
на чёрном блюде единственный лежал
Голубое небо, всё в прожилках
вызывало смутную боязнь
Ножницы в моих руках стояли
Я открыл белёсый серый рот
Я увидел, что моя иголка
никуда сегодня не ползёт
И не заработаю я денег
и я не удовлетворю желудок свой
поместить туда бы чёрных ка́мней
иль песком его бы натолкать
Он меня стегает, понукает
Он — желудок — держит от природы на замке
и кроить, и гладить заставляет
и сидеть уныло на окне
* * *
тот несёт с собою свёрток в шерсти
тот комок белья несёт, зажавши под рукою
В городе Москва сегодня к вечеру
около пяти часов моргает небо
Тот, кто наблюдает затенёно
жизнь из неоткрытого окна,
кашляет и замечает капли
фыркает и пищу достаёт
А по всей земле уж стало дико
холодно между ветвей дерев
Никого не видно у колодца
Никого не слышно за леском…
Павл Иваныч вышел из Кузьминок
по дороге в Дятлово спешит
и Луна ему дорогу светит
ветер его волосы дели́т
Павл Иваныч пыль вздымает
холодно его рукам становится
Пальцы он в карманы запускает
он идёт, идёт и остановится
Тень его пересечёт канаву
и руками вдруг всплеснёт
что же я, ведь надо мне направо
пропустил я нужный поворот
Павл Иваныч в Дятлово не сходит
Попадёт он в хутор Ручьевой
Там ему навстречу дед выходит
с белою большою головой
Ночевать зовут его остаться
и постелят в комнате в углу
будет он без сна валяться
на спасённых тряпках на полу
Утром он, собравши свои силы,
станет снова Дятлово искать
люди ему будут попадаться
на него начнут они кивать
Павл Иваныч побежит до речки
и пойдёт по мокрому песку
может, так вот в Дятлово приду я
согласно шуму тростнику
И, конечно, он приедет к до́мам
к серым брёвнам наклонились крыши
колья выпустили зелень из себя
и свисает вывеска Кузьминки…
Той порою школьник Аристарх
сломленный московскою горячкой
потерял свой адрес, где живёт
В магазинах ходит он, мелькает
Его тело жмут кусты людей
говорят про то, что на витринах
видит он томлёные сыры
бочек всяческих нагроможденья
и глухие красные дворы
все уставлены, идёт он в разветвленья
Разветвленья входят в переход
Переход его выносит к тканям
Ткани длинно медленно висят
шевелят висящими краями
Школьник Аристарх обезуме́л
от консервных банок он бросается
но его встречают зеркала
в зеркалах он мокрый извивается
как длинна пахучая рука
заросла она цветами
Замечает полу пиджака
поведёт он душными плечами
В милый Энск скорее бы дойти
или же в квартиру тёти Жанны
На его нерадостном пути
белыми слонами стали стены
* * *
Едва я приеду на месяц иль два
в давнишнюю нашу квартиру
В пустой городок, где гуляет судьба
и листья ложатся на лавки
Там разный бином изучает студент
и школьник пьёт воду из кружки
Рабочий в рубашке идёт и поёт
и длинны, и узки окошки
Там тонкая речка едва шевелит
волною зелёной о камни
и там лесопилка ужасно свистит
и стружки у берега стали
По левой пустой стороне у моста
колючие стали цветочки
По правой бредёт молодая коза,
глаза колыхая на солнце
Там воры прошли, чемодан пронесли
довольные целой капеллой
Там Светка ушла с инженером в кусты
купаются… белое тело…
На нашей газете лежит колбаса
и водка, и травка валяется
и сыростью тянет от речки густой
моя жизнь пока продолжается
* * *
Когда ловилась рыбка на крючок,
то бурная вода чуть дёргалась
Внимание сказал себе Семён
и приподнялся, чтобы не сорвалась
Он был реки простором завлечён
на руки падал свет небес лиловый
До плеч шла безрукавка у него
стара и по-привычному приятна
Такие ж брюки облегли его
одежда давних дней любима
По берегу едва ли кто бродил
а если и бродил, то мимо…
Спокойных дней своих тянул теперь
Питался рыбой, раздвигал растенья
и даже он почти забыл
как выглядят людские поселенья…
* * *
я помню звук пахучий
растений разноцветных
и тень медведей близких
на голубом песке
Детей пришла здесь шайка
стоят они… лужайка
на них глядит лицом
и пахнет мокрым сном
* * *
Афиногенов в дровяной сарай
Он тропку положил бурьян прилёг
Там в свете отодвинутых дверей
стоит им сделанный буфет
Его он нынче шкурой зачищает
А завтра будет лаком покрывать
А тучи телеса свои сдвигают
чтоб вместе долгий дождь образовать
И дождь тот затопит тогда Россию
Афиногенова, его буфет
все лавочки, пивные, мастерские
как будто их и не было, и нет…
* * *
по дачной дороге на трёх лисапетах
сопливые дети летят
глумливые дети, крикливые дети
Алёшка, Свеколка и Клим
На небе большая-большая тревога
и взрослым она отдалась
они побежали, они закричали
в подушках лежат, заслонясь
По пыльной дороге, визжа и ругаясь
Катя́т три ребёнка во тьму
Не могут, не могут они зацепиться
домой повернуть им нельзя никому
Алёшка, Свеколка, а Клим босоногий
Такие громадные едут глаза
по дачной дороге звонки сумасшедших
и белые тени в сосновом лесу…
* * *
На корове бешеной
ехал поутру
старый дурень Митенька
видели вчера
А куда ты, Митенька, захватив рога?
Еду я в Арбузия — есть там петуха!
* * *
Лесного края сам Фурман поселенец
внутри стоял с ружьём наперевес
Родился у него вчера младенец
и криком был переполошен лес
К нему пришли медведи и китаи
На Фурман откорми скорей младенца
А он стоял, большой и несгибаем
и он не брал гостинцев
* * *
Здесь солдаты медную капусту
заводили в чёрных сапогах
и стоял один, одевши вилы,
молотил и в бочку осыпал
командир кричал свою команду
и крутилось сверху колесо
и перемещало всю чёрную бригаду
а капуста ноги заливала косо
А по праздникам у мо́ста сети
были натянуты канатами
Там ловили жители елецкие
всех своих утопленников в брючках
Помидоры были над солдатами
Яйца выведенные в сараевой глуши
Девушки кудрявые и пахнущие
веткою садовою и сливою в свече
На стенах варёной цвет говядины
Видны даты прошлых всех солдат
и над городом Ельцом струился сладкий
от растениев и живших аромат
И одна одна большая проволока
день и ночь звенела на ветру
и ходили непонятные солдаты
по пыли в пилотках без имён
Коль окликнут командиры этих,
то они молчат и завернут
и по завёрнутому по переулку
вдоль заборов медленно идут
* * *
Был отец его радиотехник
молодой солдат кино крутил
А потом он стал политработник
постарел, погоны получил
Малый чин всего лишь капитаном
и сидит в своей квартире он
телевизор смотрит постоянно
мыслями своими нагружён
Был красивый, нынче лысый, лысый
умный, грустный, маленький такой
Господи, как быстро у людей ты
забираешь возраст медовой
Так сидят по всему белу свету
ожидают своего конца
люди около пятидесяти лет
все, включая моего отца
Буду я работать очень много
Рано подниматься буду я,
чтоб иная мне была дорога
я хочу иначе помереть
Ну, а в общем, я с отцом похожий
Я почти что с ним одно
День хороший, медленный, погожий
свет идёт в раскрытое окно…
* * *
Днём египетским маловарёным
он по низенькой местности шёл
Чахлый лес засмеялся и спрятал
часть улыбки и ужаса клок
В необъятном овраге лягушки
закричали, завыли на солнце
и ходил напряжённый мальчишка
и на прут их стальной натыкал
Этот мальчик в резиновых ботах
пересёк берега светлой лужи
И ушёл по земле сыроватой,
трупы с кровью оставив вонять
Когда он выбирался наверх,
то глины просыпал обвалы
Несколько серых дерев
собою слегка покачало…
* * *
Лёгкие чёрные девочки весной
пухлые, вылезающие из передников,
проводили взглядом меня, который
гуляет по лесу низкому
Я нагрет чёрным пиджаком и солнцем
А они стегают лягушек в болотце
При этом их груди колышутся
особенно у одной это видно
Сколько шума от неё, как посматривает
конец апреля схватил её тело
На заднем плане бежит паровоз
возле облаков протащив вагоны
Много мостиков, ручейков, ступенек
берёз без листьев, иногда луж
прелая прошлогодняя трава
схватила в объятья городскую бумагу…
Эта девочка особенно громко кричит
Её шары скрыты под формой
Голубое пальто она сняла
Кинула на сухое жёлтое место
* * *
Лёгкий лес, ты в памяти летаешь
низко гнёшь ты перия свои
ты Иван Иваныча смущаешь
Помнит вышел солнце собирать
Зимних он лишился одеяний
можно бы сказать, что был он налегке
Ветер налетал на его щёки
Раздвигал он кустики плечом
Пару видел он лежащую во мраке
на сырой, ещё не убранной земле
Пара была с круглыми глазами
только что любовь свою прервать
И рука тяжёлая мужчины низенького
курского худого мужичка
женщине лежала на ноге
белая нога светилась очень
* * *
Вы в Тулу поехали ночью
И стул вы покинули свой
Зачем эта тёмная Тула
вам ночью нужна и близка
Вы встретили там Кудряшова
Большой молодой человек
Жена его бросила нынче
Цыганская свадьба в пути
Большие их дети играют
на их небольших инструментах
А малые дети их пляшут
в цветных сапогах и лентах
Вы выпили лишнего много
Зовёте цыганов к себе
Платком начиная махаться
танцуете Вы хорошо
Толпа собирается… дождик
лишь он разгоняет цыган и прохожих
А Вы остаётесь один
сидеть на крыльце в магазин
* * *
Вот вызывает ветер измененья
Во всей картине некоторые сдвиги
В пейзаже по листве идёт движенье
Захлопнуто оконце древней книги
У старого Мирона вздуло
Волос останки подняло наверх
У молодой и босиком идущей
платок и смех…
* * *
Вот золотой молодой магазин
Жёсткою жизнью наполнено всё
Вправо взгляни, сколько толпы
Руки мелькают, живот иль плечо…
Фунтиков воздухом раньше дышал
Господи, он ниоткуда возьмись
из-под деревни Большие Дубки
ну деревенщина, пошевелись
Те, что застыли, сказали улыбкам
Это страшно — в незнакомых домах ночевать
Это голод у комнаты низшей в когтях
год, два иль три…
На подсолнечных плантациях жёлтых семечек
в дедовском тонком худом брыле
одетый в собственные ноги и кожу
как пешеход в последнем путе
был жив и питался с плантаций
и всегда пах хорошей травой
склонив лица над этой равниной,
ты целуй её в пах
Как едят черепах
Раньше я жил в Харькове
А теперь я живу в Москве
Я ещё раньше был я был у матери в чреве
Мне чрезвычайно стыдно, что я родился
обыкновенным способом — из живота
Это постоянно меня смущает
Моя мать и мой отец
однажды ночью…
мне бы хотелось, чтоб всё происходило чище
Например, так:
меня нашли в дюнах у моря
в эдаких заросших едва сухим кустарником
У моря, понимаете, меня нашли
А где я был до этого, покрыто мраком…
Ну и вот… Я, конечно, совершенно чист
никаких запахов мочи, ничего такого
Лежу, выкатил глазки
на розовой, нет, синей фланели
Взяли, подняли, отогрели
Никогда не знаешь, кто отец и мать
и какое у них стыдное тело
Ни в бане их не видел, ни никогда
ни случайно, ни ненароком
Никакого стыда, всё ярко и просто
Я сын из воздуха,
а та, в кого семя лилось…
Ах её никогда не было
Да и не было семени… вот…
Река протекает… весна
небольшое половодье
Через мостик нужно ходить по перилам
С белой бородою один
и другой без, оба в брезенте
ловят брёвна
Данные это речники
Резиновые на них длинны сапоги
не сходит с их уст бревно,
дерево и дружеские слова
Рядом с ними склонившаяся избушка
Но и этот образ давно позади
В мокрых губах и с зонтиком впереди
с чемоданом фибровым,
если откроешь отделения,
обнаружишь на одну полку
ставится борщ завинченный
на третью хлеб
отделение для вторых блюд
для протёртой желудочной котлетки
таков учитель Николай Алексеич
по кличке Лапоть
Ботаника и зоология — его отделы…
А по жизни сделав беглый пробег,
успокоив клеточную систему
вокруг самых значительных пустяков
спишь и тревожишь раны…
Рано утром в апреле
встав с полу, где лежал и спал,
я иду в недалёкий отсюда лес
около двадцати минут
И ещё по лесу пройдя
около двадцати минут
я раздеваюсь, ложусь на траву
и солнце меня целует
Позже я разжигаю костёр
и сижу и греюсь возле
Какая-то семья рядом ест
и пьёт лимонад, она состоит
из двух ребят, жены и мужчины
Трава мокра, здесь недавно прошёл дождь
очень спешат дни
уже два месяца я живу
у человека, который зовётся Андрей Лозин
Это он привёл меня и показал
Здесь он рисует свою натуру
Деревья рисует и прочее возле них
Мне грустно оттого, что я почти не пишу
Мне всё время боязно, что не сумею
сделать такое, как я писал
Году, например, в шестьдесят седьмом
Я очень боюсь, презираю себя
и всё же не могу за работу взяться
Но, Боже, как жизнь хороша
у неё отнимать куски!
Невдалеке поезда идут
в самые разные места
в города Александровск, Энск, Воскресенск
Пустошь, Жгут и Верёвка
в город Лось, в город Одеколон
И очень многие в город Конск
А если в деревни они идут
так тут и вовсе названий, названий
Песчаное, Дикое, деревня Гвозди,
Чёрное, Глушь, Рязани…
В город Пустошь сегодня под вечер
на деревянный настил сошёл
с чемоданом старым и облезлым
Переворочаев, с тёмной губой
Этот горбатик жилец института
и холостой, и костюм из сукна
потные брюки внизу запылились
его тут вся жизнь пройти должна
И он поспешает под вечер
с последним лучом квартиру найти
стучится на улице крайней в калитку
и просит, нельзя ли у них пожити
Вёдра с водой на дороге из кухни
хозяйка в платке и больших сапогах
От слёз у ребёнка щёки опухли
* * *
Есть в Ярославской области
деревня
Я знаю, жизнь прожив мою,
мне в ней не побывать
мне никогда не смочь
в этой деревне у пруда
схватить крестьянскую дочь
* * *
В одной котловине на свете
сидят на земле пять домов
Большие и старые ели
вокруг непрестанно цветут
И тут пять семей обитают
и ходят к ручью меж корней
и в ту котловину не может
никто попадать из людей
не могут и жители эти
от древних домов убегать
друг с другом женя́тся и дети
из них вытекают опять
Давно, уже лет пятьдесят так
проход завалило камнём
Другого же нет и не будет
и ели шумят с каждым днём
* * *
Во сколько вечера прийти
Во сколько можешь, приходи ты
Десятый день текут дожди
на городские плиты
Давно у инженера Саши
закончились продукты для еды
он ждать на помощь больше не решался
И лишь стонал и гладил он себя…
* * *
Летом, как грива, летает лес
Краями своими над обрывом
Ветреным вечером видит Луна
Пело у леса менялось
С самого верху кто-то кричит
с незабываемым звуком
Горестный камень книзу летит
долго потом всё молчало…
К белой горе велосипед
вдруг подбегает утром
Девушку кто-то привёз сюда
Близкое платье навстречу
с новым порывом в деревне скрипел
старый колодец на свете
с резким порывом о чём-то своём
Кратко смеялися дети…
* * *
В отдельном случае из комнаты прихожей
две двери открываются и там
ещё большие комнаты глухие
без света и в пыли в половиках
Лишь только проникает в тонкой щели
как ножик, острый луч и падает на стол
и видишь, будто бы недавно как поели
А если пристальней, так год уже прошёл
Куски от хлеба в крошки разлетятся,
Лишь палец их потрогает мизинец
И миски супа высохли на чашках
и мясо сгнило, в каше шевелясь
и из компотной кружки торопясь
скользнёт паук от косточки от фрукта
он ел лохмотья маленький клочок
ещё оставшийся ему немного
Нога положит след на пыль ковра,
и ты назад пойдёшь, а в левой кухне
ты не увидишь, кроме ничего
сухого табурета с красной спинкой
Тогда поверишь, что семья ушла,
не забирая никаких пожитков
куда-то неожиданно ушла
а дом закрыла и
* * *
Сейчас летом на большой улице
В клеточной рубашке, в обтянутых брюках
молодой с коричневой кожей
с развевающимся волосом идёт Алёша
Дома высотою в девять этажей
а то и более его окружают
Различные люди потоком своим
его в свою сторону увлекают
Некоторые массы людей вверх,
некоторые вливаются в рты магазинам
происходит купля, выбор, отсчёт,
много денежных операций,
завёрток, покупок…
От Алеши направо купили ткань,
от Алеши налево шумит дерево,
проходящий ветер нагрет людьми
В зеркале Алёшино лицо проскочило…
Троллейбус по своим верёвкам прошёл,
под ногами протащили собаку кудлатку
два мужчины пронесли в руке
по большому и белому чемодану
слышно, что уговаривают впереди
свернуть в переулок и там купить муки
Алёша перепуган, его теснит к стене
группа в тёмных костюмах
Ерошкин гуляет по городу он
и вместе с ним Женя Рубашкин
Носкову встречают они на пути
Студенты все трое, все трое
Их был разговор таков
Сегодня мы вечером выучим книгу
Давайте пойдёмте попьёмте винов
и по́ два рубля сдавали
Их горло стояло уже сухим
Алёшу от них оттащило
И он у толпы был прижат до грудей
и тонкой женщины и милой
Ему неудобно, а ей смешно
Он всё же молоденький мальчик
Нарочно она выставляет ему
большие свои полушарья
Алёшины мысли — скорей отойти
А сзади его тоже давит
Он смотрит, а это старухин живот
большой его в зад подвигает
Ему стало просто стоять нельзя
старухино платье противно
засалено очень оно у ней
живот он, наверное, грязный
и тут он увидел её и ногу
в зелёной затоптанной туфле
и старый чулок отправлялся наверх
под платьем ужасным скрывался
Ах тело там, верно, совсем как кусок
большого и грязного мяса
Ещё воняет мне прямо в плечо
и тут он руками задвигал
И выбрался сразу на сторону он
и более быстро ступает
так сейчас летом на улице большой
Алёша перебирается…
* * *
В том моя большая ошибка,
что я не сошил себе шляпы
с большими полями чёрной
в этом я буду повинен…
что я не купил себе сумки
и не пошёл в пески я,
которые обрамляют
края нашей серой речки
Мне было возможно использовать
старый сарай для жизни,
но я не забил двери,
не стал я в дыру лазить
И долго я буду терзаться
всей моей жизни остатки,
что на песке сидя
я не варил лягушек
не ел я из них похлёбки
а шляпа моя не дрожала
под ветром сырым слабо…
* * *
Сосед какой-то Анатолий
к себе жильца он поместил
Из города приехав утром,
он к вечеру уж загрустил
Когда зажгли на кухне лампу
и стали борщ хлебать при слабом свете
он почему-то попросился спать
ушёл, белея старою рубашкой,
А мы ещё на краешках крыльца сидели,
а он не выходил до разговора,
а утром в лес пошёл он одинокий
и дождь потёк, когда он был в лесу
Дрова сырые его взгляд встречают,
когда он из окошка поглядит
он смотрит, по двору три курицы гуляют
и его тело мелко так знобит
он не куря берёт немного табаку
и начинает погружаться в думу
и неприятно в голове ему
и тошность подступает — вниз по горлу
он сплёвывает слизь, выходит в сад
зелёное он яблоко срывает
и кислое жуёт, а в это время сад
немножко мокрый, солнце озаряет
Но вот оно ушло за край зелёных туч
и там оно пятно серебряное
А тот жилец снимает с глаз слезу
его немного при ходьбе мотает
А вот вчера мне Анатолий дал дневник
Его рукой там многое написано
* * *
В учебном заведении училось
едва ли десять или шесть ребят
В тёмном строении их шепталось
или путалось ходилось вперёд и назад
В классе один занимались утром
в классе четыре учились молчать
в классе шесть проводили ночи
медленно кушали в классе пять
Учебное заведение содержало
трёх необычных учителей
Группа их по утрам приходила
и проводила между детей
Учителя с ними рядом лежали
в латунных очках и с бородой
Дети, особенно девочки, дрожали
учителя их кололи щекой
Но той щетины боялись и мальчики
также учительских жёлтых ногтей
В учебном заведении рано темнело
и от стены исчезала тень
В круглое отверстие глядело небо
Дети тихо пели, сбившись в кучку,
Но очень часто бросали петь
и напряжённо пытались смотреть
В тёмные-тёмные кусты баранины
где удалились домой директора́
им казалось, что глаз красноватый затуманенный
будет глядеть на них до утра…
* * *
Вот в когтях завода труб железных
сотни всяких есть людей
они меж частей завода ходят
бегают, пригнувшись головой,
Вот один под крышею стеклянной
Молотком он бьёт, зажав в тиски
он сгинает полосу железа
по его по шее едет пот
Пот потом слезает вниз по гру́ди
куртку он ему поднамочил
вот работник отложил инстру́мент
вытирает лик свой рукавом
Лампы освещают десять действий
Голоса звучат: неси, тащи
Ну, давай подай мне тот кусок вон
выгружай и снова нагружай
Вот в когтях завода семь иль восемь
бьются времени часов больные люди
их железо мощно окружает
и блестит победно вокруг них
Одному сегодня от металла
раскалённой струе́й глаз залило
он не будет видеть вполовину
будет плакать он, когда поймёт
Близ реки ещё в начале века
при царе последнем Николае
вырос сей завод и продолжает
разбухать железным телом вширь
И сюда являются по́утру
бедные пустые человеки
чтоб потом за сгубленные жизни
деньги из бумаги получить…
* * *
В газете «Правда» за число шестое
был напечатан короткий некролог,
что умер Скульский он оповещает
еврей и бывший министр пищевик
Он родился́ в двенадцатом году
Его лицо глядит с портрета глухо
он должности проследовал наверх
меняя их, к министру приближался
Директором он был маслозавода
и жировым огромным комбинатом
успешно одно время управлял
он умер в прошлый вторник, занимаясь
своим обычным делом в кресле мягком
и Лев Израйлич Скульский перешёл
в землю своих неизгладимых предков
А я сегодня есть ещё живой
и целый день ходил я в гости
меня кормили чаем, колбасой
и стапятьюдесятью граммами свинины…
* * *
Общественная туалетная
освещена водяным освещением
Пусто в ней, страшно и тяжело
Зимой прислонишься к трубам отопления
и воняет водой и мочой
и сидит древняя бабка
и в руке у ней тряпка
и мигает очень малый свет
и вдруг как пожалеешь
последние пять лет
как вспомнишь себя молодого разодетого
с деньгами в кармане вечером в сирени,
говорящего среди южных роскошных растений
девушки, у которой глаза в тени
клеточная юбка
милая моя девочка
маленькая моя любка
так и заплачешь сразу же тут
слёзы на пол вонючий текут
поэтовы слёзы, поэтовы слёзы
выйдешь и скрючившись
идёшь по морозу
в своём старом тряпье одет
забудешь события последних пяти лет
* * *
Этот человек назывался Хомяков
он жил в городе
он жил в первом этаже в комнате
его соседи были Зюзин и Гущин
он любил женщин
шестьдесят два года — вот сколько ему
он стоит и чешет живот
впереди врата забвения
они украшены голубым…
* * *
На зелёных холмах много старых досо́к
они сложены в кучки лежат
доски сосновые на концах шипы
и старый рубанок лежит
на зелёных холмах на пространстве в километр
остатки лежат ящиков
и бочек доски также лежат
под тучами и под дождём
поливаемые обручи стали жёлты
на них наросло окисей
из-под досок выползают мокриц
бледные сумеречные тела
Жидким светом светятся мокрицы
а тысяченожки тысячью ног копошат
и быстро-быстро бегут назад
глубже в ямы свои кусать
сыплется деревянная труха
уходят семьи жучков древоедов
и перемещается группа людей
вдоль обрыва холмов в долину
* * *
город один прилежен тебе
город другой не нравится чем-то зелёным
может быть, один этаж его
сделал тебе так больно
нет же, ты помнишь, что тут тебя
ночью близ музыкальной школы
было приятно запах мясных пирожков
и рваного теста клочками
* * *
Светлы пески и далеки они
ногам ходить и дождик падал
в последний чёрный центр стекает он
и по дороге задевает листья
Какой огромный шум
жужжит моё плечо
и моя юность кажется красива
но переломилась зелёная полоса
и лежит на воде спиной умирая
* * *
Петров божился ртом своим, что не умрёт
Я слышал сам, как был ещё мальчишкой
Нет, нет, я не умру, зубами отдерусь
Я не позволю взять моё худое тело…
Петров лежал на стуле, как змея
он извиваньем жизнь свою изображая
махал на смерть, которую видал,
которая счас строила улыбки
Но умер он в квартире номер пять
в своих больших невыразимых белых брюках
движением последним ухватив
себя за долгополую рубашку…
И было грустно от других вещей
которые стояли и лежали
Петрову недоступны и круглы
таинственные тёмные предметы…
* * *
лесной поклонник бог мышей усатых
друг земляники дикой и речной
пришёл сегодня в брюках полосатых
и сел на камень над реки водой
Его сопровождала мысль пустая
шуршала она рядом по траве
Резиновыми ножками шагая
вечерний час над ними повисал
* * *
Я медленно, дорогой скучной
стопу передвигая, чрез пустырь иду
стопа моя мелькает, как маленькая птичка
со стороны взглянуть
Берёзы в пятнах стали по краям
Ждёт паровоз, струится май дощатый
печальный воздух на моей щеке,
как бабочка с пыльцою поселился
Я помню Витю, был черноволос
высок и он носил завидные мне брюки
коричневые, узкие его
служили мне далёким идеалом
Я синие военные носил
отцовские, их не перешивали
он умер Витька Проуторов тот
остался от него аккордеон
от сердца, от болезни умер он
Сегодня вся толпа, подверженная жизни,
открытая для всех влияний,
идёт телами разными по форме
в глаза мои чуть жёлтые вливаясь
Между деревьев, тонких и зелёных,
различная и древняя толпа
шлёт представителей своих
и стройных, и наклонных
в моём глазу немного побывать
Вот пять часов, стучит седая палка
давно уж трижды старая идёт
В смешной большой и загнутой панамке
выпученную голову несёт
Её пальто тащится и влачится
и вольно так катается по ней
Его такое очень раньше шили
а выпуск сумки сорок третий год
А сильной жестикуляцией потрясая
в берете тёмном и в перчатках белых
Наташа чья-то очень уж красива
подросток девочка живая вся смеясь
Её приятели от ней в восторг приходят
она изображает на аллее
ну так смешно знакомый её ходит
За тёмными домами скрылся свет
Я помню те мои, те синие, те брюки,
которые перешивал раз пять
Всё сделать их стараясь много уже
как много мыслей в них я проносил
Мои святые ноги и холодные
в себе болтали брюки те свободные
Они сидели на сиденье школьном
соприкасаясь с брюкой мертвеца
Ах, Витя Проуторов, как же ты
ведь был такой красавец черноглазый
черноволосый, стройный, так высок
А я был хуже, меньше и соседом
на парте вместе заседали мы
Ещё я помню, в чёрной куртке был я
мне вечно из вельвета покупали
Вот в этой куртке. Ты же в пиджаке,
что из букле. Мать за тобой следила
наверно потому, что неродной отец
Обидеть тебя, бедного, боялись,
Но искривилася твоя тропа
моя пошла в местах необычайных
мне воздух моей Анною запах
А перед этим книгами тянуло
И вот сейчас в пригородском лесу
уйдя за шпалы и за рельсы в мареве
раздетый на плаще на ве́нгерском лежу
и он мне Стесиным Виталием подаренный
Большое солнце жжёт и под Москвой
напоминает смерть и нашу речку
Как много крику было мне тогда
в те дальние и мутные года
и с матерью моею хриплых споров
Сменился вновь фасон ещё, пожалуй, при тебе
Ты был, мне кажется, ещё живенький
и нынче носят брюки так себе
не узкие, но и широких нету
Да, так лежу я, значит, на траве
Неподалёку роют грунт солдаты
они болото осушают тут
в своих зелёных крепких одеяньях
А ты, Виктор, ты уже земля
и я могу её, целуя мокрыми губами,
поцеловать, как самого себя
в пришкольную чернильновую руку
В Москве большой народов миллионы
А тут близ города
покой, жужжит пчела
Разбросанная пыльная одежда
своё на мне влиянье понесла
Сегодня утром видел парня я
он был одет в американских брюках
и вот рубашка у него была
в большую клетку и платок на шее
Как видно, из предместья он пришёл
и в самый центр пробрался показаться
Быть может, его женский пол
своим зелёным вниманьем…
или что-то в этом роде…
Но маленького росту он малыш
и грубое лицо его мало
и брюки очень так низки ему в шагу
и жалко его стало, что на солнце
идёт он весь нарядный и бедняк
Как на земле приятно одеваться
но даже он и этого лишён
а может, он совсем не замечает,
как он несчастен, потому и оттого,
что брюки не по росту у него
и сам он мал и жалок, и бедняк
не знаю, может, мне лишь показалось так
Ещё я видел неудачного фотографа-любителя
он фото себе нужное искал
но поздно наводил свой объектив
когда уже собака исчезала
ребёнок не смеялся уж, а плакал
и воду лить переставал фонтан
Его коричневый костюм сочился грустью
Его малый рост и шея загорелая печальная
в кольце морщин
Он, видно, закупил фотоаппарат
и медленно старается снимать — что
его я потянул и показал, как пьёт собака
воду из фонтана,
которую даёт в ладонях ветеран
он промелькнул фотограф с задом лакированных
штанов перед глазами
и что-то там возился с двумя руками
А ещё я видел, как читал на солнце книгу
так одинокий бритый человек
в немом и синем он был плаще, представьте,
и он стоял на теле, как железный
и был потёрт на рукаве, карманах
и воротник
Ну почему мы бедные такие
Когда нас солнце вдруг одним движеньем заливает
и всё, что на одеждах — пыль, заплаты —
всё выступает, или же цена их
вот туфель итальянских перезвон
под длинного мамашею семейства
А вот прошли актёрка и актёр
и оба старые, но как они ступают
как сохранились, видно, трагик он
она в ролях принцесс всегда бывала
он возвышается над ней
лишь при ходьбе лицо её запотевало
и сам уже безумный Попугаев
тот, что глядел, с скамьёю вместе сидя
подумал, не пойти ли, не укрыться ль
от свежести вечерней в дальний дом
Коварно, жалко,
что прошёл старик
с такою разветвлённой бородою
и умный и, должно быть, исчезавший,
и мудрые ботинки у него
и плащ от лица
маленькой девочки
почти ещё не женщины
он в воздухе
проплыл, как бабочка,
и глупая, и еврейская,
и жаркая,
и с большими
глазами на теле
Вот белые свитера
этой весной под горло
мелькают, как больничные повязки
У всех внезапно заболело горло
Во всех учреждениях страны
во ВГИКе, в КаГэБэ,
ВэЭлКаЭсЭм,
МООП, и прочих ещё многих
В ГУМе, в ЦУМе,
на заводах, в журнале
Недра носят эти даже
такие свитера были в продаже
Нет, свет был изумлён, скопирован
смеялся он и ел пирожки
А между деревьев выступало
Белое длинное тело реки
Река оставляла огороды сбоку
и там за заборами в круглую землю
Руки тётей Люб и бабушек Настасий
Деда Петра и Евгения Жёлудя
бросили семена редиса и лук, и лук
Сколько помидоров, мазут проплывает
Сколько будет на этих клочках ползучек
Вечером дети поломают ограды
из проходящего лесу выйдут воры
На тёмные туфли нападут из-за лавок
Будет почти смертельный бой
Пьянящую Наташу оторвут от Виталия
и с шёпотом, с шорохом повлекут за собой
Несомненно, свершится групповое изнасилование
или может быть, даже два
слишком уж, слишком уж заманчиво
пролегает вдоль леса тропа
Бедная чахлая чащоба
Днём тут не скроешь фигуры в листве
Но ночью стволы наплывают и вместе
Безумный дворец образуют собой
Та, которая прежде звалась Наташей,
Станет красивым телом в дождливом лесу
чтобы через время измученным телом
пробираться к воде, волоча, волочась
* * *
В темноте коричневых растений
протянулись витые стебли́
До конца боишься всё же изучать
Нет ли там ли ямы у земли
Кто живёт в той узкой личной яме
руку ты на привязи держи
может, полна яма пауками
иль животным мягким, как желе,
Не утонет в нём твоя рука ли,
чтоб потом ужасная назад
Лучше мне из леса подаваться
в сторону дороги — там огни
Боже мой, куда уйдут скульптуры,
кто же будет их оберегать

Стихи из аукционного дома «Литфонд»
Автобиография
Родился в 1943 году в городе Горьком на великой русской реке — Волге. Однако большую часть жизни прожил на Украине — в городе Харькове.
Окончил среднюю школу. Затем работал. Во множестве мест. Вот некоторые из них: монтажником-высотником, выращивал чай на Кавказе, был официантом и поваром, обрубщиком — 1,5 года в литейном цеху, грузчиком на продовольственной базе, книгоношей, начинал и бросал учиться в высшем учебном заведении.
Первые стихотворения — в 15 лет. Подражал Брюсову и Блоку. Очарование Блока счастливо соединилось с окружающими старыми деревянными домами, спрятанными в пышной украинской зелени. Позже увлечение стихами было забыто — я жил, ездил, влюблялся, тяжело переживал, если не любили (а так бывало чаще всего). Жил и у тёплого Чёрного моря и у нетёплых морей тоже жил. Писал иногда, но плохо и нерешительно. В 1966 г. вернулся в Харьков, устроился работать в книжный магазин — там познакомился с поэтами — некоторые меня поразили. Сказал себе: неужели я не могу так! Попробовал, поискал. С 1967 г. считаю себя поэтом. Тогда же посчитал нужным жить в Москве. Приехал. Живу. У меня мало поклонников, но это только увеличивает мои силы.
* * *
моей жене
Сара Абрамовна Вульф
укрупнила свой бюст
Она по траве ходила
и хлеб замечательный ела
По чужбине ездил в лимузине
и была жена в корзине
на голову надели дождь
и застегнулись поросёнком
Сара Абрамовна Вульф
ухотела поесть
надоело пожить
ухотела поесть
укротители гвоздь
укокошили кошку
хохот сзади стоял
и плевал на дорожку
* * *
К некому водному типу
пришёл и железный тик
и солнечно прыгают часы
кидаясь из стороны в сторону
нам песни нужны и часы
и золотые огни
а ветер стучит за шампанское
ты весь, ты весь заплати
и в каждом земном глазу
имея огромный язык
я верю что я привезу
три полотняных зари
холод едет с утром
милая сбила мозг
в траве величаво вор
запрятался с головой
возчик возник как бог
он назывался страх
вора зелёный глаз
в травы упал, скользнул
* * *
Коровы круги совершают свои
Нам нужен сегодняшний гений
И Бурич бурый как деревья
Целует Луизу нагишом ом ем
Хи
Хи-хи
Ля
Ля-ля
Две копейки три рубля
Бороды имеют силу
Моль ляжет под землёй
я имею три дороги и четыре колеса
Хи-ха
Ух-а
и четыре молока
и четыре голоса
голодают молча
и сегодня группа
пурх-пурх
попаримся с веничком
ельничком березничком
где работают там гадят
А она захочет жрать.
* * *
Проведи маслянистыми глазами
По головам сидевших евших
Мой друг уже он к выходу стремится
В размерах сокращаясь сокращаясь
* * *
мои руки как червяки
нападают на хлеб и сало
я и сам на сало похож
цветом белым щеки и носа
* * *
Ах от папы письмо!
и чувствительный отроду
я так сжался в этот момент
Боже! папа! С таким робким голосом
Папа! Папа! Открылся ты!
Вот оказывается! Да знал же я!
Ну и хорошо! Хоть до смерти. Да. Да.
Вот оказывается папа моментами
Тоже был таким же как я
Не волнуйся! Я что-нибудь сделаю
Я всё сделаю и за тебя
И твою я молодость и твою
Помещу! Тоже будет она!
* * *
Бреди бывало по итогам жизни
А там полно неугасимых ран
Всё прошлое так вспоминаешь тонко
Как будто бы иголкой вышиваешь
* * *
Ты помнишь там, где ты спускался.
Я помню там, где я спускался.
А ты дрожал, а ты боялся.
Ну что же помню — я боялся.
Однако я за долгим веком
Мечтал быть новым человеком.
И я к великому пробрался
Пусть я страдал и я боялся
* * *
и словно ядовитые вновь
разносятся мои слова над холмами
они посещают рощи и поля
сидят на корточках.
Нет не слова, а сгустки
и словно ядовитые как память как память
эти туманные шарики
это неопределённое нечто
это плавающее медузообразное
горделивое концами и обрывками
это малозажигающееся при луне
оно путешествует вылетев из комнаты
вылетев от меня в состоянии жары
и когда под вечер потный крестьянин
наклоняясь к ветру идёт домой
вытерев руки о пеньковую рубаху
поклоняясь коллективизации и от неё трепеща
он думает вывести новые сорта растений
со скорбным своим именем
расправляясь сорок лет
Жёны и дети растопырив руки
встречают его на пейзаже
перед побелённым домом
встряхивают гривой деревья. мычит корова
Всё происходит с помощью времени
В Доме горшок горячий со щами
Удобная и Вечная расстановка сил
Отец во главе, мать между всеми
дети с лицами выражающими новые времена
и тихое непокорство порывание к небу
у самой младшей слегка больной
* * *
когда приходит к нам зима
и снег идёт с утра
то хорошо бывает
Зима наступила
и звери уныло
Казалось должны бы заснуть
Но белка и заяц
земли не касаясь
по горке летят —
добрый путь!
* * *
Зачем оставили вы книги?
К вам обращаюсь я
с мольбой и просьбой — О сожгите!
Вы уничтожили всех тех
Зачем оставили вы имена
По ним же смогут и болваны
За три-четыре поколения
Взрастить младенцев для мучения
Постигнут старую науку
Утончённости чувств людских
И поимеют тонки руки
Заместо грубых лап больших
И будут падая страдать
Среди всеобщей мерзкой жизни
Я предлагаю книг собрать
и уничтожить все в отчизне
Пускай не знают дети нас
Что кроме тел и грубых мяч
Была и область духа —
Сказала мне старуха.
* * *
Волочился за женщиной по шумной роще
Плакая и приседая
и весь вечер мелькали белые руки
В трагическом единообразии
а ты отрицала
тот выходя на круглые поляны
ловил блистающих мотыльков
Что за счастье.
за счастье
счастье
Быть изнеженным и бессильным
Характеристика
этой женщины проста
вертикальные руки разбросаны по стране
о монополия писчебумажной промышленности
ты разрушаешь меня
вертикальные руки!
вертикальные руки!
Сидел бледный
отекая пил чай
Трагический смысл происходящего
* * *
я в костюме и тихий и слабый
и мне кажется нет на земле
этой женщины девушки бабы
чтоб ко мне не прельстилась в тепле
Разве кто был отважен отвергнуть
пиджаковая бледность лица
холод. май.
* * *
малюсенький макет огромнейшего леса
больничный парк без боли облетел
и быстро и легко установились лужи
хрустит внизу и холодит вверху
какой тянучий день лекарственный тошнотный
как длинный скучный бинт а рана горяча
убей ты бог меня молодого мальчишку
но только не давай жить мне такие дни
Я вспомнил мамы весь халат во всех цветах
я вспомнил папы жизнь зачем-то происшедшую
И мне за всех за нас вдруг стало очень жаль
живём зачем мы все границу перешедшие
* * *
От родных папоротниковых рощ
молодая дикарка бежала
и её зелень по плечам стегала
зацепит и держит… не отпускала
ты любила папоротник плаун и хвощ
почему же в одежде из одеяла
по лунной стране ты стремилась прочь
муравейник ногой разрушала
* * *
и холодом ужасным
и землю с гро́мами
и небом этим бледным
наказан будто ты
когда ещё с верховий
твоей печальной жизни
придёт на помощь память
и скажет: «Ничего»
Бывало и такое —
приятель стародавний
ты помнишь эти земли
волнующие нас
они росли под нею
она тогда жила
она тогда цвела… —
забыть я не посмею
* * *
Чего ты только не купишь
Купишь себе ты соль
Новые купишь подметки
Поправишь свои часы.
Но ты никогда не поправишь
своей больной головы.
Едва ты ее прочистишь
опять засорилась — увы
* * *
помните мальчики — струны серебряны
как хорошо я играл
тихо и праведно. даже за подвиги
денег нисколько не брал.
Да. но подумайте вечером с озера
тянет прохладной водой
кто там является. кто там находится
о это точно! он свой
он подвигается он весь как водится
о́блит холодной водой
где его лапочки. я это мальчики
вы уж простите — я свой.
* * *
Пришли они нормально
ругаться стали что?
а выпили нахально
и пропили пальто
а я сидел на лавочке
стишочки сочинял
и про Елену близкую
рассеянно мечтал
она Елена добрая
зачем же я ушёл
и где теперь мы встретимся
наш путь уже отцвёл
* * *
И в великую пору похмелья
когда падает на ночь день
ведь ты знаешь судьба ожерелья
то которое с скуки надень
о цветное шуршит оно разом
когда ты повернёшься ко мне
непонятное странным глазом
разглядишь на высоком коне
и во мгле силуэтного сада
вихрь не вихрь а сияние врозь
мне бесовских рассказов не надо
а божественных це́лую гроздь
* * *
Провожу я целые дни
Всё на этом проклятом бульваре
о печальные старые твари
разве я вас могу прогони
о мои подноготные мыши
веселящие утром меня
я в подполье старательно слышу
тихий шёпот вчерашнего дня
и когда из вечернего сада
где я пьяный и сонный сижу
демонически веет прохлада
я молчу. я не лгу. я слежу
и не сразу. а только позднее
рассмотрев листья ка́жется все
я скажу безвозвратно умею
находиться я в этой в красе
помещения даже не надо
свои кости на но́чь запирать
прослыву сумасшедшим из сада
назовите скорее опять…
* * *
Когда б быть чёрному коню
А мне на двадцать лет моложе
Взяла бы в руки жёстки вожжи
И на телеге к никому
Ты спишь непо́нятый поэт
Ты сам себя навеки обессмертил
Ты что-то говорил про восемь лет,
И о́тмерил длину асфальта.
Ты спишь непо́нятный поэт.
А завтра утром ровно в восемь
Тебя разбудит колокольный звон
А тот невидимый о счастье спросит
Тебе бы нищим быть
я б в дом тебя пустила
И за Христа радия
Любила бы не глядя
* * *
я всем интересуюсь
калошами ведром
меня интересует
в углу железный лом.
я роюсь в нём руками
сижу задумчив тих
определить стараюсь
детали от каких
машин поотрывались
больших ли грузовых
иль может быть остались
от танков боевых.
иль может эти трубы
от домовой воды
я всем интересуюсь
когда поедут льды
куда девался ветер
он спрятался поди
мне говорят — эй Петя
в учебники гляди
А я интересуюсь
прохожим например
чего свернул он вправо
а не прошёл он в сквер
хорошее волненье
меня всего трясёт
когда он повернётся
и всё же в сквер пойдёт
* * *
Этот день хороший
Этот воздух крепок
Только чертовщины
надо нам добавить
только каплю каплю
добавляем в вечер
сразу этот вечер
весь увековечен
* * *
Мы этим летом очень
ромашку собирали
лекарственной ромашки
мы много увидали
Бежали мы с корзинкой
и очень хорошо
её срезали тонко
наточенным ножом
от множества болезней
Ромашка помогает
и тем кто очень много
по улице гуляет
кто слёг и простудился
всё осенью играл
ромашка помогала
и жар у них спадал…
Одной знакомой тёте
помог так наш отвар
что сразу
* * *
как вырасту я
я буду
в милиции служить
и может быть я буду
машинами водить
* * *
Когда надо мной в день осенний
летает подруга пчела
и корни далёких растений
как строем она обошла
Тогда из окна пилорамы
я вижу далёкий овраг
сражается с полем упрямо
и целые гроздья собак
* * *
Бывают тихие коты
до горла ленью налиты
они всё спят в диванах
в сновидческих туманах
от них самих исходит сон
возьмёшь кота на руки
и у тебя задремлет он
задремлешь ты от скуки
* * *
Какой большой
и яркий бант
у Оли на затылке
завидуют ему: Артур,
и Соня, и две Милки
какой красивый этот бант
дай нам его потрогать
да что вы, что вы изомнут
его все ваши руки
и Оля быстренько ушла
в свою она квартиру
и бант красивый унесла
* * *
когда ты мальчик городской
и не видал деревни
не бегал в травке полевой
не знаешь камни древни
тогда тебе не занимать
отваги и сноровки
в трамвае двигаться стоять
ты мальчик очень ловкий
зато не видел ты реки
текущей среди леса
зато ты не ходил в пески
большие белы плесы
и рыб не можешь ты ловить
а что? Ну разве можешь!
Уметь ведь надобно удить
хотя процесс не сложен
А ты вот к бабушке поедь
Она живёт седая
В одной из лучших деревень
В середине у Валдая
там есть река и лес там есть
и даже есть там волки
Но ты пожалуйста поедь
И выйдет много толку
* * *
мальчик к мальчику ползёт
мальчик мальчика несёт
сквозь кусты и ели
тащит еле-еле
он нагружен. автомат
и другой и пять гранат
к поясу же друга
привязал он туго
добираются в отряд
весь отряд прибывшим рад
командир вперёд глядит
мальчика благодарит
шла военная игра
и была взята́ гора
высота пятнадцать
пришлось крепко драться
раненого спас Андрей
из огня унёс скорей
* * *
Ой ты поле поле
Диковинное
Длинное цветами семенами
Заполненное…
Высокое поле с небом
Сошедшееся
многими ногами поле
истоптанное
И наш дед тут ходил
мягкие слова говорил
обращаясь к земле ласково
ты давай давай земля
дай нам хлебушка
дай кормилица!
И наш отец тут ходил
ползал раненый
и земля его закрыла не выдала
поднялась кое-где кое-где опустилася
и закрыла отца запрятала
сохранила его.
вот и я тут иду.
иду медленно
всё смотрю и смотрю
темно-ласково
* * *
В сердце гадость — я заболеваю
Нечего сказать родному краю
Грязной сумасшедшей голова
Вид кустов я видел в этом свете
Речка разделялась на две. дети
Бегали теряя рукава
Солнце забиралось поздно в воду
Капала капель — смешно народу
Мне же было девятнадцать лет
Для своих я был довольно глупый
А в могилах истлевали трупы
Промедленья нет. прощенья нет
В воздухе струится и струится
Николаевской ещё России птица
Ворон пролетает на хвосте
Чудаки поэты-символисты
Авиа- и вело-мотористы
Жизнь прожили те и те и те
Очень чудная была погода
Охмуряли барышню до года
А те года нам слышен шелест книг
А потом другие были годы
Революцией размазан лик природы
Человек стал ненависть и дик
* * *
Был знаком я с Анною и Викой
Шли дожди над кашкой и гвоздикой
Шли дожди и лето сорвалось
Я не знаю сколько мне осталось
Жизнь порой неважною считалась
А порою ясен был насквозь
Все меня простили я всех тоже
Выдубилась выстиралась кожа
Человечьих жизней — цепь
Государь суровейший Аврелий
Дама под прикрытием камелий
И Овидий-степь
Доктор
Доктор вышел погулять
Он в карманах забавляясь
Держит руки вынимать
А жена его качаясь
с ним попробует сказать
Догоняет доктор Зою
И берёт за рукава
Страшно нашему герою
но красива голова
— Зоя Зоя — я вас выдам!
неожиданно в дверях
Зоей доктор был увидан
Произвёл он в Зое страх
Дышит медленно и вяло
он хватает за виски
— Что же милая упала
Что такое? на куски
Бьётся Зоино сознанье
Тихо поздние слова
Натиранье и сниманье
возвратилась голова
— Вы в искусственном дыханьи
прок увидели надеюсь
В Пензу я решил скаканье
И на поезде рассеюсь
Сквозь пустынь полей без шума
Одиноко. разве с книгой
Моя полненькая дума
А история с ковригой
С вечною ковригой хлеба
слева. рядом. рядом справа
не для доктора забава
созерцать ночное небо
городах так в тридцати?
— Доктор можно мне уйти?
— Нет ни в коем случае
Оставайтесь мучая
— Я беру с собой обрывок
Вечно я его таскаю
Верите ли доктор — сливок
Я ни в чём не собираю
* * *
Гуляешь по летнему саду и смотришь один сквозь ограду
Задумчивый маленький важный песчинка проклятая каждый
И я в темноте. и ты в темноте. И все мы мой друг в темноте
А в полдень в смешном гастрономе. В огромном печальнейшем доме.
Ты ткань выбирал. Ты в руке её мял.
А ноги в опилках. соломе.
Чего тебе делать на свете. Ах скушно в навозе карете.
В машине сидеть однобоко. Духами душить так жестоко.
А гулки шаги на паркете
И ветер деревья на свете. А солнечный свет прямо в лица
Твои общежитья столица
Ты видишь какой-то приятель. Приятеля создал создатель.
Его проживание тесно. Но имя его неизвестно.
* * *
Эдуард Вениаминович Лимонов
Он старый друг наполеонов
Он женился на бесплодной Жозефин
И она родила детей
Двух мальчиков Энгельса и Маркса
И трёх девочек
Но они плаксы
* * *
Эдуард Вениаминович Лимонов
в шляпе с узенькой бородкой
и с тесёмками у горла
и в вишнёвейших чулках
Его портрет гуляет
он какой-то очень смутный
и на фоне моря, моря
ну а море-то — могила
для гуляющих по жизни
* * *
Вы понимаете когда вложенье песен
Гораздо выгоднее денег помещенья
Когда вложенье в стиль александрийский
Верлибр французский в чёрт знает чего
Мои рассказы и мои творенья
Всегда грешили… не грешил я сам
Убогой роскошью демократической эпохи
Товарной клюквой медленных людей
Шатун бесцельный в жутком чёрном масле
Одно колено и когда в ознобе
Будь я чудом маркиз или сцевола
Я был бы гений медленных людей
Он скушно он противно говорил так фразы
Что скушно и противно так ему
Как говорит он фразы в изумленьи
Как холод как России помещенье
Отделы кадров и военкоматы
Где холоден и грязен каждый стал
Печать лилова многоноги стулья
Их размноженье вкупе да с печатью
Когда с полей убрали хлеб и рожь
Печать лиловая свирепствует повсюду
И цепко схватывает цепко обнимает
Дворы и склады чувства и сомненья
Поленницы и отношенье к жизни
Печать печать, безносая печать
В Вас есть ли Рим? Или в Вас Рима нету?
Извечный Рим ненужной недотрогой
Извечный Рим бесформенной игрушкой
И тёплый Рим дождём на Виа Аппья
Роскошный Рим. самозабвенный Рим
И Рима нету. никогда не будет.
* * *
Судорожный май — месяц смертей
уходи поскорее не смей
Судорожный май — месяц тоски
когда козы близки и люди низки
И у них первый пот
и когда ступаешь на первый живот
и бе́лит кулак и бе́лит ступня
и дитя говорит: ня!
А в белой пустыне кухни
овощи с мясом протухли
А я сделал из бумаги шишку
и сунул тебе под мышку
А я сделал из меха старушку
и сунул её под подушку
А я сделал из пальцев клубок
и сунул тебе между ног
А что сделал из твоего сарафана
это будто яркая рана
А река протекающая в окне
твоей веной казалось мне
Я подвинув к окну кровать
Лёг и от мая стал спать
Но козы и луг
И жарко и испуг
* * *
Лорд Фаунтельрой! Маленький лорд у горла
Маленький принц с тобой.
(Маленьких так распёрло)
Маленький твой живёт
Маленькие штаны
И лысоватый рот
И никакой вины
А вот если кто виноват
Так это я виноват
Видишь — пиджак мой брат!
Видишь — пиджак страны!
Видишь штаны аллей
дочку Тургенева гордую
ты животом заболей
или спиною твёрдою
Я — алебастровый лоб
Гений времён и зданий
Я никогда это. чтоб
бегали без названий
Я твой начальник — ложь
Я твой сплошной еврей
я прописная вошь
бегаю меж тополей
Каждой собаке знать
время такое пришло
Ветром тугим к нам знать
новую знать принесло
Ты и чертёжник — ты
Ты и художник — ах!
Разве я против тебя
Я против тьмы в глазах
Я против тьмы моей
ты же делай что хошь
Ну продолжайте с ней
Я же целу́ю ложь
Милая ложь тверда
Юная ложь горяча
(Он отрубил года
Мерзко горит свеча)
Волосы — страшный крик
Близко к глазам — паук
Я-то уже привык
Мне-то ведь родина — звук
Соль и фасоль и фас
Даже фанера фон
Я исключаю Вам
Лена моя!.. Нет — она!..
* * *
О россия моя Россия
Поэтический мой испуг
Как испить мне твоё бессилье
Как услышать заветный звук
Доживу ли я до дня
Когда лошади поскачут
И не будет душевной стачки
Когда востроносый мальчик
С трибуны прочтёт стихи
И тогда запоёт музыкальный ящик
Что у бабушки весь в пыли
* * *
Ах мой Эдинька
сон в гармошку
Всё это самообман
Рыбье озеро
Дверь на застёжку
и лес как чёрный наган
На это выгоне
стоят двое
блаженные лица у них
сейчас они чистенько
прошлое смеют
и убегут не спросим
Лошадку из дерева
и конягу из плюша
уведут за собой в ночное
и леший им скажет
что ему страшно
Ведь на планете их трое
тот невидимка
к нему обращаешься
безмолвно с тобой согласен
Высосав сок
зверь улыбается
нежное дерево ясень
Никто и не знает
о чём подумала
женщина, глядя в дюны
чайка лишь раз
её мысли клюнула
и улетела с испугом
[в действительности автором этого стихотворения является Елена Щапова]
* * *
Когда в предвечернее время
Бледнеет земля и сарай
Пожалуйста ты перед всеми
Животных моих не ругай
Они да пожалуй худые
У них и отвислый живот
Но кто в эти числа пустые
Здоровым пред нами встаёт
* * *
Но с улыбкой продавщица
Вам сказала: эту птицу
Я сказал что птицу ту
Этой птице предпочту
* * *
Он вошёл. Его друг Гуревич был постаревший
Я приехал выступать. ты такой же элегантный.
Это о нём одно стихотворение. Я такой же элегантный
Крон. Арвид Крон. вчерашняя выпивка. очень пьяны
Март. зима. переносное тело и передвижной дух
путешествуют в Пущино. Скушно. и не тает снег
пустая. голая. квартира. научный сотрудник. похмелье
глупость. жена бросила с поляком. Польская музыка весь вечер
в марте моешься в ванной. я. ты. он.
* * *
Советское правительство. Советское правительство.
Советское правительство.
Научное сотрудничество. Научное сотрудничество. Научное сотрудничество.
Полное одиночество. Личное одиночество. Скверное одиночество.
Трагедия поэта. Трагедия поэта. Трагедия поэта.
В советском союзе. В другой стране. В советском союзе.
Только комнаты. Только комнаты. Только комнаты.
Отнюдь не газеты. Совершенно не книги. Даже не журналы.
Перед своими. Только перед своими. Только перед своими.
Узким кругом. Узким кругом. Совсем узким кругом.
На пишущей машинке. На миленькой машинке. В шести экземплярах.
Проходит лето осень. ещё и лето осень и снова лето осень
Ничто не изменяется. всё стоит на месте. ничто не повернулось.
И этот даже Запад. И даже этот Запад. И Запад даже этот.
И то он нас не видит. Он уважает мёртвых. И то он нас не видит.
Быть мёртвым — о полезней. Быть мёртвым о полезней. И много уваженья.
И многое уваженья. И многое сожаленья. Никто уже не тронет.
Быть мёртвым — вот задача. Вот это вот задача. Быть мёртвым — вот задача.
* * *
Холод мраморных плит переходит всё прекрасные руки
На нём пальто и он выпил. Пальма в вестибюле гостиницы.
Нарушение вестибулярного аппарата. Не ориентируюсь
в этих огромных зданиях.
Холод мраморных плит переходит в наблюдающего мраморные
плиты. Проходит дама в молодом возрасте. «Вот когда вы будете старой…!»
* * *
С произношением странным слегка шепелявым — Ася
Дикая личность с бантом у горла шляпа большая косо — Виктор
Сонный и толстый приятель верзила — Павел
С бледной рукой длинноигольчатых пальцев — Юлий
с кольчатой шеей в тихом охвате — Майя
Также приехала в шапке большой шерстяной — Антонина
также приехал на велосипеде огромный Сергеев
но и приехал спокойный пустейший и сумасшедший — Люсик
и вот приехала с милой какой-то собачкой Клава
Но вот приехала с гребнем и шалью большой вся в оборках — Ида
и с папиросою вечной приехала Грета
много вокруг говоря вдруг приехала Шостря
тихо о прошлом так говоря! так говоря! появилась Анна
и ниспадая платьем большим оказалась Роза
и высоко вознося свою грудь на мужчин оказалась Женя
с плёткой в руке появилась гордая Ника
Тёмная вся и на чёрном цвету выявлялась Лора
и на последней степени жизни Адель появилась
и с виноградом в руках выступала Клея
с книгою крепко держа длинно шла Ко
и приходя аки под зонтиком лёгким Аглая
крался же вслед небольшой Константин и со шрамом
в воздух глядя появился рассеянный Гриша
нежный Альфред с розоватым румянцем на ушках
Бродит же где-то ещё не пришёл синий Павел. Все-то боятся.
Где-то же бродит и друг и помощник Аркадий. Большой и сердитый.
Только вошёл и смеётся у двери — Володя
Густо ершистые волосы больше ероша
Там же стоит сильный дамский угодник и Коля
Тихо духами и всем от него отлетает и пахнет
Тихо и дико смотрит из двери двенадцатилетний Наташа
Тут же стоит и большой и жесткой Ересий
Комментарии:
Стихотворения из амбарной книги «Микеланджело» (1958–1964)
Печатается по амбарной книге, хранящейся в Государственном литературном музее им. В. И. Даля (Ф. 503, оп. 1, д. 4). На контртитуле во всю ширину картона сделана надпись «Микеланджело», что позволяет для удобства восприятия назвать так и саму амбарную книгу.
Перед нами стоит вопрос: как датировать найденные тексты?
Очевидно, что они лишены известной абсурдистской нотки, которая возникнет в 1967–1968 годах: Лимонов отправился покорять Москву и уже благодаря постобэриутской манере производил впечатление на столичных коллег. То есть мы смело можем сказать, что амбарная книга хранит тексты, написанные до 1967 года.
Известно, что Лимонов в ранние годы увлекался в меру традиционной лирикой: символизм Александра Блока, новокрестьянский уклон Сергея Есенина, отчасти ориентализм Николая Гумилёва, отчасти строгий слог Владислава Ходасевича.
А после того как поэт попадает в психиатрическую лечебницу — на «Сабурову дачу»,— знакомится с творчеством Велимира Хлебникова и переписывает от руки его собрание сочинений, поэтика футуриста буквально впитывается им.
Можно ли сказать, что в данных текстах есть влияние Хлебникова? Вряд ли.
То есть мы теоретически можем отнести их не к первой половине 1960-х годов, а скорее к рубежу 1950–1960-х.
Эту мысль подтверждает несколько эпизодов из романа «Подросток Савенко» (1982): главному герою пятнадцать лет (а значит, время действия — 1958 год), он ещё обходится без псевдонима «Лимонов», участвует в поэтическом конкурсе и выходит читать стихи с заветной тетрадочкой (может быть, именно с этой?). Приведём сначала короткий отрывок — о влиянии классиков на молодого поэта:
Надо сразу сказать, что стихотворение «Это кто идёт домой…» в рукописях и машинописях не найдено и известно нам только внутри романа «Подросток Савенко», поэтому мы можем предположить, что написано оно существенно позже, нежели на рубеже 1950-х — 1960-х годов. Об этом, кстати, говорит и постобэриутская поэтика.
Но описываемый эпизод, скорее всего, имел место быть: только стихи читались другие.
Вернёмся к временно́й шкале. Верхнюю планку (когда писались эти стихи) можно отодвинуть на 1964 год. Получается это сделать благодаря стихотворениям «Что может быть интересного после двадцати…» и «Рядом летний полдень…» («И двадцать один год / И подруга есть… / Чего-то от меня ждёт… / Как не от всех мужчин / Двадцать один год / А я ещё никто…»).
Можно ли отодвинуть планку ещё дальше? Теоретически можно.
Следующие известные нам тексты — это «Вельветовые тетради» из архива Вагрича Бахчаняна. Они имеют чёткую авторскую датировку: 12 июня 1968 года — 9 мая 1969 года. В первом томе настоящего издания встречаются тексты 1967 года.
Возникает вопрос: были ли тексты, написанные между 1964 и 1967 годами? Скорее всего. Может ли часть текстов из амбарной книги «Микеланджело» относиться к этому времени? Вряд ли, так как мы, изучая поэтический путь автора, можем наблюдать, в каких невероятных количествах он пишет стихи.
Выходит, датировать «Микеланджело» можно только периодом с 1958 по 1964 год.
На что ещё можно обратить внимание: синтаксис и поэтический словарь.
Поэт умышленно или неумышленно часто использует целый ряд слов и их производных, делая их либо вечными эпитетами внутри своей поэтики, либо центральными образами раннего периода творчества: «зло» (34 раза), «печаль» (9), «тоска» (20), «тихий» (25), «силуэт» (7). С одной стороны, можно объяснить это подростковым возрастом, а с другой — тем, что Савенко-Лимонов только расписывается, много экспериментирует и на данном этапе стихотворения представляют собой свободный поток мыслей на заданную тему: видно, как ставится поэтическая задача и как нащупывается инструмент для её решения.
Что касается синтаксиса, то ни о каких правилах современного русского языка не может быть и речи. Поэт уходит от них. Грамотность — на определённом уровне есть (если не считать описок), а вот знаки препинания часто расставлены хаотично или не расставлены вовсе. За единственным исключением: самый частый знак — многоточие. И служит он скорее для обозначения паузы при чтении стихов.
В амбарной книге «Микеланджело» есть ряд начатых, но не завершённых текстов, а также отдельные строчки. Для полноты картины мы помещаем их в комментарии:
* * *
Чистота и глубь горных рек
И не открыть чистоты
Я стою пред тобой, человек,
И верчу свои черты
* * *
И в воду сталкивая шлюпку
Ночами загрести по дну
И ты слегка замочишь юбку
И растревожишь тишину
Не отдана мне навсегда…
А лишь на краткое мгновенье
Сидеть смеяться в этой лодке
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
Плыви и делайся другой под ветром
Перемени и память, как людей
Ведь сотни миль и сотни километров
Нас делают добрее или злей
Кто знает, чем заполнится
Твоя теперь вдруг найденная пустыня
* * *
Уходят в смерть чужие лица, руки
Чужие откровенья и слова…
В предчувствии немыслимой разлуки
Тревожно холодеет голова…
Мне ясными и строгими стихами
Хотелось бы весь мир расшевелить
Чтоб люди слёзы пролили на камень
Чтоб люди не могли меня забыть
Но безучастны облики прохожих
Но облики прохожих будут не́мы
Им не нужна моя ничтожность…
* * *
До далёкой земли добрались бродяги
Переплыли множество рек
Где-то впереди лежали ещё неоткрытые земли
И шумели мудрые старые сосны
Что велик и силён человек…
А они умирали и вели счёт припасам
И пытались пробиться сквозь льды
Но ревела пурга (оглушительным) контрабасом
И заметала сразу следы…
* * *
Глубже радостей они проникли
И теперь голова моя затем лишь никнет
Что я зверь
* * *
А всё будет мирно, обычно
Ты придёшь и положишь ей на плечи руки
И она не заметит и не заметят друзья
Что ты уже сделал своё дело…
* * *
Кто-то скажет просим
И уедет в далёкую даль
Кто-то будет вдыхать
Воздух прянистый, как миндаль
А я бедный и злой
Посмотрю в осолнечное окно…
И тёмной тёплой рукой
Проведу по щеке
Я устал… и усталость разлита
В липкой горячности тела
Ноги разочёты…
* * *
Женщины святые
С крестами на груди
Я хотел бы тоже
Смертным быть и пьяным
Ничего не зная.
* * *
И твой худенький профиль
Удивительный профиль
Твой отчаянный профиль
Надо мной
Если чтобы раскрыты
Если счастье под пальцами
Ну кому ты нужна…
* * *
Надо, чтобы что-то взволновало
* * *
Мы все цивилизованные люди
Пропахшие утробным никотином
Проветренные водкой…
И приласканные котятами
Минутных женских ласк…
* * *
Война, война
Тревожные пожары
Я только сейчас взволнован
Как долго я был молчалив
* * *
Шуты гороховые люди
Шуты
В зелёных колпачках
Сидим под крышами и судим
О людях, о стихах…
* * *
Безжалостный и строгий край…
Край бесконечных коридоров
Не можешь… умирай…
Или смиряй свой гордый норов…
* * *
Сюретэ́ Женераль… Агриппина
И пиний пустынный ряд
Ночная чёрная картина
Странный
Разведка… Глушь Современность
Было у меня детство…
Было у меня в книгах
Стихи Роберта Бёрнса
Баллады о забулдыгах
О тех кто в слюнявый вечер
Силы находит ходить
И находить кабачки в тусклом свете
Где попеть и попить
Боюсь я ночи — в ней всё затаилось
В ней люди — одни глаза
Страшно если тебе не приснилось
* * *
И написать
Проникнуто мистикой его…
Желанием нездешнего свиданья
Когда
* * *
Но себя, в себе в своём угрюмье
* * *
И с тобой в апрель согреть плиту
Старую разбитую немую
Разве думал я…
Подобно сну…
После я об этом затоскую
Женщины по-праздничному пахнут
Я тепло твоих духов
Пахнут тяжело и бестолково
Чтоб напиться или же заплакать
Сочинить таинственное слово…
Где расскажется для всех понятно
И весомо, как беда
Мне идти с тобой вдвоём приятно
Даже ниоткуда в никуда…
Просто вдаль в приливе ночи
И глазеть на мир и понимать
Даже если ты чего-то хочешь
Надо это прятать и таскать
* * *
Иногда приходят мысли, мысли
Много странных, а куда их день
На моей руке устало виснет
твоя тень
Я бы бросил я бы усмехался
Только ты не так как все
Я тебя ни разу не касался
Ты пришла внезапно
* * *
Моя чудная — в ночи городской
Принадлежишь ты лишь себе самой
И если что я у себя беру
То это всё — не к моему двору
То это всё не для моих ресниц
* * *
Всё это просто
Всё это ясно
— Тоска напрасна
На этой земле…
Тебе не нужно
— Глухие стены
Кого-то манят
Кого-то просят
Прийти к себе…
Тебе не нужно…
И женщин много
И есть одна…
Самая дорогая
Самая ненадёжная
— Другим не нужно
Люди обходят чужие беды
Смотрят издалека…
Если уеду в серые степи
Если оставит твоя рука…
Капиталистическая действительность
Глухие толпы людей
Стоят у рассвеченных зданий
И им преподносят культуру.
На глади пухлых ладоней
Наши большие фигуры
А мы — как рабочие кони
Вас вывели — мерзлые клячи
На площадь под музыку рук
Дрожать и в рубахах маячить
У тел и подруг
Где тонкие где дорогие
Натужный изломанный гипс
Нам что подешевле
Владыки — забрали девчонок актрис
* * *
Мучительно было на пляже
Солнце создавало знойную жару
* * *
На плечах у друзей проплывёшь
Тонким носом царапая твердь
Ты хотел вечно чувствовать дрожь
Ты хотел неизменно гореть
А тебе поддвигали другое
У заборов пить горькую водку
И не верится в дорогое
Когда водкой загажена глотка
И все женщины сникли давно
И тебе уже всех их не жаль
* * *
Вся жизнь дороги — и туманные дела
* * *
И ты была преддверием кануна
* * *
Ну как мне влезть в ваши мысли
Маленькие мысли
* * *
Эта цепь ненужных показаний
И закатывания бедных глаз
Полуторавенных признаний
* * *
Спрятаться с этим лицом
От людей убежать скорей…
* * *
Будут нас наблюдать
* * *
Стихает мир…
Стихает шум вдоль улиц
Кого-то нет
Кто-то уже спит…
* * *
Бывает что жизнь мучительна
Бывает она бессердечна…
* * *
Предстоящий перед чёртом
Говорящий тайны дверям
Я люблю тебя — жадного бога
И твой жертвами полный храм
* * *
И одиночество переносимо с трудом
А может и вовсе невыносимо
* * *
Ты сидишь напротив
Сидишь в последний раз
Отношения я испортил
* * *
Я иллюзорный, я банальный
Какой-то из
* * *
Моё поколение
Меня примет
Я тоже хожу в кафе
Посылаю знакомым приветы
* * *
Уже нет ни сил Ни стремлений
* * *
А я всю месть всё слово
Мир из предметов остроугольных
Бешено лениво и бестолково
Жить среди невольных
* * *
Губы огрубели. тяжело губам
* * *
И я благодарю порыв
Был не напрасным ты не зря
Шагая за рельсовый игрив
Где изгибается заря…
И пусть потеряна тобой
Тревожная земная радость
Но ты останешься живой
Бессмертие тебе награда
* * *
Наступает вечер… Ты немилая
Ты пришла и под руку взяла…
Я себя печально изнасилую
* * *
Меня признают
Буду по эстрадам
Ходить и медленно цедить
Слова и это мне награда
За то что не пришла любить
Что оказались странно-слепы
Глаза туманные твои
Как будто я лишь только слепок
С других кто выше и горьчей
Сказал про неуют про беды
Про голую
* * *
В моих словах есть крохи серой правды…
Я подхожу пытаюсь я острить
Наверное Сергей Есенин прав был
Когда писал что так не ново жить
Вот я тебя обязываю к вере
К тому что ты должна
Ждать надрываться слепо верить
* * *
Не спать совсем
Совсем не спать
Мне в эту ночь
Мне в эту ночь
Что ты ушла переживать
И губы округлять
* * *
Я жёлтый обнажённый малый
Я торс и грудь…
Я рук натруженных усталых
Слепая грусть…
* * *
Я всё жалуюсь на жизнь
Что ты не появишься
Если встречу не удержу
Я жалуюсь на жизнь
Которая как ящерица
Оставит конец хвоста…
А сама удерёт
Я думал что ты чиста
Я верил в твой рот…
* * *
Кому-то нужно
Твоё тихое солнце
Может нужно и мне
Может идти мне дальше
И тени считать в окне…
* * *
Ущербное твоё лицо…
И я который ничего не видел
Хочу тебя немыслимо обидеть
* * *
Всё, что говорили,
Всё, что ожидали,
Где-то позабыли,
С кем-то промотали…
* * *
Тебе — которой жизнь слепая
Сумела больше, чем я…
* * *
неприкасаемый
* * *
Тебе, которая такая маленькая,
Которая со мной идёт
* * *
Хотите, я буду бегать к вам,
как маленький
мальчик,
Приносить сумасшедшие идеи
Каждый раз новые идеи
Восторженно целовать…
Но вы не хотите этого
Вы уже не маленькая
Вас около нужно удерживать
Другим…
* * *
Я выберу из толпы
И выучу на память
И расскажу, чтобы отвлечь
Тебя от… парня
С которым ты готова лечь
* * *
Тополиное счастье — где ты
На душе тополиная скорбь
Я на белых базарах света
За бесценок отдал любовь…
* * *
Отчего-то жалко, что под эти звуки
Отдаляешься ты от меня
И не могут сдержать тебя руки
Как бы близок я ни был с тобой…
Это ночью в доме чужом
Пьяная
* * *
А я уже старый…
уже забытый
Плетусь не привязан ничем
В отдалённые сосновые скиты
* * *
Все озёра метельны
Все озёра миндальны
Все колокольни дальние
Густы колокола…
А звоны чётко-разбужены
А лица породисто-сужены
И белым платком обмотаны
Тонкие шеи дворян
Мама-графиняВ Монте-Карло не зелени
Остановив зрачки
* * *
Покидая землю эту в росах
Я молчанье губ не
Всякий кто приходит в первый раз
Сам поймёт и сам пройдёт сквозь всё
Через пряный запах и улыбка
* * *
Вот бросила Ленка —
Шальная девчонка —
Я даже девчонке не подхожу
Моя надежда на будущее
Утлая лодчонка
Я в ней сам — еле сижу
Буду бурей перевёрнут первой
Конечно ты не хочешь тонуть
Уходи
* * *
Что меня никто не понимал
Значит не родилась ещё такая
Не возник лица её овал
В будущее сердцем я направлен
И руками тоже…
* * *
Угарное, дымное небо
Красивые сны невпопад
Ни разу я счастлив не был
А все о счастье твердят
Говорят оно такое и махают руками
Ходит где-то меж нами
Найди, занимайся этим
Только этим делом
Ищу и бешеные деньги —
плати
Но деньгами не оплатишь
Простенькое её платье
И не купишь улыбки
За 50 рублей…
* * *
В единственном зеркале
Как нам несбывшиеся мечты исковеркали
Какая нелепая стала ты
со своим библейским
именем
Интимно — говоришь — цветы
Обними меня
Мой дождливый балкон
Твой шутливый поклон
И затемнённый вальс
Двух тёмных пятен в окне
Она приникает ко мне
Кому это нужно — кому
Я от дождя отдалён
Снова тебя обниму…
Как в сон
* * *
Покайтесь грешники
Венки повесьте кроваво-красные
* * *
Ты вся ты вся
Потерянная нами
Потерянная мной
Стоишь тонко-рукастая
За спиной…
Дыхание частое…
Как у святой…
* * *
Может мы правы, правы
В лица тревожно смотрели
* * *
Кривляемся перед морем
Кривляемся перед друзьями…
* * *
Ты — вавилонская, не наша
Ты — древняя, от камня скал
Принесли отравленную чашу
К моим пылающим вискам
И даже от прикосновенья
Уйду туда, где желть пустынь
Правдоподобные виденья —
Глаза тоскующих богинь
И им, богиням, очень тяжко
В дремотном небе над песком
То мягче стягивать рубашку
* * *
Крыши островерхие
Тёмные леса…
И между деревьями
Молний полоса…
* * *
Бледное небо
* * *
Золотым сестерцием —
Римской монетой —
Ты не подобранная никем
Лежишь в пыли нагретой
Одна из нужных тем
Может чьи-то руки сграбастают
Предадут тебя бумаге
Обманут лживой ласкою…
* * *
Уже у меня было разного
И хорошего и плохого
Уже меня люди выдразнивали
Говорили — живёшь бестолково
Уже в меня пальцами тыкали
Вот он, не так как все…
Ходит с глазами тихими
* * *
Ну кому ты нужна ещё
Ну кому ты…
Пусть придут другие
И будут путать… тебя
И твои сны…
А я представляю тебя своей
От счастья замирая
И нежность такая
Всё нежней и нежней
* * *
А ты пустынная чужая женщина
С блестящим колье на груди
Куда ты от жизни денешься
Денешься ты в дожди
* * *
Но хорошее — чудо пустынь
Миражом иногда появляется
Человечек — остынь, остынь
Даже чудо когда-то кончается
* * *
Подавленный я жду тебя
Я вдаль тебя зову…
Что ты с губами дутыми
* * *
Придёт кто-то…
Мужчина конечно
И возьмёт вас в охапку
Превратит ваши бёдра и плечи
В мятую тряпку
И потянутся цепью тоскливой
Много-много проборов и шей
Шепотков, опошленных порывов
И проведённых в… Ночей
А любовь — это ведь осень чисто
Это так тяжело…
И меня как тусклую искру
От тебя отнесло…
* * *
Я остыл, меня сломило время
* * *
Была или будешь моей
Потом ещё чьей-то чужой…
Но сколько ты жалоб ни лей
Но сколько под ветром не стой
Всё берег реки обнажен
И бурая глина молчит
И кто-то… смешно
И кто-то заезжим плутом
Нарочно смешит
Смеёмся под всплески ветвей
Смеёмся под капельный шум
* * *
Черкает дождь по улицам каракули
Наши-то несмелые слова
Мне вороны, мне вороны накаркали…
Про дальние слепые острова
И я сойду на берег
В лодку сяду с
И потащусь…
Не близких не себя ничем не ради…
Туманя грусть…
* * *
Я совсем, совсем
Измучен тайнами
Тайнами пленён и поражён
* * *
Тревожным парнем к эшафоту
Я подхожу, меня подводят…
Сырые серые глазницы
В меня глядят
Народ стоит, рассматривает тело
Которое так скоро станет трупом
* * *
Под колёсами неугаданных трамваев
И желанных машин…
Броситься в кровь вилок
Синью лишь окраситься…
Жил я одинок
И умер одиноким
* * *
Безвестное моё желанье
Безжизненное
* * *
Мы обитатели средины века…
А куда я иду, куда…
Может жалеть о калеках
Иль приветствовать поезда
* * *
Я чёрный мир пройду насквозь
Я исчерпаю грусть и злобу
И белая тёплая нежность
Окажется под сугробами…
* * *
Ты подавленно-вяла
Не поймёшь…
* * *
Стой у аптеки бело-жёлт и нищ
И неприкаян и ничем не занят
Опущенные в ночь часы глазниц
Последний час тебе отбарабанят…
И ты сойдёшь по лестнице туда
По лестнице больших ступеней
Где холодна вечерняя дождливая вода
И не присутствуют твои колени…
Ах, тёплые унылые листы
Мне голову покройте покрывайте
И вы почти… святы
ослабевайте
* * *
Приедешь, будешь всем не нужен
И помешаешь чьим-то встречам
Испортишь долгожданный ужин
И ожидаемый… вечер…
И гнусно вдруг почувствуешь себя
Скорей уйти… в дорогу…
И шаги… вдаль уносили
И шорохи и шумы
Что производит моё тело…
И всё смятенье то что вносят
Мои глаза…
Моя большая тень…
Зачем я тут… пуская живут открыто
Меня считают как бы за убитого
Или же пропавшего
В тумане деревень…
* * *
Подобрать мне больше красок
Больше цветов
Я бедный боящийся масок
И глядящий чудаков…
Я в ритме смерти
В ритме неудачи
Живу все годы и минуты…
Спешу за жалостью к кому-то
* * *
Напиши об алости рябин
Ритме красок…
И о том что тут в траве лежать
Счастие и для Блока и других
Что тебя через песок пустынь
Ноги понесут…
И глаза далёких нам богинь
Средь пески остыло расцветут
Им глазам
* * *
Недостигнутые мечты
Где-то там в моём дальнем будущем
Удивлённо наверное будешь ты
Искривлять черты
Я обрадован, я обезумлен
Ты всё знаешь — умна и тонка
* * *
Он знал — манекен — и смеялся
И убивал на сцене
Я не в притихших кварталах,
С собою их больше взять…
* * *
Но я на беглых остановках злости
Не сяду мир переживать
* * *
Есть только ласки
Только ласк начало
Пугающий испуг
Вот так когда-то обезьяна простирала
К другой кольца косматые рук
И так же ветер рьяно надрывался
В ночных лесах…
* * *
Пойми и ты готов в гудящий дождь
Ладонью воду со стекла сметая
Всё думаю что ты уйдёшь
Незнаемая мной — чужая
Что мелок мир и мы не можем
Мы не умеем так
Любить другого до дрожи
До тёмной дрожи в руках…
* * *
В жизни своей не нашёл
* * *
Вопросительные глаза
Утвердительные кивки
Но за мной простирать нельзя
Две твоих голубых руки
* * *
Но за мною нельзя бежать
В одном платье под дождь
* * *
Сквозь листья молодого дерева
Просвечивает солнце
Тень молодого дерева
В ярких солнечных пятнах
Когда она вырастает
То тень густая и синяя
И может чёрная…
Не пропускают листья солнце
* * *
Был Блок, не дописал, ушёл
Пришёл Есенин под домами жаться…
Теперь и я ступил на белый пол…
Читая, перед всеми унижаться
Теперь вот мне под разговорный шум
Читать слова вам, думайте о всяком
Иль тайно, или прямо
* * *
А городок наш маленький и тихий
Я здесь умолк и ослабел и мил
Подставил плечи под ночные блики
* * *
Кого-то ещё после растревожит
Что люди заняты собой
А им не видно, они не замечают,
Что ходит мальчик и трясёт рукой
И на его приветствие ответив
Подходит девочка — они идут
И подставляют головы под ветер
И говорят что этот ветер грусть
Что эта ночь в молчании скрывает
Конец и дымно-серые пески
К которым твоя лодка уплывает
Под злым усильем неживой руки
* * *
И то что ущербные лица
Отмечены чертой стыда
И ждёт нас больница…
Метели и поезда…
Ничто нас уже не излечит
Весною ещё больней…
Мы кинем сутулые плечи
В объятия площадей…
Пусть мнут их дикие толпы…
Холодные взгляды летят
Что толку что в этом толку
* * *
Зелёная река
Спокойно воды катит
И я стою у рек
Зачем-то в скорбном платье
Принявший траур человек
* * *
Быть в пальто, быть незаметным малым
Среди всех других
Я — такой озабоченно и вяло
Ждать далёких книг
Тех, которые расскажут
Вот ты пережил
Ту голубую осень
И потерю сил
Потерянные блики
На тугих стеная…
Тень твоей смешливой шляпы
Дождь холодный и тягучий
И унылый страх…
«Всё что окружает — из грязи…»
«На тёмной туманной траве / Которая пахнет оврагом / И Блоком и прошлым веком…» — Александр Александрович Блок (1880–1921) — русский поэт-символист. Также, в контексте данного сборника, упомянут в стихотворении «За тридцать пять минут…» и в недоделанных текстах «Напиши об алости рябин…» и «Был Блок, не дописал, ушёл…». Подробные комментарии о поэте-символисте и его влиянии на поэзию Лимонова см. в первом томе настоящего издания.
«Из обычных человечьих предметов…»
«Лоб Сократа оно опаляло…» Сократ (ок. 469 года до н.э.— 399 год до н.э.) — древнегреческий философ. Был обвинён в том, что «он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества». Как свободный афинский гражданин, не был подвергнут казни, а — после приговора суда присяжных — сам принял яд. Сократ упомянут в стихах «Со своего пригорка мальчик подпасок…» из самиздатовского сборника «Азия», «Пей, Сократ, и виси, Христос!» из сборника «Ноль часов» и «Эллада» («Бородатые боги, загорелые боги…») из сборника «А старый пират…», а также в книге «Великие» (2017).
«На щите Александра играло…». Александр Македонский (356–323 годы до н.э.) — македонский царь с 336 года до н.э. из династии Аргеадов, великий полководец, создатель империи, распавшейся сразу после его смерти. Встречается также в стихотворении «Отрывок» («О Дарий Дарий…») из самиздатовского сборника «Оды и отрывки» и «Смерть Александера» из сборника «Ноль часов».
«В дымке Магелланова пролива…»
Магелланов пролив — узкий пролив, разделяющий архипелаг Огненная Земля и континентальную Южную Америку. Был открыт и преодолён испанским мореплавателем Фернаном Магелланом в 1520 году. Наряду с проливом Бигл и Северо-Западным проходом Магелланов пролив долгое время (до строительства Панамского канала) был одним из редких вариантов морских сообщений между Атлантикой и Тихим океаном.
«А потом мои сборники…»
«А потом мои сборники / Раскупают с прилавков / А потом поговорками / Мои станут слова…» — удивительно обнаружить в раннем творчестве Эдуарда Савенко (ещё не Лимонова!) такие сентенции, и остаётся либо сказать, что мы имеем дело с самовнушением на гениальность и успех и тонкой психологической настройкой, либо же просто поверить в то, что поэт мог что-то предощутить, предвидеть, предугадать.
Об одном из таких пророчеств см. комментарии к стихотворению «Саратов» («Прошедший снег над городом Саратов…») в первом томе настоящего издания.
«Частица байроновской тени…»
Джордж Гордон Байрон (1788–1824) — английский поэт-романтик. Наряду с Перси Шелли и Джоном Китсом представляет младшее поколение британских романтиков. Принял участие в Греческой войне за независимость (1821–1829).
«Осталось в мире Чайльд-Гарольдом / Закутавшись бродить…». «Паломничество Чайльд-Гарольда» — поэма в четырёх частях, впервые опубликована в 1812–1818 годы. Описывает путешествия и размышления пресыщенного молодого человека, который разочаровался в жизни, полной удовольствий и веселья, и ищет приключений в незнакомых землях.
«Утром выйдя из кельи…»
«И ещё когда твои руки / Тянутся долго ко мне… / Вот они дотянулись / И изогнуты плавно как лебеди / Лица моего коснулись…» — реминисценция из одного есенинского стихотворения:
Руки милой — пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.
Есенинские реминисценции нередко появляются в стихах Лимонова. Подробнее об этом см. комментарии к «Автопортрету с Еленой» из первого тома настоящего издания.
«Я был везде…»
«В Никитском ботаническом саду…». Никитский ботанический сад — государственный ботанический сад в Ялте. Расположен на Южном берегу Крыма между посёлком Никита и Чёрным морем. Юный подросток Савенко сбегал из дома и путешествовал по Крыму и Кавказу.
«Чушь» («Выпить бы сейчас ещё вина…»)
Стихотворение перечёркнуто, однако нам оно кажется вполне законченным.
«Из холодной страны… не уйти…»
Эмоции, выраженные в этом тексте, ещё будут встречаться у Лимонова в прозе и публицистике. Приведём несколько примеров.
Вот отрывок из эссе «Прекрасные еврейки» из книги «Апология чукчей» (2013):
А вот из рассказа «Рождественская пуля» (1997):
Примеры можно множить и множить.
«Когда умрём, за эти наши строки…»
«Но всё же там одной не досчитаются / Одну сожгу я в гибельную тьму…» — обретение данной тетради «Микеланджело» действительно можно считать чудом. Когда был составлен корпус текстов на четыре тома и казалось, что работа закончена, мы, уже переключившись на другую работу, обнаружили в Государственном литературном музее им. В. И. Даля, что есть такой корпус текстов, о котором мы даже не подозревали.
«Длинные, долгие мысли тревожные…»
«Мне остаётся — печальному Чацкому / Тешиться ролью своей…». Александр Андреевич Чацкий — главный герой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», предвестник сильного человека, «сверхчеловека» — нового социально-психологического типа в русской литературе, намного ранее его германской версии. Среди прототипов называют Петра Чаадаева и Вильгельма Кюхельбекера.
В книге «Другая Россия» (2001) Эдуард Лимонов рассказывает о посещении в 1996 году Совещательной палаты при Президенте РФ, куда он попал как лидер ныне запрещённой, а тогда совсем молодой и дерзкой партии НБП. Выбирался Комитет по обороне, и Лимонов полагал, что имеет шансы туда попасть. Однако, побывав на мероприятии, он понял, что не вписывается в российскую политическую действительность и наблюдает персонажей классической русской литературы (в том числе и себя):
«Эту влажность ночных мыслей…»
Купальщицы — один из классических живописных сюжетов, встречается у Эдгара Дега, Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Зинаиды Серебряковой, Казимира Малевича и т.д. Эдуард Лимонов, как большой знаток и любитель живописи (обратите внимание на его книгу 2018 года — «Мои живописцы»), мог откликнуться этим стихотворением на одно из известных полотен.
«Я стою передо мной перо жар-птицы…»
«Через век придёт за мною вслед / Ещё один Иван-дурак…». Жизненная программа, жизнестроительство, «медийный образ» оттепельного периода — как ни назови, а Лимонов периодически играл в Ивана-дурака и простачка. А в тексте «Мы — национальный герой» (1974) сформулировал это так: «В биографии каждого русского героя обязательно должно быть Иванушко-дурачество как метод, как стиль».
«Думаю — плывёт мартышка…»
Весь текст строится с помощью аллюзии на «Обезьяну» (1919) В. Ф. Ходасевича. Даже размер заимствован из этого стихотворения. Там лирический герой (поэт) наблюдает серба и обезьяну, которая пьёт воду из блюдца; та протягивает ему руку — и лирический герой пожимает её, всматривается в глаза и видит, как ни странно, историю человечества:
Я руки жал красавицам, поэтам,
Вождям народа — ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И, видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину — до дна души моей.
Лимонов переделывает «обезьяну» в «мартышку» (что более верно) и главный мотив: у Ходасевича был резкий переход от любования зверьком к началу Первой мировой войны (и определённая закономерность этой войны), у Лимонова же — скорее возвращение «мартышки» из эмиграции.
Думаю — плывёт мартышка
Глупая мартышка в чёрном трюме
В том стальном и пахнущем заводом
И безвыходностью что когда-то
Я в себе немыслимо носил.
И тут этот образ можно трактовать как самоощущение поэта, вынужденного жить во внутренней эмиграции; или же — как яркий животный образ (подмеченный Ходасевичем), который отвечает за сродность лимоновской безвыходности внутри советской культуры и невыносимости жизни за границей; или же — самого Ходасевича, возвращающегося к советскому читателю.
В нашем литературоведении принято считать, что Ходасевич появился в советском самиздате на рубеже 1940-х — 1950-х годов. Лимонов в этот период вряд ли бы заинтересовался его творчеством. А вот в начале и середине 1960-х, когда и сам стал писать стихи,— вполне.
Об этом есть свидетельство в романе «Молодой негодяй» (1986), где воспроизводится первое знакомство с творчеством поэта-эмигранта:
Этот отрывок из романа очередной раз доказывает, что мы верно датируем амбарную книгу «Микеланджело», он же показывает эволюцию поэта от подражаний Блоку, Есенину, Гумилёву к знакомству с творчеством Ходасевича и направлению «художественного почерка» в иную поэтику и, наконец, к выходу на Хлебникова и обэриутов и формированию собственного узнаваемого стиля (см. первый том настоящего издания).
В зрелые годы Лимонов тоже не забывал Ходасевича. В предисловии к поэтическому сборнику «Атилло длиннозубое» (2012) поэт обратил внимание читателей на важную для него преемственность:
30 декабря 2017 года Лимонов у себя в ЖЖ написал следующее:
Возвращаясь к центральному образу — к мартышке,— надо сказать, что и стихотворение «О мартышке в ледяной погоде…» явно является отголоском лимоновских раздумий:
О мартышке в ледяной погоде
О замёрзшей…
Нет я не могу об обезьянах
Не понять мне узкий лобик
Если даже рядом человека
Трудно мне и тяжело осмыслить
Отсюда можно предположить, что все наши трактовки центрального образа, связанные с размышлениями поэта об эмиграции, ещё раз подчёркиваются этим стихотворением: невозможно представить себя в иной, капиталистической реальности, находясь внутри СССР. И важно подчеркнуть, что уже в середине 1960-х, живя в Харькове, Лимонов задумывается об этом.
«И потом когда я уже умру…»
«Я горький бессловный стёртый неудачник / Маячил в мире сыпал слова / Иногда меня женщины занимали / И останавливали на немного / Иногда бывало и счастье / Тонкое тёплое пятно на полу / Я старался вызвать у вас участье / Но вы отворачивали скулу…». В принципе, эти строчки можно тоже назвать по-своему пророческими: здесь угадываются и биография Лимонова, и точно прописанные отношения с женщинами, и самоопределение, которое позже отразится в книге «Дневник неудачника, или Секретная тетрадь» (1977):
«Какая уж тут любовь…»
«А может положат вновь / В больницу для слабонервных / В объятия докторов… / Или уйду по подъездам / Проклятые песни петь / По целым неделям нетрезвым / И прямо в глаза не смотреть / Я бросил бы вас всё равно / Красивая мамина дочка / И мама была права…». Эти строчки обращают нас к истории попадания молодого Эдуарда Савенко в харьковскую областную клиническую больницу, в народе именуемую «Сабуровой дачей». Из-за несчастной любви и подростковых переживаний поэт решил порезать вены. Его вовремя нашли родители и отправили в «Сабурку».
В романе «Молодой негодяй» (1986) вся эта история подаётся следующим образом:
Вносит дополнительных красок в эту ситуацию одно из предыдущих стихотворений:
Ну что же — два года
Успокоен… лишь изредка расшевелит
Меня вдруг ваше появленье
И в память прошлого — смущенье
На пыльном теле плит…
Тогда я поклонюсь неловко
И по забытому — губами
Скажу «Салют»
Ответишь робко…
И мы пойдём опять одни
Ты шла навстречу
Ты светилась
Ты может со звезды свалилась
Но должен я пройти
А ты опять в чужую школу
Ещё раз подчеркнём: раз поэт прописывает, что прошло два года (а в «Сабурку» он попал в 1962 году), то разбираемые стихотворения можно датировать 1964 годом.
Возможно, именно эта Валентина (впрочем, уже в следующем стихотворении «Можно все ночи подряд просиживать…» появляется строчка «Сравненье не в пользу — Таня») подразумевается в тексте «Русское» (1971) из первого тома настоящего издания:
Доподлинно установить, что за девушка скрывается за именем Валя, на данный момент не удалось.
В фильме «Русское» Александра Велединского, объединившем мотивы всей «харьковской трилогии» Лимонова («У нас была великая эпоха», «Подросток Савенко», «Молодой негодяй»), подруга Эдуарда фигурирует под именем Светка. Александр Велединский по нашей просьбе прокомментировал это сценарное решение:
Также Александр Велединский объясняет, почему «еврей-психопат Зорик» (см. вышеприведенную цитату) в фильме назван Магелланом: «Магеллан — кличка пацана из моего двора, который всегда убегал из дома и попал за это в психушку».
«Скрипки поют…»
«Но ко всему привыкла Сумская / Ничего её не удивит…». Сумская улица — главная улица города Харькова. Лучше всего будет обратиться к роману «Молодой негодяй» (1986), где Лимонов сам рассказывает, чем эта улица ему важна:
«Прапорщиком стройным…»
«Нечёсанного коммуниста… / Отправить на тот свет… / Когда черёмуха пахнет… / И голова болит… / От тяжкого-тяжкого бреда… / Степного…». Возможно, здесь реминисценция из стихотворения «Расстрел» (1927) В. В. Набокова: Лимонов, примеряя на себя роль царского прапорщика, меняет ситуацию расстрела — не коммунист расстреливает царского офицера, а наоборот. И везде есть черёмуха — как мирный и далёкий от Гражданской войны образ.
У Набокова было так:
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывёт кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею,—
вот-вот сейчас пальнёт в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснётся тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.
Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звёзды, ночь расстрела
и весь в черёмухе овраг.
Нельзя определённо говорить о знакомстве юного поэта Савенко со стихами Набокова, но прозу Владимира Владимировича он точно читал и знал, об этом есть свидетельство, пусть и художественного свойства, в «Подростке Савенко» (речь об Асе Вишневской и её семье — репатриантов из Франции):
«Румынская рапсодия» («Бульвары рыжие… беда… бессонница…»)
«Приходит ко мне Пруст… / Марсель… тот самый известный… / Основоположник… / Автор… тысяч бредовых страниц…». Валентен Луи Жорж Эжен Марсель Пруст (1871–1922) — французский писатель. Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени».
В эссе «Запахи и звуки», опубликованном в книге «Апология чукчей» (2013), есть небольшой фрагмент, посвящённый Прусту:
Марсель Пруст также встречается в стихах «Генка» («Я помню Генку в «Лангустин»…») и «Кавафис» («Кавафис пел свиданий стыд…») — но не как персонаж, а скорее как шлейф от знакомства с переводчиком Геннадием Шмаковым.
«Infant perdu» («Я потерян для близких и Родины…»)
Infant perdu, правильно будет Enfant perdu — в переводе с французского «потерянный ребёнок».
Стихотворение восходит к одноимённому тексту Генриха Гейне. Представим его в переводе М. Л. Михайлова (1864):
Забытый часовой в Войне Свободы,
Я тридцать лет свой пост не покидал.
Победы я не ждал, сражаясь годы;
Что не вернусь, не уцелею, знал.
Я день и ночь стоял не засыпая,
Пока в палатках храбрые друзья
Все спали, громким храпом не давая
Забыться мне, хоть и вздремнул бы я.
А ночью — скука, да и страх порою.
(Дурак лишь не боится ничего.)
Я бойким свистом или песнью злою
Их отгонял от сердца моего.
Ружьё в руках,— всегда на страже ухо…
Чуть тварь какую близко разгляжу,
Уж не уйдёт! Как раз дрянное брюхо
Насквозь горячей пулей просажу.
Случалось, и такая тварь, бывало,
Прицелится — и метко попадёт.
Не утаю — теперь в том проку мало —
Я весь изранен; кровь моя течёт.
Где ж смена? Кровь течёт; слабеет тело.
Один упал — другие подходи!
Но я не побеждён: оружье цело,
Лишь сердце порвалось в моей груди.
«Манекеном парижской витрины…»
«Вы верно видели, видели / Ночью Жерар Филипа…». Жерар Филип (1922–1959) — французский актёр театра и кино, обладатель премии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (1990, посмертно).
В том числе Жерар Филип сыграл Виконта де Вальмона в одном из любимых фильмов Эдуарда Лимонова — «Опасные связи» (1959). Так или иначе, это нашло своё отражение в стихотворении «Жена бандита» (комментарии к нему см. в третьем томе настоящего издания):
Роза стоит в бутыли
Большая роза прекрасна
Она как большая брюнетка
Как выросшая Брук Шилдс до отказу
А кто же принёс мне розу?
Её принесла мне… подруга
Подруга — жена бандита.
Люблю опасные связи…
Девять тетрадей (1968–1969)
«Девять тетрадей» — это свод рукописных текстов Лимонова, присланных из Нью-Йорка составителям этой книги вдовой художника Вагрича Бахчаняна Ириной Бахчанян.
В «Девяти тетрадях», помимо вошедших в это собрание стихов, дневниковых записей, эссе и коротких рассказов, содержатся ещё десятки не приведённых здесь неоконченных набросков, публикация которых потребует отдельной научной работы и специального издания.
Стихи публикуются по авторской рукописи. Сохранена авторская пунктуация, за исключением тех случаев, когда отсутствие знаков препинания может нарушить смысловую связь в стихотворении.
«Девять тетрадей» предваряются авторским пояснением: «Эта серия черновиков состоит из девяти (9) тетрадей. № 1, 2, 3, номер 4 — толстая 48-листовая тетрадь, 5, 6, 7, 8, 9.
Время начало первой тетради — 12 июня 1968 г.
Время окончания девятой — 9 мая 1969 года.
Места, в которых я жил во время написания в этих тетрадях:
ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ
Помимо вошедших в данную книгу и помещённых в этом разделе, в «Первой тетради» также содержатся четыре стихотворения Лимонова, дублирующиеся в другом сборнике. Это «Смешение…», «Я люблю темноокого Васю», «Красивый брат кирпичный дом» и «Граммофон играет у Петровых…». С ними можно ознакомиться в первом томе, в разделе «Не вошедшее в книгу «Русское»: из сборника «Некоторые стихотворения»».
Кроме того, в «Первой тетради» содержится девять перечёркнутых автором стихотворений и несколько незачёркнутых строк или строф, которые мы не можем классифицировать как отдельные стихи, но готовы привести здесь, в примечаниях.
* * *
Любовь лежит средь зала на скамейке
Её немного…
* * *
Вдали гулящим Леонидом
Шумела скучная Москва.
А я тогда сидел, читая,
И прочитавши — созревал…
Меня никто не может бросить.
* * *
мой малюсенький мой красавчик
говорила она ему
вот поставлю лекарство в шкафчик
и тогда тебя обниму
* * *
весела весела моя жизнь
далека далека моя плоть
Моя точная добрая рука
И моя тишина волоска
Редкий гость завернёт. за щекой
и шипит и тоскует вино
Редкий гость да и то он не мой
и ему до меня не дано…
Ночь на байковом на простынном
И на цветах сидя у окна
грустная бедная чернильница
моя крошечная вдова
* * *
настало утро кран горел
и глаз велел
и крайний крюк блестел
на нём костюм висел
я яро пел
вихрились вдали мечты
Заливаемый солнцем
как одинокая мышь
в пьяном поле
я в квартире лежу
* * *
О беды, бурые руки
и помню и помню и да
какие-то бурые руки
протянутые туда
мололи мы дни совместно
она, я, да мама её
и город застроенный тесно
и лаковый вырез свечей…
* * *
Фонарные свечи затухли
пришёл на плече он принёс
тусклые новые туфли
и встал… этим в землю он врос
и было то место глухое
и славилось мною оно
ничто я не знал и не видел
и только картины сжимал
* * *
Нет ничего на фоне странной книги
Шумит вино и льётся пот
вечерний, праздничный,
на что-то севший
Шумит свеча и не встаёт
Ограблен я вчера и вот…
* * *
дух-то будет стоять хороший,
станут пахнуть растений ряды
нисколько не жаль своей тёмной кожи
и не густой голубой бороды
* * *
О дым от дам!
«А бабушка моя была прелестница…»
Вероятно, речь идёт о Вере Мироновне Савенко (в девичестве Борисенко). Лимонов упоминает её в нескольких книгах. Они виделись всего один раз: Вера Мироновна приехала в Харьков в 1958 году и привезла пятнадцатилетнему внуку игрушечный мотоцикл, а чтобы было забавно, посадила в него варёных раков. Когда она осознала конфуз, было уже поздно. В романе «У нас была Великая Эпоха» сказано:
В книге «Седого графа сын побочный» Лимонов пишет:
«Была мне страшна телеграмма…»
Возле стихотворения поставлена дата написания — 12 июня. Имеется в виду: 1968 года.
«В дни печального тихого пенья…»
«Только пальцы мои средиземны / Только тоньше и ярче лицо». Свою инаковость от пролетариев Лимонов всегда отличал. Сравните с отрывком из романа «Подросток Савенко»:
А восходит эта яркая деталь к отцу писателя В. И. Савенко; в романе «У нас была Великая Эпоха» Лимонов признавался:
«Я зайду завтра утром в этаж…»
Стихотворение датируется в рукописи 15 июня.
«О виктор, виктор…»
«О виктор, виктор / мне твоя / необходимая подмога / о виктор ты ушёл в небытие. / виктор ты теперь у Бога // Помню как играл ты летом / на аккордеоне / как сидел ты на крылечке / пальцами сверкая…». Вероятно, речь идёт о Викторе Немченко — приятеле харьковского периода. Также встречается в стихотворении «Рыбки в тине…». В книге «Подросток Савенко» Лимонов описывает его следующим образом:
«Школьник обольстительно стихами…»
«Блока замечательного Блока / ещё раз призвав на труд / школьник прочитавший Блока / девочку волнительно влюбил». Александр Александрович Блок (1880–1921) — русский поэт-символист. Подробней см. о нём комментарии к идиллии «Золотой век» (том I).
«К морю приехав давно-давно…»
«Шли по кромке воды и песка / море черно катилось на вас / Вы подбирали тухлую рыбу / и подобрать ещё могли бы / но надоело здоровие вам / вот вы легли, и вам / всё всё равно на данном свете / так ли не так ли». Сравните с отрывком из «Книги воды» — там не всё так идиллично и накатывающееся на героя море представляет серьёзную опасность:
«Через утварь что в комнате стонет…»
«…и проходит вся ночь в постановках / и в немых спектаклях для двух / что хочу — то себе и устрою / кроме только убийства что жаль». Подобный мотив встречается у Лимонова не раз. Сравните, например, с отрывком из романа «Это я — Эдичка» (там ситуация иная и в то же время очень похожая):
«Жара. Уж пышная сирень…»
Стихотворение датируется 20 июня.
«Как вчера зажигали Кручёных…»
Стихотворение датируется 21 июня 1968 года.
Алексей Елисеевич Кручёных (1886–1968) — поэт-футурист. Похороны Кручёных подробно описываются Лимоновым в «Книге мёртвых» (2000).
«И придёт Лиля Брик под зонтом». Лиля Юрьевна Брик (урождённая Лиля Уриевна Каган; 1891–1978) — литератор, любимая женщина Владимира Маяковского, старшая сестра французской писательницы Эльзы Триоле, жены известного французского писателя Луи Арагона. Лиле Брик посвящена глава в «Книге мёртвых» (2000).
«Жил неподвижно в зимней столице…»
«Нет, говорит, очевидно, что в мае / Мы, Генрих Вениаминович, / С божьей помощью и помрём». Генрих Вениаминович Сапгир (1928–1999) — поэт, сценарист, переводчик. Подробней о нём см. комментарии к поэме «Автопортрет с Еленой» (том I).
«Горячие ворота вертелися на месте…»
Стихотворение датируется 22 июня.
ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ
Три стихотворения из «Второй тетради» дублируются в других сборниках. Это «Я люблю тот шиповник младой…», «Школьница шепчет в корыте…» (см. в разделе «Не вошедшее в книгу «Русское»: из сборника «Некоторые стихотворения»») и «Вторая тетрадь грамматики…» (см. в разделе «Не вошедшее в книгу «Русское»: из сборника «Прогулки Валентина»»).
Во «Второй тетради» также содержится десять зачёркнутых автором стихотворений, не вошедших в данную книгу, и несколько незачёркнутых строк или строф, которые мы не можем классифицировать как отдельные стихи, но готовы привести здесь, в примечаниях.
* * *
Я пришёл в литературу
С окровавленной башкой
я литературу дуру
о́бнял левою рукой.
* * *
27 июня.
Огней волшебных блюдом
Поданных мне вечером
Я счастлив очень буду,
сидя на террасе с книгой.
* * *
Уехали в слезах из Ярославля
Такое было… если рассказать.
* * *
29 июня.
Толщает наша вся погода
Иван к любовнице идёт
Посреди жаркого народа
На лбу всю кость покрыл ей пот.
Она сидит, как обезьяна,
Её нога чечётку бьёт
Посередине он дивана
Садится тоже человеком
и тёмный палец у Ивана
и розовая, своим боком
и мыслей нет иных
и каплет своим соком.
* * *
Я люблю водопад старины,
когда креслы ободраны
и стоят посередине страны
не сидят на них чуждые штаны
Вот и в зал не войдёшь так
перед тем, как войти, сплюнь
ещё лучше замкни глаза
у тебя твоё сердце — как?
Секунды сухие висят
отдайте Софоклову кость
а то никого не задеть
и стрелке совсем часовой
Живой.
* * *
Некто на диване ногами на паркете
весело скучает, час его мигает
голубые иглы или голодавка
о бесценный сосуд для цветов
В прорези разумной виден бюст и шляпа
Виден край рубашки выброшенной вон.
Я костлявый и вечерний
грустный кавалер.
«и вот я на тёплых досках…»
«как записывали в семёновцы и преображенцы / своих сосунков дворяне-отцы». Имеются в виду Семёновский и Преображенский полки. Оба были сформированы Петром I в 1691 году: первый — из потешных села Семёновского, второй — из потешных села Преображенского.
«Я запомнил в страстных линиях прекрасных…»
Стихотворение датировано 1 июля.
«В двенадцать в чужой квартире…»
У стихотворения обозначены датировка и место написания: 4 июля, Харьков.
«Люблю я ту тихую песню…»
«И в ней хулиганы мелькнут / знакомые скучные хулиганы / и странная Света мелькнёт / далёкая скучная Света». На тот момент, может быть, уже и далёкая, и скучная, а пару лет назад эта девушка была роковой любовью поэта. В романе «Это я — Эдичка» Лимонов описывал её так:
«За мостом бесцельно простиралось поле…»
«…над нами предводителем Санька Красный был / мясник огромный толстый». Саня Красный — приятель харьковского периода. Подробней о нём см. комментарии к стихотворению «Если вспомню мясника Саню Красного…» (том I).
«Обнять этот много раз грешный белый живот…»
«Один называется Кулигин, другой — Мотрич, но это не Кулигин, не Мотрич, а условные обозначения моей судьбы, её прошлого». Владимир Михайлович Мотрич (1935–1997) — поэт, товарищ Лимонова по харьковскому периоду. Единственная его книга вышла в 1993 году в Харькове. В. М. Мотрич — один из героев романа Лимонова «Молодой негодяй» (1985). Также он упомянут в стихотворениях «Я всё жду — счас откроются двери» из «Пятого сборника», «Город сгнил. Сгнили люди…», «Мать Косыгина жила / может быть и живёт / в Харькове…» из сборника «Прощание с Россией» («Седьмой сборник»), в не вошедшем в книги стихотворении «Вот порадовался б Мотрич…», в идиллии «Золотой век», в тексте «Мы — национальный герой». Подробнее о Мотриче см. в комментариях к стихотворению «Вот порадовался б Мотрич…» и «Я люблю ворчливую песенку начальную…» (оба — в томе I).
Анатолий Кулигин — также харьковский товарищ Лимонова, сочинитель, упомянутый в стихотворении «Никто не идёт за мной ночью домой…» (см. в разделе «Не вошедшее в книгу «Русское»: из «Пятого сборника»»). Подробнее о Кулигине см. в комментариях к стихотворению «Никто не идёт за мной ночью домой…» (том I).
«Был двенадцатый час…»
«…как Вета Волина столь когда-то близкая девушка». Вета (Бета) Волина упоминается в книге «Подросток Савенко» как девушка, в которую Лимонов был влюблён до Светы. В романе это описывается следующим образом:
«О планы, планы!..»
Стихотворение датируется 16 июля 1968 года.
«Подобно пилигриму в роще…»
Стихотворение датируется декабрём 1968 года.
ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ
На обложке «Третьей тетради» написано от руки: «Фигуры мерцали в глазах, / А я перестал быть в гостях».
В рукописи содержится 19 зачёркнутых стихотворений Лимонова, не помещённых в данное издание. В «Третьей тетради» также есть несколько незачёркнутых строк или строф, которые мы не можем классифицировать как отдельные стихи, но готовы привести здесь, в примечаниях.
* * *
Я помню протяжно и ленно
дымящийся ваш огород
Горячими листьями вея
он славно, он южно живёт.
Всё в нём — кабачки, абрикосы
И только не можно понять
зачем за дымком папиросы
приходится платье обнять
Всё вольное, вольное было
Всё пахло, вертелось.
* * *
Лето кончилось. Гибель настала
Меня в шапке проводит мать.
Кроме того, в «Третьей тетради» есть две записи, которые мы решили не помещать в основном составе книги, но приводим здесь.
«Спокойно кончилось и тихо…»
Стихотворение датировано 24 июля 1968 года.
Дневниковые записи
«Я всегда буду стройным худым загорелым в белых брюках. Эй, Эд. Что? Я никогда не умру и не стану старым. Я поэт». С одной стороны, здесь есть русская исповедальная нота, выраженная тем же Сергеем Есениным: «Положите меня в русской рубашке под иконами умирать», то есть умирать в белых и чистых одеждах. Но при этом Лимонов, ощущающий себя молодым гением, умирать — в символическом и культурном плане — не собирается, ибо продолжает воздвигать себе «памятник нерукотворный». А с другой стороны, сравните с абзацем из «Дневника неудачника»:
Ещё можно вспомнить рассказ «Ист-сайд — Вест-сайд» из книги «Американские каникулы», где рассказчик в шикарном белом костюме оказывается среди ночи в самом настоящем негритянском гетто — и это выглядит как вызов:
«Поэт Лимонов имеет огромное преимущество перед простыми смертными — он может выдумать девочку подросткового типа и может сделать, будто бы она приходила». Этот мотив повторяется не раз в различных поэтических и прозаических текстах — достаточно вспомнить «Последние дни Супермена», где заявленная ситуация воспроизведена.
Эта же ситуация воспроизводится в стихотворении «Три положения рабочего» (в его III части) и в книге «У нас была великая Эпоха…» (1987).
«Было всё летом…»
«Я сидел на скамеечке в городском парке под вечер. Подходит Иванов Леонид, которого я не очень-то долюбливаю». Встречается также в «Дневниковых записях». См. о нём комментарии к стихотворению «Я всё жду — счас откроются двери…» (том I).
«Рыбки в тине…»
«Виктор, Виктор дед ваш ходит / и под яблоней лежит / кирпичом дорожку мостит / бражку пьёт и сон глядит». Имеется в виду Виктор Немченко. Также встречается в стихотворении «О виктор, виктор…». А показанная в стихотворении ситуация отчасти отображается в книге «Подросток Савенко»:
«В этой сонной стихии…»
«Тут ночами в подтяжках / гуляет Петров. / Это он изувером / это он анархистом / здесь он жил и молился / этот странный Петров». Под Петровым может иметься в виду Григорий Константинович Петров (1892–1918) — левый эсер, один из 26 бакинских комиссаров; но вообще Петров крайне распространённая фамилия — в том числе и в среде русских революционеров. Встречается также в стихотворении «Прекрасен приезд в сонный город авантюриста!..» (том I).
«По темноте, за манием руки…»
Стихотворение датировано 4 сентября.
«За редиску из флага…»
Стихотворение датировано 5 сентября.
ЧЕТВЁРТАЯ И ПЯТАЯ ТЕТРАДИ
Здесь мы видим две тетради (четвёртую и пятую), объединённые в одну.
На внутренней стороне обложки четвёртой тетради Лимоновым написано от руки:
На внутренней стороне задней обложки от руки написаны Лимоновым следующие фразы:
«Четвёртая и пятая тетради» содержат 20 зачёркнутых, оконченных и неоконченных стихотворений Лимонова, а также неоконченную поэму «Пузырёк», которую мы приводим здесь.
ПУЗЫРЁК (поэма)
Порою тихою ночною
когда заснуло всё подряд
и развлекаясь тишиною
лишь только некоторые не спят.
Вот в это время и случился
со мной печальный анекдот,
Которым я потом пленился,
и он теперь со мной живёт.
Я буду умирать когда-то
и, собираясь умирать,
я вспомню мамочку и брата,
с которыми шагал гулять.
А осень, это была осень
деревья сыпали листву
специально, будто кто-то просит
валили валом на траву
Трава сама уж погибла,
на ней набросано ещё
куски газет, зачем-то иглы
и лужи медленные сплошь.
Бежала рядом моя тень,
сливаясь с родственной порою
и был прекрасный яркий день
но были тучи над горою.
Немного лет мне — лишь пятнадцать
Пишу стихи, хожу гулять
по алгебре мне надо заниматься
и повторить, и почитать…
Кроме того, в «Четвёртой и пятой тетрадях» размещены три незачёркнутых, но, судя по всему, неоконченных стихотворения, которые мы приводим здесь.
* * *
Ваша волна ни по что
Ваше стекло не для Вас
Чьих-то отдельных волос
Вам я напас.
* * *
28 или 29 сент.
Пусто в овраге нет никого
Нет никого и совсем черно
В жёлтом ручье плывёт доска
Праздник прошёл, засыпать пора.
Я в свои пуговицы нагляжусь,
да и крупою своей накормлюсь,
и я поеду на пруд с мешком
ночью за водорослью и тростником.
Там я сниму калошу свою
шляпку свою, положу свой зонт,
жилет, из-под горла романский бант
я отвяжу и отложу
Порции рыб средь воды шелестят
мокры деревья над нею кишат
красный на то и козловский свет
* * *
Предназначен я для жизни вот какой
Близко моря мне служить рабочим
Комнату снимать у бабушки седой
со французским языком, шкафо́м и прочим
И тепло своею кожей принимать
за все тридцать три столетья
Ручкой ученической писать
на окне и на столе в отрепьях
и растенья очень обожать, и хо́лмы
жизни, без них бедных не иметь
Каждый день записывать число
купаясь в море, заболеть.
Также в «Четвёртой и пятой тетрадях» есть несколько прозаических отрывков, которые не помещены нами в основной раздел, как не имеющие самостоятельной ценности, мы приводим их здесь.
«Под правым боком — лес лежал…»
Стихотворение датируется 5 сентября. Имеется в виду: 1968 года, как и далее.
«Маша»
«Она всегда иногда раньше заводилась истерически хохотала и переводила немецких поэтов. Например, Кляйста». Генрих фон Клейст (1777–1811) — немецкий драматург, поэт и прозаик.
«Бумаги варёные…»
Стихотворение датируется 30 сентября.
«Стоит человеку…»
«Мои глаза раздражились от цвета голубого от обширности небесного предмета, т.е. воздуха и от его голубого цвета. Но кто сказал да. Кто сказал нравится. Кто отдал команду смеяться. Глаза ведь они только раздражились. И всё. Считаю, что внутри меня какой-то аппаратик зарегистрировал это раздражение». Эту идею много позже Эдуард Лимонов разовьёт до того, что мы по сути своей биороботы. Это отразится в стихотворении «Мы — биороботы…» из сборника «Мальчик, беги!» (том IV):
«Мы — биороботы. И то, что мы восстали,
Построили орудия из стали,—
лишь доказательства, что коды ДНК
нам набирала умная рука».
Подробней об этом читайте в книге «Illuminationes» (2012):
«Я потом, когда стану любезней…»
Стихотворение датируется 13 декабря.
«Я знал когда-то очень многих…»
«Подпрядова вот — например…». Подпрядов — приятель Лимонова. Встречается также в идиллии «Золотой век» (том I).
«Нежный ночью слышен шум…»
Стихотворение датируется 17 декабря.
Три положения рабочего (III. «вошла мне в комнату жена моя…»)
Описанный в стихотворении эпизод также встречается в «Дневниковых записях» из «Третьей тетради» и в книге «У нас была Великая Эпоха…» (1987).
«Сумерки белые платья содрали…»
Стихотворение датируется 17 декабря.
«Бледные руки, пахнущие мочой…»
Стихотворение датируется 18 декабря.
«Спать желается очень сильно…»
Стихотворение датируется 20 декабря.
«Задолго до меня жил прадед…»
«Задолго до меня жил прадед / высокий ловкий осетин». Мы уже касались этой истории, когда комментировали стихотворения «А Киев мирно он лежит…» и «как немчура приехал я на дачу…» (том I), но сейчас можно привести более развёрнутые размышления и разыскания Эдуарда Лимонова из книги «Седого графа сын побочный»:
ШЕСТАЯ ТЕТРАДЬ
«Шестая тетрадь» содержит около 65 зачёркнутых стихотворений — отдельные из них написаны целиком и перечёркнуты, у отдельных написаны только первые строки, у отдельных вычеркнуты только последние строфы.
Также в «Шестой тетради» есть ряд отдельных строк и строф, которые мы не можем расценить как отдельные стихи, но приводим здесь, в примечаниях.
* * *
В европейском поле бегают собаки.
* * *
Наталья, экзерси́с одинокий
я помню беды, что толкали меня
Наталья, упокой меня боже
только я дотянусь до тебя
И были живы те, к которым восклицали
к которым звали мы,
А нас ведь нет совсем
я помню Вас живой,
прекрасная Наталья,
Ах, пусть уж сотня лет
Или ещё того.
* * *
Луна никогда не пойдёт на зверей
Те звери мохнатые шкуры
и белые доски слепых берегов
ползут вдоль воды постепенно…
* * *
Белой красавицей голой и ма́сляной
в коже, как в красивом мешке
лежала она и щёки накра́снены
и ботинки стояли внизу на полу.
* * *
И ночные жёсткие растенья
У пустыни дети неприятные.
мёртвые зудят с песком совместно
стукают о доски аккуратные.
* * *
2 января 1969 г.
И я был жив когда-то, запутанно-великий
Имея вид неловкий и длинное пальто
Ломалась шея тонкая,
трещал и туфель тёплый.
* * *
О любви, да господи, да что вы
Разве можно в слове о любви
Снимешь прочь одёжные оковы
и совместно счастие лови…
* * *
С банкою восточной кушал я икру
На дороге древней ел я колбасу
и на табурете вечернею порой
находилось моё тело свеженовое почти.
* * *
11 января 69 г.
Были сны драгоценны, а дни растяжимы
были ве́черы пышны, а воздухи наги…
с деревянных скамеек не слезали ребёнки
и далёкие листья светились, качались.
* * *
Зачем страдающую шапку
так очень рано ты надел
Зелёной ночью не играешь
ещё ребёнком, а молчишь.
* * *
Холодно…
Тихо господь пропитание ищет, ссутулясь.
* * *
Основное — чтоб жена жила
Ранее меня не умирала
Был бы мне её большой живот
под пропахшим нами одеялом.
* * *
Подбородка-то нету у сего мужика
Ну а это ведь главное — ха-ха-хи, ха-ха-ха!
«Была здесь чудная больница…»
Стихотворение датировано 24 декабря.
«Обступает меня жёлтый гул…»
«В это утро Москва, как петух / Я одет во второе пальто / Из широких сырых рукавов / руки белые вьются вперёд ⟨…⟩ / Как приехавший из деревень / я стою возле них целый день». Ср. с воспоминаниями Ю. М. Кублановского:
«Меж теми же садами, и в тех самых вишнях…»
Стихотворение датировано 10 декабря.
«Под скалою три женщины снялись…»
В этой же «Шестой тетради» есть иной вариант этого стихотворения.
* * *
Под скалою три женщины
снялись у южного моря
нам невидимо море, но точно присутствует шум
Это пенье глухое сидит на лице у еврейки
и у крайней у правой, и у левой также сидит
Всякий в волосы вдвинул веточку с явным
но неизвестным неразглядимым южным цветком.
Так и осталось надолго, пока не сгинет фотограф.
волоса и цветки, и в солнечных пятнах скала.
«Разрушил я Данте, разрушил Петрарку, Боккаччо…»
Данте Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, автор «Божественной комедии». Франческо Петрарка (1304–1374) — итальянский поэт. Автор сборника сонетов и канцон, посвящённых Лауре. Встречается также в стихотворении «Пелена снегов. одеяло снега…» (том I). Джованни Боккаччо (1313–1375) — итальянский писатель и поэт, автор «Декамерона».
«В горячо обнажённых квартирах…»
Стихотворение датировано 12 января. Имеется в виду: 1969 года, как и далее.
«По крайней мере рано утром встанешь…»
Стихотворение датировано 13 января.
«Это очень красиво, ребята…»
«…что калош и дырявый и серый / послуживший весь век Каллистрату». Каллистрат — древнегреческий писатель, представитель софистики, живший приблизительно в III–IV веках н.э.; автор «Экфрасисов».
«Хорошо вечернею порою…»
В рукописи обозначена дата написания и авторское примечание: «16 января 69 г. купив две красного по 0,75».
«Не одной удачи, в зале кинотеатра…»
«Люпус хомус эстум, говорили греки / Ну, а мне зачем же радость латинян». Неверная запись поговорки Homo homini lupus est («Человек человеку волк»).
«Может быть, я Август или Бьонапарте…» Октавиан Август (63 год до н.э.— 14 год н.э.) — древнеримский император, основатель Римской империи. Наполеон Бонапарт (1769–1821) — французский император и великий полководец.
«Саша. Величанский / вспоминая о тебе…»
Александр Леонидович Величанский (1940–1990) — русский поэт и переводчик. Член «Самого молодого общества гениев» (СМОГ). Автор слов песни «Под музыку Вивальди».
«Имеет то место нетвёрдую почву…»
Стихотворение датировано 18 января.
«Едучи по некоему троллейбусному пути…»
Стихотворение датировано 3 февраля.
СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ
«Седьмая тетрадь» включает в себя около 25 зачёркнутых стихотворений — как дописанных до конца, так и неоконченных.
Входящее в «Седьмую тетрадь» стихотворение «Понедельник полный от весны весь белый» дублируется в классическом составе сборника «Русское» (см. «Из сборника «Прогулки Валентина»»), но с изменённой последней строкой. В «Седьмой тетради» строка выглядит так: «Вот бы увидали, вот бы подошли». В окончательном варианте так: «Вот бы увидали до скончанья дней».
Помимо того, в «Седьмой тетради» есть два, по-видимому, неоконченных стихотворения, которые мы приводим здесь.
* * *
Больные в воздухе немного полетают
Затем они раздетые дрожат, лежат
на лавках их печали омывают
и каждый утонул в белье
На голове своей студёной носят бубны
Огромными ногами разговаривать прости
и много выделений заструилось
По их ногам — знакомому пути
Больные в качестве своём едва лишь живы
Количество их подымает жалкий визг.
* * *
Я любил у женщин каждый уголок
Каждую минутку пожимал им плечи
И во время всякое гладил их чулок
чувствовал я вкусность женской сладкой речи
Под её подмышкой так уютно тихо
Слабый свод колеблется, дышит и дрожит
А между грудями грустно и обидно
А живот безумнейший плачет да молчит
Среди ряда всяких незнакомых грустно
меж собой ненужных на земле
Мне всегда мила твоя нога,
Уходящая к тебе под платье…
«Я помню дни прекрасные природы…»
Стихотворение датировано 4 февраля 1969 года.
«Зимним сном и страшным, юным…»
Стихотворение датировано 5 февраля 1969 года.
«Утекло у жизни многих нас…»
«…сколько украинских их степей и вишен / ⟨…⟩ Вот и полем гречки занозил / я когда-то ум свой и неловкий». У Эдуарда Лимонова есть два символа Украины — вишня и гречишные поля. Их он вспоминает часто и в стихах и в прозе. Вот, например, отрывок из эссе «О вишнях» из книги «Дети гламурного рая»:
«Эдинька, что тебе делать…»
Стихотворение датировано 24 февраля 1969 года.
«Потно было на небе широком…»
Стихотворение датировано 25 февраля 1969 года.
«Вот странные тяжёлые листы дорог…»
Стихотворение датировано 28 февраля.
«Я ведь, братцы, помру, и никто не узнает…»
«…чтобы Игоря мне провожать в Свердловск» — имеется в виду Игорь Васильевич Ворошилов (1939–1989) — художник, представитель неофициального искусства. Также писал стихи и прозу.
Ему посвящено стихотворение Лимонова «Где этот Игорь шляется?» из сборника «Прощание с Россией» («Седьмой сборник»), он упомянут в стихотворении «Эх Андрюша Лозин — деньги ничего…» из того же сборника, в стихотворении «Эпоха бессознания» из сборника «Мой отрицательный герой». О Ворошилове рассказывается в одной из глав «Книги мёртвых» (1999):
«А шестого приедет удивительный Вовка…». Владимир Дмитриевич Алейников (р. 1946) — русский поэт, прозаик, мемуарист, один из основателей «Самого молодого общества гениев» (СМОГ).
«Придёт Саша Морозов, другие друзья…». Александр Григорьевич Морозов (р. 1944) — русский писатель, член «Самого молодого общества гениев», лауреат премии «Русский Букер» (1998).
«Знаю Стесина в жизни в полосатом костюме…». Виталий Львович Стесин (1940–2012) — русский художник. Валентин Воробьёв в «Новой газете» («Инопланетянин в человеческом образе», 25 ноября 2005 года) вспоминал о нём так:
В очерке «Московская богема» уже сам Эдуард Лимонов вспоминал Стесина следующим образом:
«Лёгкие дневные часы стучат…»
Стихотворение датируется 18 марта.
ВОСЬМАЯ ТЕТРАДЬ
«Восьмая тетрадь» включает в себя около 55 зачёркнутых стихотворений — как дописанных до конца, так и неоконченных.
В составе «Восьмой тетради» находится стихотворение «Он любил костистых женщин и восточных», которое дублируется в разделе «Не вошедшее в книгу «Русское»: «Стихотворения гражданина Котикова»», а также «Милая спящая равнина степная…», вошедшее в самиздатский сборник «Прогулки Валентина».
Также в составе «Восьмой тетради» есть как минимум два стихотворения, которые мы не решились классифицировать как законченные стихи и поэтому приводим их в составе примечаний.
* * *
Горбатая большая ангелица
от матери, от доктора сбежав
шумит крылами и идёт хромая
по дну оврага еле молода
* * *
Когда стоял я в тёмный день
На площади Матраца
Явилась тёмная мне ночь
на площади Матраца кусты
и проползая сквозь
растений страшных на окне,
она стремилась в гости мне
Большая и так тихо…
Я в это время на груди
Держал свои худые руки
Я в это время подходил
Глазами к белой печке
Я увидал, что там лежит
Большой мой таз мохнатый
вода в нём, кажется, дрожит
переливает веки
в аллее сна пошёл один
и жёлтый оголённый
и руки тихо спали — тук!
повисли все над полом…
Отдельно стоит привести стихотворение «В морском заливе города Бердянска…», у которого зачёркнуты лишь две последние строфы.
* * *
В морском заливе города Бердянска
в песке сыром лежит туфля
в морском заливе города Бердянска
лежит бычок, от соли весь седой
И жлоб Терентий на большущей лодке
её направить к камням собрался́
Бензин в его моторе протекает
и он идёт на берег в сапогах
Два журналиста Коля, а с ним Витя
проходят, обращаются к нему
дают ему большую папиросу
и просят их по морю прокатить
В гостинице у города Бердянска
Живёт там личность бледная больная
Всё время пиво пьёт она в подвале
и заедает раками его…
А на базаре в тёмная одежде
сухая, как сосновая иголка,
старушка продаёт бычков вязанки
на длинных и засушенных верёвках
Всё в городе Бердянске продвигалось
Согласно общему для города закону
Рыбак ловил с мостков любую рыбу
А личность в шляпке смотрит на волну
(Далее строки зачёркнуты.— Примеч. составителей.)
Всегда пьяна она повсюду ходит
Её худая длинная фигура
Становится в каком-то самом месте
и наблюдает маленький залив
Ночная тьма в гостиницу загонит
Пойдёт попьёт большую вин бутылку
Разденет платье и разденет ноги
и совсем голой ляжет на боку
Кроме того, в «Восьмой тетради» есть две записи, которые мы решили не помещать в основном составе книги, но приводим здесь.
«Грандиозные событья и безумные восторги…»
Стихотворение датировано 3 апреля 1969 года.
Прогулки Валентина
В основном тексте этого тома помещены две части стихотворения «Прогулки Валентина» («Валентин сегодня к вечеру проснулся…» и «А у Катарины было шумно…»). Но в составе «Восьмой тетради» есть третья, неоконченная часть стихотворения, которую мы приводим здесь.
III
Валентин надевает калоши
Серый зонтик и толстый плащ
Постоит он у двери немного
А потом уж откроет её
И идёт в три часа уже сумрак
А как пять, так темнеет совсем
Он несёт свои старые брюки
Тёмный лист на колено прилип
По песчаной дорожке у парка,
где в общественном парке темно
он плетётся и видит он арка
спуск к реке лихорад… холодно
Он тогда это дело бросает
повернёт и является в дверь
зонтик левой рукою складает
и вино покупает скорей
охватил его пар от одежды
Белый облик лица староват
согревается… что-то желает
направляется к двери назад…
Там его принимает природа
Завертает в холодную ткань
Только внутри тепло… но немного
И
(Далее стихотворение обрывается.— Примеч. составителей.)
Также напомним, что в первом томе настоящего издания есть ещё три стихотворения этого цикла «2-я прогулка Валентина», «3-я прогулка Валентина» и «Валентин походкой шаткой…». Есть две версии, почему Эдуард Лимонов не объединил все стихотворения в единый цикл. Первая заключается в том, что такова авторская воля — оставшиеся в «тетрадях» тексты показались ему черновыми или слабыми. Вторая — «тетрадей» просто не было под рукой, они натурально потерялись.
«Великой родины холмы…»
«Золотаренко был мне друг / Какой он тёмный и мужицкий». Можно было бы предположить, что здесь, как и в тексте «Мы — национальный герой» и в стихотворении «Волоокий иностранец…», речь идёт о Владимире Захаровиче Золотаренко — приятеле харьковского периода, с которым Лимонов сблизился из-за общей склонности к чтению, изучению истории и писательству. Но в этом же стихотворении есть строчки: «Его есть кости-рычаги / Большие шрамы кожу портят», которые заставляют говорить не о Владимире Золотаренко, а о его отце. В своём ЖЖ (запись от 8 ноября 2019 года) Эдуард Лимонов рассказывал о нём:
Члены семьи Золотаренко также фигурируют в рассказе «До совершеннолетия» из сборника «Монета Энди Уорхола». Вот чрезвычайно знаковый момент:
«Тем, что пыль повевала, что пыль повевает…»
«Уже Витька со мною Проуторов и в сердце…». Виктор Проуторов — харьковский знакомый и одноклассник Лимонова, упомянутый также в поэме «Три длинные песни», в тексте «Мы — национальный герой» и в стихотворении «Я медленно, дорогой скучной». Подробные о нём см. комментарии к стихотворению «Я люблю ворчливую песенку начальную…» и к поэме «Три длинные песни» (оба — том I).
«Больная вечерняя тайна…»
Стихотворение датировано 4 апреля 1969 года.
«Начинаю со всяческой риторики…»
«Интересно, какие же стихи были у Альфреда Жарри?» Альфред Жарри (1873–1907) — французский поэт, прозаик, драматург; предшественник абсурдистов.
«Картинки маленьких кусочков…»
Стихотворение датировано 6 апреля 1969 года.
«Природа свищет птицами своими…»
Стихотворение датировано 21 апреля.
«В раннем дыме лета задыхаясь…»
Стихотворение датируется в рукописи 23 апреля. Имеется в виду: 1969 года, как и далее.
«Днём египетским маловарёным…»
Стихотворение датируется 25 апреля.
«В газете «Правда» за число шестое…»
«…что умер Скульский он оповещает / еврей и бывший министр пищевик». По газетам и энциклопедиям такой человек — Лев Израилевич Скульский (1912–1969) — не находится и, вероятнее всего, является выдумкой поэта.
«Вот золотой молодой магазин…»
«…у человека, который зовётся Андрей Лозин». Андрей Лозин (род. 1938, Москва) — художник, реставратор икон, друг Лимонова доэмигрантского периода.
Поэт Виктор Кривулин вспоминал:
Андрей Лозин также упомянут в стихотворении «Эх Андрюша Лозин — деньги ничего…» из «Седьмого сборника», «Дачники» («Где-то в августе я думаю…») из «Четвёртого сборника», в идиллии «Золотой век», в рассказе «Кровати» (сборник рассказов «Девочка-зверь»), в «Книге воды» (2003).
«Светлы пески и далеки они…»
Стихотворение датировано 5 мая 1969 года.
«Я медленно, дорогой скучной…»
Стихотворение датировано 9 мая 1969 года.
«Ах, Витя Проуторов, как же ты / ведь был такой красавец черноглазый». Виктор Проуторов — харьковский знакомый и одноклассник Лимонова, упомянутый также в поэме «Три длинные песни», в тексте «Мы — национальный герой» и в стихотворении «Тем, что пыль повевала, что пыль повевает…». Подробные о нём см. комментарии к стихотворению «Я люблю ворчливую песенку начальную…» и к поэме «Три длинные песни» (оба — том I).
«…раздетый на плаще на ве́нгерском лежу / и он мне Стесиным Виталием подаренный». Подробней о Виталии Стесине см. комментарии к стихотворению «Я ведь, братцы, помру, и никто не узнает…».
Стихи из аукционного дома «Литфонд»
В аукционном доме «Литфонд» 4 февраля 2022 года ушли с молотка десятки лотов, связанных с Э. В. Лимоновым. Там были и фотографии, и рукописи, и машинописи, и даже пометки с мерками, по которым поэт собирался шить брюки и джинсы,— и большая часть материалов никогда не публиковалась.
Нам удалось ознакомиться с некоторыми текстами. К полноценной литературоведческой и текстологической работе аукционный дом доступ закрыл. Поэтому в настоящее издание вошло не всё. Будущим исследователям ещё только предстоит собрать весь материал. И — дополнить нашу работу.
Сотрудники аукционного дома большую часть текстов датировали 1970-ми годами, однако поэтика этих текстов говорит скорее о конце 1960-х. Учитывая, что все они происходят из архива Вагрича Бахчаняна, как и «Вельветовые тетради», можно предположить, что и писались они в одно и то же время.
Автобиография
Написана не ранее 1967 года.
«Родился в 1943 году в городе Горьком…» — это не совсем так. Всё-таки родился Лимонов поблизости — в Дзержинске. И через Нижний Новгород (Горький) протекает не только Волга, но и Ока. Ещё любопытно, что Лимонов по факту рождения был опубликован в антологии нижегородской поэзии «Литперрон» (2011).
«Первые стихотворения — в 15 лет. Подражал Брюсову и Блоку» — это действительно так, но в дальнейшем возникнет сильнейшее влияние Велимира Хлебникова. А тот период описан в романе «Подросток Савенко».
«В 1966 г. вернулся в Харьков, устроился работать в книжный магазин — там познакомился с поэтами — некоторые меня поразили» — молодой Лимонов, явно намеренно, редуцирует и романтизирует собственный харьковский период, пытаясь представить себя эдаким вольным бродягой и сократить срок поэтического ученичества. До 1966 года, когда случилась первая, пробная, попытка переехать в Москву, Эдуард Вениаминович не покидал Харьков на сколько-нибудь продолжительное время. Начало работы в книжном магазине, знакомство с Анной Рубинштейн, поэтами и другими представителями харьковской богемы относится к осени 1964 года. Показательно, что в дальнейшем и в прозе, например в «Харьковской трилогии», он уже безупречно точен в датах и деталях.
«У меня мало поклонников, но это только увеличивает мои силы» — об этом есть любопытный эпизод из мемуаров Владимира Алейникова («И сияние». Нева, 2021. №12):
«Сара Абрамовна Вульф…», «К некому водному типу…», «Коровы круги совершают свои…»
Публикуются по рукописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №50).
«Коровы круги совершают свои…»
«И Бурич бурый как деревья…» — вероятно, имеется в виду Владимир Петрович Бурич (1932–1994) — поэт, стиховед, переводчик; теоретик и пропагандист верлибра.
«Проведи маслянистыми глазами…» и «мои руки как червяки…»
Публикуются по рукописям, выставлявшимся в аукционном доме «Литфонд» (лот №36) под одной обложкой с авторской записью: «мои комки и сгустки простоваты я признаю, но знаете что я». Сотрудники аукционного дома обозначили, что всего там находится 20 страниц. Остальные неизвестны.
«Ах от папы письмо!», «Бреди бывало по итогам жизни» и «Ты помнишь там, где ты спускался…»
Публикуются по рукописному сборнику без названия (на обложке нарисован цветок), выставлявшемуся в аукционном доме «Литфонд» (лот №39). Всего в сборнике 22 страницы. Что на остальных — неизвестно.
«Ах от папы письмо!»
Любопытно сопоставить с реальными письмами от отца той поры. Например, с таким:
«и словно ядовитые вновь…»
Публикуется по набору рукописей, выставлявшемуся в аукционном доме «Литфонд» (лот №46). На том же листе стихотворение предваряют следующие размышления Лимонова:
«когда приходит к нам зима…»
Публикуется по набору рукописей, выставлявшемуся в аукционном доме «Литфонд» (лот №46). Всего должно быть 20 страниц. Что на остальных — неизвестно.
«Зачем оставили вы книги?», «Волочился за женщиной по шумной роще…» и «я в костюме и тихий и слабый…»
Публикуются по набору рукописей, выставлявшемуся в аукционном доме «Литфонд» (лот №54). Всего должно быть 26 листов. Что на остальных — неизвестно.
«малюсенький макет огромнейшего леса…», «От родных папоротниковых рощ…» и «и холодом ужасным…»
Публикуются по набору рукописей под общим названием «Кое-какие стихи», выставлявшемуся в аукционном доме «Литфонд» (лот №47). Всего должно быть 14 листов. Что на остальных — неизвестно.
«малюсенький макет огромнейшего леса…»
Зачёркнуто, над текстом поэт оставил комментарий: «Плохое».
«помните мальчики — струны серебряны…», «Пришли они нормально…», «И в великую пору похмелья…», «Провожу я целые дни…», «Когда б быть чёрному коню…»
Публикуются по набору рукописей, выставлявшемуся в аукционном доме «Литфонд» (лот №43).
«я всем интересуюсь…», «Этот день хороший…», «Мы эти летом очень…», «как вырасту я…», «Когда надо мной в день осенний…», «Бывают тихие коты…», «Какой большой…», «когда ты мальчик городской…», «мальчик к мальчику ползёт…» и «Ой ты поле поле…»
Публикуются по рукописи под названием «Попытки детских стихов», выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №29). Также отмечено, что в этой подборке находятся такие стихотворения, как «Каждый знает, что за чем…», «Я хороший человек…» и «На станции в Абрамцево…», а в общей сложности — 20 текстов.
«Какой большой…»
В отличие от остальных текстов на этой странице, зачёркнуто Лимоновым.
«Этот день хороший…»
Есть в этом стихотворении и зачёркнутые строки, идущие сразу за увековеченным вечером:
более приятно
когда чуток тучек
есть на синем небе
и видна тревога
даст ли нам
«Мы этим летом очень…»
Неоконченное стихотворение.
«Как вырасту я»
Уместно сравнить этот набросок со стихотворением Игоря Холина, которое Лимонов впоследствии цитировал в мемуарах:
Я в милиции конной служу,
За порядком в столице слежу,
И приятно на площади мне
Красоваться на сытом коне.
«В сердце гадость — я заболеваю…», «Был знаком я с Анною и Викой…» и «Доктор» («Доктор вышел погулять…»)
Публикуются по машинописному сборнику под названием «Случайное», выставлявшемуся в аукционном доме «Литфонд» (лот №38). Всего в сборнике 19 страниц, что на остальных — неизвестно.
«Был знаком я с Анною и Викой»
«Анна и Вика» — очевидно, речь идет об Анне Рубинштейн и Виктории Кулагиной.
«Государь суровейший Аврелий / Дама под прикрытием камелий / И Овидий-степь». Сложный ассоциативный ряд, в котором не только Марк Аврелий (римский император и философ-стоик; 160–181) и Публий Овидий Назон (знаменитый древнеримский поэт; 43 год до н.э.— 17 или 18 год н.э.), но и роман и драма Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», а также фраза Велимира Хлебникова «Степь отпоёт», обращённая к поэту Дмитрию Петровскому, заболевшему во время совместного путешествия.
«Гуляешь по летнему саду и смотришь…»
Публикуется по рукописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №24). Сотрудники аукционного дома датировали текст 1970-ми годами, однако, судя по другим черновым записям на листе, где было это стихотворение, можно предположить, что речь идёт уже об американском периоде жизни, когда от Лимонова ушла его жена Елена Щапова.
Приведём, собственно, эти записи.
«Судорожный май — месяц смертей…» и «Лорд Фаунтельрой! Маленький лорд у горла»
Публикуются по рукописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №35).
«Лорд Фаунтельрой! Маленький лорд у горла»
«Маленький лорд Фаунтлерой» — первый детский роман англо-американской писательницы и драматурга Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт. В русском переводе обычно публикуется под названиями «История маленького лорда» и «Приключения маленького лорда».
«Маленький принц с тобой». «Маленький принц» — повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери (наиболее известная в переводе Норы Галь).
«О россия моя Россия…» и «Ах мой Эдинька…»
Публикуются по машинописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №41). Всего в машинописи восемь листов.
«Вы понимаете когда вложенье песен…»
Публикуется по рукописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №31).
«Будь я чудом маркиз или сцевола…». Сцевола — вероятно, имеется в виду Гай Муций Сце́вола — легендарный римский герой, отдавший свою жизнь (и руку, сожжённую на жертвеннике) за Рим.
«И тёплый Рим дождём на Виа аппья…». Via Appia (Аппиева дорога) — самая значимая из античных общественных римских дорог. Построена в 312 году до н.э. при цензоре Аппии Клавдии Цеке. Проходила из Рима в Капую, позднее была проведена до Брундизия. Через неё было налажено сообщение Рима с Грецией, Египтом и Малой Азией.
Также на листе есть следующие черновые записи, которые при желании можно и вместе с тем затруднительно отнести к стихотворениям, поэтому мы их выносим в комментарии:
* * *
Когда Лимонов думает сидит. В холодный день в окно своё глядит.
Перебирает прошлое и ноет. он ничего жалеет беспокоит.
Ему всё прах. Ему в единый час. Смешно за Вас. и холодно за Вас.
И нету прошлого. А только в самом деле. Мальчишка пьёт и лазает в постели.
Обыкновенный человечий шум. Вопросы тут и обострённый ум.
К чему талант. К чему такие страсти.
* * *
Мы не любим Флегонта Макарова. У неба в настоящие дни
Всё такое безрадостно горькое. И печальная память родни.
* * *
Спокойствие огней. Лукавый лес. И может быть в неясном закоулке таятся
одинокие прогулки. Когда как личность ты уже исчез.
Ты знаешь что ты вырос из людей. Был в школе и прослыл довольно странным.
Рабочим был безумным и туманным. Ты сам приснился памяти твоей.
Тебя никто поэтом не назвал. Ты молча встал и вышел вон из ряда.
Не понимая почему так надо и здесь служил и там едва мерцал.
«Эдуард Вениаминович Лимонов / Он старый друг наполеонов…»
Публикуется по рукописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №20).
«Эдуард Вениаминович Лимонов / в шляпе с узенькой бородкой…»
Публикуется по рукописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №53). Также на листе есть следующие черновые записи, которые при желании можно и вместе с тем затруднительно отнести к стихотворениям, поэтому мы их выносим в комментарии.
* * *
За всемогущую сексуальную карьеру Фридриха
фон Абергайма я отдам весь мой мир
и население меня изделиями фантазии
Белый день с отмершими цветами
винный пруд. здесь закись. окись. Слизь
не болтай прозрачными ногами
ну уже. теперь остановись
покрой щепки слышу запах запах
детских обвалившихся волос
«Когда в предвечернее время…» и «Но с улыбкой продавщица…»
Публикуются по приложению к машинописному письму (адресованному некоей Наташе), выставлявшемуся в аукционном доме «Литфонд» (лот №51).
«Он вошёл. Его друг Гуревич был постаревший…», «Советское правительство. Советское правительство. Советское правительство» и «Холод мраморных плит переходит всё прекрасные руки…»
Публикуются по рукописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №25).
«Он вошёл. Его друг Гуревич был постаревший…»
Арвид Крон — русско-французский публицист, соредактор парижского журнала «Ковчег». Лимонов был опубликован в первом (дебютном) номере журнала за 1978 год. В третьем номере за 1979 год и в пятом номере за 1980 год были опубликованы отрывки из романа «Это я — Эдичка».
«С произношением странным слегка шепелявым — Ася…»
Публикуются по рукописи, выставлявшейся в аукционном доме «Литфонд» (лот №56).