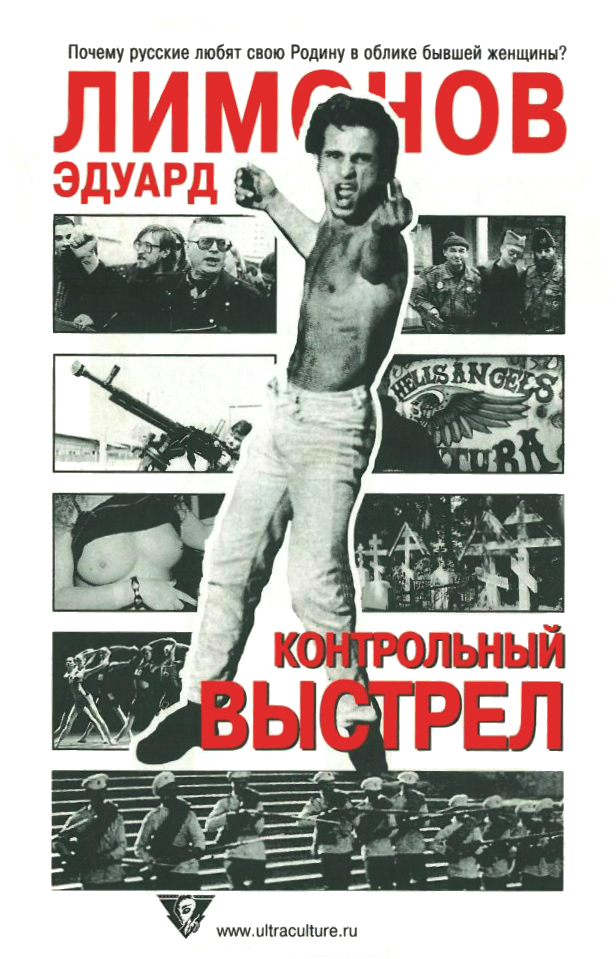Матушка
Россия обычно представляется в облике России-матушки, этакой суровой активистки, приближающейся по энергичности к типу солдатской матери. Однако в противоположность современной антивоенной пацифистке — солдатской матери — Россия-матушка зовет со старых плакатов своих детей в обратном направлении: не из разбомбленной Чечни прочь в московскую или екатеринбургскую квартиру, но на праведную войну с немецко-фашистскими захватчиками. Так что Россия-матушка существует, скорее, как прошлый образ, но новых не появилось, потому ее никто не упразднил и конкурентов или конкуренток — символов России — у нее нет.
В «матушке» — символе страны содержится фатальный глубокий смысл. Во Франции образ Patrie (Отчизны) представлен Марианной, как ее называют,— это образ молодой женщины. В XVIII веке образ Свободы — юной, полногрудой, в красном фригийском колпаке, она сжимает древко знамени на баррикаде — наложился на образ Родины, и вот последние столетья Марианна — это Франция. Представьте себе русских, называющих Родину Машей или Наташей! У англичан Родина персонифицируется то с долгоцарствовавшей королевой Елизаветой I, затем с долгожительницей королевой Викторией, а ныне с пожилой уже Елизаветой II. God save the Queen! Однако королевы-долгожительницы (хотя они и дали названия целым эпохам: елизаветинской, викторианской) лишь отчасти символы Великой Британии. Им далеко до абсолютности русской матери-Родины. У янки есть отчизна мужского пола — это евреистый uncle Sam, точнее Samuel, с длинной белой бородой голландского сектанта — то ли квакера, то ли меннонита.
Почему русские любят свою Родину в облике женщины, минувшей свои лучшие годы, уже неплодной, бывшей женщины? Тюремное сознание дает ответ, и очень исчерпывающий, на этот вопрос: в тюрьме почитается только мать-старушка. Ведь другие ипостаси женщины изгнаны из тюрьмы: молодые женщины все обладают инстинктом соития, все практически оказываются неверны заключенному. И только мать-старушка, женщина, у которой репродуктивный возраст позади, только она ждет и любит своего непутевого тюремного сына. По всей вероятности, наш народ адаптировал себе в качестве символа Родины именно мать заключенного, она же и солдатская мать, ибо заключенный лишь крайний сосед солдата, они помещены на том же поле. Оба несвободные, один жертва наказания, другой — долга.
Есть, мы знаем, другой образ матери, куда более известный и универсальный, растиражированный средневековыми еще иконами,— образ Мадонны с младенцем. Воспроизведенный сотни тысяч раз на картинах, в том числе на русских иконах, почему не молодая женщина, прижимающая к себе дитя, почему? Молодая мать может изменить, потому в образе матери-Родины важен ее нерепродуктивный возраст. Мать-старушка — единственный не больной для сына-заключенного образ женщины (жена, девушка могут изменить, мать не может) — является таким же единственным родным и не изменяющим образом для сына-солдата.
Мать-Родина, старушка-пенсионерка, солдатская мать — на самом деле самый неженственный образ. Наша Родина — бывшая женщина.
Можно аргументировать избрание символа матери-Родины необходимостью того, чтобы полный сил и здоровья сын защищал старушку-мать. Родина для русского, таким образом, есть не сила, распространяющая покровительство, но слабость, нуждающаяся в защите. Но опять-таки белогрудую французскую Марианну также нужно было защищать от германских парней в куда большей степени, потому что там, где русскую старушку-мать всего лишь пнут в грязь, французскую пышногрудую девку пустят по кругу, изнасилуют.
Целью настоящих размышлений являются сами размышления и всплывшие в их процессе несколько интересных наблюдений.
Внимательный читатель уже сообразил, что от подобных размышлений попахивает крутым ревизионизмом. Что в первых же строках его вывозят с территории обычных политических категорий на опасные болотистые почвы переосмысления привычных национальных верований. Однако чрезвычайно подозрительна позиция общества, избравшего себе такой символ. Это не отец, не волк, как у чеченцев, не ночхи, но бывшая женщина — пенсионерка. Сын должен защитить бывшую женщину, некогда послужившую ему инкубатором. Наш символ Родины — реликтовое напоминание о матриархате? Наш символ общества пришел из тюрьмы? Наше общество устроено по тюремным понятиям? Верно и то, и другое. Это нездоровый символ, но другого у нас нет. Страна по-тюремному обожествляет старушку маму-Родину. Короче, «Не забуду мать родную!» и «Родина-мать зовет!»— две реплики из одной и той же мелодрамы.
Я слышу, как уже свистят в воздухе брошенные в меня камни.
Бабий век
Жители исламского мира считают, что наши женщины бляди. Есть два ответа на этот упрек. Да, со своей позиции, с позиций и адата, и шариата,— они правы. Второй ответ тот, что поведение наших городских женщин, в общем-то, с некоторыми различиями здесь и там соответствует поведению женщины в западном обществе. Женщины западного мира были чрезвычайно легкодоступны для быстрого соития до прихода на Запад болезни AIDS (или СПИД по-российски). Они утихомирились в какой-то мере в связи с эпидемией СПИДа, хотя и все равно остаются достаточно легкодоступными. Русские городские женщины остались в доспидовой ситуации. Они использовали и развили свою исторически созданную советской властью свободу для своих целей. Они зашли в свободности соития даже дальше своих западных подруг. Можно согласиться с суровым мусульманским приговором. Да, наши женщины не суровых нравов. Да, они бляди.
Следует понимать, что бабий век таки короток, в жизни пола женщина — существо куда более эфемерное, чем мужчина. У мужчины четыре сексуальные жизни, у женщины — одна. Именно поэтому шариат предписывает здоровому мусульманину возможность иметь четырех жен, по мере продвижения по времени.
Женщина и на Западе, и в России стремится как можно интенсивнее прожить свою коротенькую сексуальную жизнь с 15 до 30 или с 20 до 35 лет, у кого как. Именно «интенсивность», стремление иметь больше партнеров и больше соитий, и называем мы «блядством». Эти пятнадцать лет также — годы наилучшего репродуктивного возраста. Они совпадают со временем, когда человеческая самка наиболее привлекательна. Потому под влиянием женского лобби (это не только женщины, но и женолюбы) создалась женоцентристская культура Запада, культура, располагающая вокруг себя во времени и пространстве весь западный мир и его ценности. Все в современном западном мире подобрано к нуждам молодой женщины, все обслуживает ее интересы: в мужчине ценится способность «любить», а не воевать, внимательность к нуждам женщины, мужчина из глянцевых журналов трудится, чтобы покупать женщинам подарки, богатство — способ завоевать женщину. Во всех случаях речь не идет о женщине-матери, Мадонне или матери-старушке, заметьте, но исключительно о гуляющей одинокой особе. Западная культура именно женоцентристская, несмотря на то что мужчины играют роли руководителей, президентов и военачальников. Вся западная (и русская с нею) культура, даже наши сказки искажают реальное жизненное соотношение вещей. Даже дешевые сезонные одноразовые песенки о любви грешат против истины, настаивая на равенстве биологических потенций мужчины и женщины, твердят об одной любви. Женщина как организм живет дольше мужчины, но как объект желания живет недолго. Одноклассники, поженившись после школы, имеют неравную судьбу. Она, родив ему двоих-троих детей, уже не может по возрасту привлекать его ярким, свежим опереньем (это как у птиц, да!). В 33 года ее, конечно, можно и нужно уважать как мать его детей, и он это делает, но привлекать его она не может. Природа знает, что делает, когда навешивает девушкам груди в 12–14 лет и тогда же, а то и раньше заставляет их менструировать. А ее одноклассник в 33 года — свежий самец. У мусульман он, если позволяют средства, берет себе вторую жену и радостно с ней совокупляется. Спустя еще 15 лет, в 48 лет, он прекрасно может взять себе третью жену. А в 60 лет и четвертую. Ибо в то время, как в мужчине женщину привлекает мужественность и зрелость, мужчину привлекает в женщине свежесть, юность, нежность тела, лица, внешнего облика.
Она противится своей участи. Она стремится в западной цивилизации сделать вид, что равный брак — единственный возможный брак, что женщина в 40 и мужчина в 40 лет — одинакового возраста. Но нет же, ничего подобного! Возможно начинать и с брака одногодков, может быть. Но в районе 30 лет дороги женщины и мужчины расходятся. Она уже менее соблазнительна и менее способна к репродуктивным функциям (последнее мало заботит современную западную женщину, если вообще заботит), хотя еще способна. Где-то в возрасте тридцати лет ее материнские функции начинают преобладать над ее привлекающими, соблазняющими функциями. (Если она выбрала участь бесплодной смоковницы, то после тридцати она начинает засыхать.) Именно потому женщины после 30 лет более привлекательны для молодых неопытных самцов, зрелым мужчинам они редко нравятся.
Чтобы не быть обреченным на совокупление с женой-бабушкой, западный брак всегда соседствовал с институтом содержанок. Любовница и у аристократа и у буржуа была его законным и нормальным дополнением к браку. Буржуа, следуя своим нормальным инстинктам, практически институциализировал содержание любовниц. Их включали в завещания. Куда естественнее, честнее и здоровее мусульманская система брака, когда мужчина приводит новую жену под одну крышу со старой женой.
Понимая, что 15 или 20 лет, это все, что у нее есть для жизни плоти, для удовольствий плоти, женщина испокон веков стремилась растянуть свой возраст удовольствия. Недаром целые индустрии одежды, ухода за телом, за кожей, с целью продления привлекательности, созданы на Западе. Цель этого, разумеется, не достижение бессмертия, но продление периода привлекательности. Во имя привлекательности и наслаждения современная западная женщина вообще отказывается от своей репродуктивности, от предназначенной ей жизненной цели — материнства, замещая ее гедонистической целью наслаждения. Однако старится она все равно, если не материнство старит ее, то аборты или химические способы, позволяющие не забеременеть.
Мусульмане называют наших женщин блядьми, исходя из своего понимания роли и цели существования женщины — желанной юной жены, с которой совокупляются с целью воспроизводства потомства. Наши женщины совокупляются с целью только удовольствия совокупления и потому достойны этого презрительного «бляди!». Мусульманская позиция консервативна. Российская позиция, кажется, устраивает не только наших женщин, но и русских мужчин: удовольствий плоти в российской жизни больше, и они разнообразнее. Но отказавшись от своих репродуктивных функций, русские женщины неумолимо умерщвляют нашу нацию. Это есть страшная плата за удовольствия. То, что в конце концов некому будет получать удовольствие, точнее говоря, в конце-концов некому уже будет произнести на русском языке фразу: «Я получаю удовольствие», таковых живых существ просто не останется. Это касается не только русских, все западные так называемые «цивилизованные» нации все менее желают исполнять репродуктивные функции. Сосредотачиваясь на достижении «удовольствия» и для этого вознеся на пьедестал молодую самку. Что происходит с ней после 35 лет, цивилизацию не интересует. Бедняги уползают от света, но живут еще долго. Кое-как.
О картине Эдуарда Мане «Олимпия»
На картине изображена лежащей на спине обнаженная плебейская юная, тощая девушка. Голова и плечи приподняты подушкой. На ней только черная бархотка на шее и туфли. Простое происхождение подчеркнуто мелкими «крестьянскими» чертами лица. Черная служанка справа вверху и черный кот слева внизу картины оттеняют зеленовато-желтые и белые тона тела Олимпии и голубовато-белое белье постели.
Картина была написана французским художником Эдуардом Мане в 1862 году, но представлена публике в ежегодном Салоне позже, в мае 1865 года. Первоначально она называлась «Венерой» и повторяла композиции нескольких классических картин, в том числе и «Данаю» Рембрандта. Однако посетители Салона немедленно перекрестили картину «Олимпией». Картина вызвала невероятное возмущение публики и невероятный интерес. Ее пытались сорвать и изуродовать, потому к картине были приставлены служители-охранники, а уже через три дня «Олимпию» перевесили. Повесили высоко над дверью, чтобы толпа не могла сорвать ее. До этого негативную реакцию в Салоне уже вызывала картина Мане «Завтрак на траве» — там две одетые мужские фигуры и две обнаженные женщины расположились на лесной поляне у реки на пикник. Подобную, но не такой интенсивности бурю. В Салоне 1865 года за три дня перебывало тогда 10 тысяч человек: проклятья и насмешки сыпались на «Олимпию». Газеты писали плохо и очень плохо:
«Никому и никогда не доводилось видеть собственными глазами более циничного зрелища. Беременным и девушкам следовало бы избегать таких впечатлений».
«Что это за одалиска с желтым животом, жалкая натурщица, подобранная бог знает где?»
(Натурщицей для Олимпии послужила Викторина Меран, профессионально зарабатывавшая на хлеб позированием.)
Картина не потеряла своей силы и сегодня. Можно понять почему: это первое выражение той эстетики, которая до сих пор правит человечеством, держа его за горло. В этой картине выражена современная (спустя 150 лет все еще современная), новая городская сексуальность и новый объект желания. Маленькая шлюшка на картине не бог весть что за женщина. У нее неширокие бедра, небольшие грудки. Это может быть наглая продавщица из магазина (они уже открывались — первые универсальные; вскоре Золя станет другом Мане и напишет «Дамское счастье»), косметичка, парикмахерша, проститутка. Пять тысяч «девушек» зарегистрировано было в ту пору в префектуре полиции г. Парижа и еще 30 тысяч занимались проституцией негласно. Эта девушка — натурщица, но с таким же успехом она может быть и жрицей любви. Вызывающая вульгарность этой девицы, ее самоуверенность, ее гордость выставленным напоказ товаром — телом — задели французского буржуа 1865 года. Он уже все больше и больше спал с такими шлюшками. Но все еще не хотел себе признаться в неотразимом очаровании этого «цветка зла». Еще в 1858 году Мане познакомили с Шарлем Бодлером, и они стали друзьями. Бодлер жил с алкоголичкой мулаткой Жанн Дюваль, по свидетельству современников Жанн была тупое и развратное животное, но держала в когтях автора «Цветов зла» целых двадцать лет!
Нужно понимать, что новая современная городская эстетика родилась именно в Париже, в первом мегаполисе мира, и нигде более не могла родиться. Именно в Париже появилась индустрия удовольствия, служащая нуждам нового класса буржуазии. Куртизанок Нинон де Ланкло или мадам де Помпадур не хватало на всю эту буржуазную орду заводчиков, предпринимателей и торговцев. Рынок удовольствий не мог поставить всем благородных девиц в качестве шлюх. Потому так сильно реагировала толпа в Салоне: Мане показал ей ее кумира, потребляемый товар — тощую пролетарскую шлюшку. Новая сексуальность? Новый объект желания? За 150 лет до сегодняшнего дня? Ну да, такие вкусы не меняются быстро. Социальные моды меняются медленно.
Вот лежит она, ледяная, бледно-белая с жиденькими волосиками, остроносенькая, небольшие глазки высокомерно скошены на зрителя. Кладбище целых морей спермы, причина падения демографических показателей, после бесчисленных выкидышей, пустотелая навсегда. Девочка — утоли мои печали. Многие поколения европейских мужчин снимали штаны, носки, громоздились, влезали на этого пролетарского ребенка, цапали, лапали, гладили, дрожали, стонали и выли у нее над ушком. Анархисты и владельцы ресторанов, фабриканты, офицеры и прыщавые клерки, сменяя друг друга во времени… Национал-революционеры, бритые фашисты, велосипедисты, строители всяких «банов» и ГЭС, бравые убийцы друг друга. Лили Марлен, Эдит Пиаф, девочка ты наша! У нее нет родного языка, пусть ее облик позаимствован у француженки. Она всех вечная подружка, общенародное, международное достояние. Она и сегодня не сошла с престола, punk-девочка, это она умирала под именем Нэнси Спунжен рядом с Сидом. Она правит миром со своего ложа все эти 150 лет. Преступница Бонни — подруга Клайда — это она. Мы поклоняемся ей, как Норме Джин. Мадонна — это она тоже, как и героиня «Прирожденных убийц».
Меня всегда волновали продавщицы в белых носочках, парикмахерши, ученицы-стажерки из салонов красоты. Тощие сучки и их выкрашенные перекисью водорода бесцветные челки. Я находил таких девочек в Харькове, учился с такими в кулинарном техникуме, и позднее в американских провинциальных городах я сходился с ними мгновенно. Бесстыжие и стыдливые, целомудренные шлюхи. «Неу, Stranger!» — обращались они ко мне. Я ценил их вульгарность как дорогое вино. Hey, Stranger!
Стареющую Викторину Меран видели предлагающей какие-то рисунки клиентам сомнительных заведений Монмартра. Потом она ходила с ручной обезьяной и играла на гитаре перед кафе на площади Пигаль. Она пила. Ей дали прозвище «Ля Глю» — клей. Последним ее видел Тулуз Лотрек. Около 1893 года Лотрек бывал время от времени в ее убогой лачуге. Затем Викторина теряется во мраке времени. Сдохла где-то, как старая кошка. Далеко после смертей всех заинтересованных лиц поэт Поль Валери писал в 1932 году в предисловии к каталогу выставки г-на Мане в Музее Оранжереи: «Олимпия» — вызывает священный ужас — это скандал, идол, это сила и публичное обнажение жалкой тайны общества… Чистота прекрасных черт таит прежде всего ту непристойность, которая по назначению своему предполагает спокойное и простодушное неведение какого бы то ни было стыда. Животная весталка, осужденная на абсолютную наготу, она наводит на мысль о том примитивном варварстве и скотстве, которым отмечено ремесло проституток больших городов».
Сиськи в тесте
Есть такое архаичное определение, эпохи поколения моей мамы. О женщине широкоплечей и крепкой, как молотобоец, говорили «кувалда».
Российские учреждения полны «кувалд» и «медуз». «Медуза» — это расплывшаяся телесно особь и ее плохо упакованная плоть. В последние десять-пятнадцать лет к этим двум категориям служащих чиновниц добавилась категория «селедок» — обычно это худые молодые женщины до 30 лет, в большинстве своем со стервозными лицами.
Любое российское учреждение: министерство, ведомство, управление, от Совета министров до почтового отделения,— в основном укомплектовано тухлой бабьей плотью в этих трех видах; среди трех видов только один сексуально активен — это часть «селедок», два других вида — «кувалды» и «медузы» — в прошлом жили сексуальной жизнью, но давно не живут. (Вообще в России наблюдается огромный перекос в этой области, на хрупкие плечи молодых самок и проституток ложится основное бремя сексуальной нагрузки в стране, тогда как «кувалды» и «медузы» не несут никакой.) Надо сказать, что это обстоятельство отражается на работе наших учреждений, да и на всей жизни в стране. На работе «кувалды» и «медузы» находятся под пятой немногочисленной, но волевой и настырной группы начальников-мужчин. Мужчина-начальник ни во что не ставит «кувалд» и «медуз» и не будучи никак ими очарован, относясь к ним как к мебели и стенам, склонен безжалостно их эксплуатировать. Седые кабаны-чиновники старшего возраста любезничают с секретаршами-«селедками», но вовсе не приветствуют «мымр» (общее название для «кувалд» и «медуз»). Подкабанчики — это чиновники не выше сорока лет — тем более презрительно воротят нос от «кувалд» и «медуз», потому некрасивые и немолодые бедняги эти вынуждены отыгрываться на посетителях (клиентах, просителях) учреждения. Если вы поставлены в положение, когда вам что-нибудь нужно от учреждения, уж «кувалды» и «медузы» поиздеваются над вами вдоволь.
«Кувалды» обычно носят костюмы — пиджак и юбку — плюс туфли на низком каблуке, высокий их в любом случае не выдержит, да они его и не наденут никогда, у них в программе заложена эстетика строевого низкого каблука. «Медузы» предпочитают широкие сарафанного типа платья-балахоны, под ними свободно мечется и приплясывает, как ей угодно, их ненормированная, свободно развившаяся плоть.
Места скопления «медуз» и «кувалд» — там где их слишком много на квадратный метр — это бухгалтерии старых учреждений, всякие БТИ, жилищно-эксплуатационные конторы (ныне они модно называются «Дирекция единого заказчика»), такие места обычно воняют от запаха протухшей бабьей плоти. Это очень неприятный, тяжелый запах, сходный с запахом смерти. «Селедки» пахнут духами, дезодорантами, однако это до поры до времени. Редкая «селедка» остается селедкой всю жизнь. Рано или поздно она перемещается в разряд «кувалд» или «медуз».
Если проситель, он же клиент, хочет добраться до седого кабана, коренного, пристяжного и главного чиновника с гранитной полированной головой и брюхом тяжело беременной девятимесячной роженицы, то разумнее действовать через «селедку». Разумнее обмануть «селедку» по телефону. Например, если кабана последние лет сорок все зовут не иначе как «Алексей ибн Иваныч», то можно попробовать обмануть «селедку», бросив ей в телефонную трубку: «Девушка, дай-ка мне Алексея», или, если ваш голос приближается к возрастному диапазону кабана, даже можно швырнуть: «Девушка, дай-ка мне Алеху!? Ну да, он знает, скажи, что Иванов на проводе». Такой наскок хорош, если имеешь дело с «селедкой». Наиболее кондовые мудрые кабаны сажают к телефону на цепь «кувалд». Против «кувалд», как против лома, нет приема. Оставьте надежду, если только вы действительно не ходили в один детский садик с Алексеем Ивановичем и не переговаривались на горшках.
Русские учреждения по всему ареалу распространения русской цивилизации однотипны и просты в структуре. От Камчатки до Калининграда и во всех странах СНГ, даже в Средней Азии, мы создали бетонные пяти- и девятиэтажки, обшарпанные бетонные ж/д вокзалы, здания с буквами Ж и M и учреждения. Как британцы оставили индийцам и всей бывшей империи свои колониальные порядки: администрацию, язык, ж/дорогу,— так и мы оставили туземцам наши. Каждое учреждение имеет уже вышеупомянутый набор типов: обязательные кабаны и подкабанчики во главе стада «кувалд», «медуз» и «селедок». В Ташкенте и в Дербенте, в Кишиневе и в Могилеве, в Душанбе и в Курган-Тюбе — везде Вы увидите их, родимых. Только широта скуловых костей, да разрез глаз, да оттенки кожи меняются географически.
Как-то я пришел в 1999 году в новое здание Комитета по печати. Мы перерегистрировали нашу газету. Сидя в приемной к кабану, я сидел в коридоре, я видел, как дефилировали мимо трогательные «селедки» с листиками бумаги, угрюмо тяжело шагали, сжимая увесистые папки, «кувалды», любопытно плелись небыстрые «медузы». Наблюдая моих персонажей, я качал головой, довольно смеялся и, полагаю, был похож на сумасшедшего. А я вел себя всего лишь как ученый, очередной опыт которого опять убедил его в правоте выводов, сделанных им в результате многих наблюдений.
В свое время будучи редактором «Лимонки» мне приходилось ездить в несколько бухгалтерий: сдавать деньги за печатание газеты, получать деньги за проданный тираж от распространительских учреждений. Делал я это с превеликой неохотой, поскольку долго находиться в одном помещении (а приходилось заполнять там всякие бумаги, считать деньги) с большим количеством женщин послерепродуктивного возраста было физически неприятно. Этот тяжелый запах, о котором я уже упоминал, эти грязные платки на плечах, эти волосы, эти вечные чайные чашки на рабочих столах, оставившие после себя десятки сатурновых колец на поверхности столов. Я старался дышать неглубоко и старался изгонять из воображения визуальные попытки его вообразить происхождение нечистых запахов, видения грязного белья на излишней плоти. Выскакивал я оттуда как пробка из шампанского и с жадностью вдыхал ближайший воздух.
В тех блистательных зарисовках российского чиновничества, которые нам оставили мои без сомнения гениальные коллеги Гоголь и Салтыков-Щедрин, не хватает именно женских портретов. «Кувалды», «медузы», «селедки» во времена моих уважаемых коллег еще не составляли большинство российского чиновничества, дискриминация женщин была, знаете ли, тому виной. Советская власть сделала возможным появление этих «сисек в тесте» в учреждениях. Если говорить о примерах видов, то, конечно, я могу привести примеры, хотя и неохотно. Боюсь однако, что примеры быстро состарятся. Ну кто будет завтра помнить г-жу Валентину Матвиенко, она типичная «кувалда», или Валерию Новодворскую, не занимая чиновничьей должности, она — типичная «медуза»? «Кувалдой» была и покойная г-жа Старовойтова, хотя временами обнаруживала и склонность к «медузообразности». Бесспорная «селедка» мадам Хакамада.
Скверный характер женщин пострепродуктивного возраста несомненно влияет на функционирование наших учреждений. Представьте себе судью, перепоясанную тесемками лифчика плюс комбинация, трусы, вжившиеся в жирный живот, прокладка в причинном месте. Ерзая, она решает судьбу 20-летнего пацана — убийцы по аффекту или чеченского боевика. Кабан все-таки представляется лучше приспособленным биологически для такой работы.
Нора и родина
Россия — это прежде всего черно-белая зима. Белая равнина, где, как маковые зернышки на бублике, рассыпаны группки мертвых три четверти года деревьев. «Почему русский не спилит свой мертвый деревья?» — звучит из раннего детства моего голос старого грузина, в первый раз путешествующего на поезде в Россию. Глядя из иллюминатора низко летящего самолета, российское пространство хмуро и безотрадно. Белая плоскость с черными нитями дорог, проскобленными как бы ногтем на замерзшем стекле. Белое — это саван мертвого, это белье больного, это снег. Белое — это не жизнь во всяком случае. Земля не должна быть белой три четверти года. (Ну хорошо! Две третьих!), белой и морозной, с минусовыми температурами. Это противоестественно. Холод и белое — это отвратительно.
Продолжая лететь на воображаемом низко летящем самолете, минуем черные группки строений внизу — это селения с редкими дымами. Минуем и более крупные (белесые, ибо сложены из серого кирпича или серых бетонных блоков) скопления многоэтажных домов — это поселки. И минуем такие же серые, призраками возвышающиеся на фоне плоскостей снега и среди черных жидких групп деревьев более обширные скопления многоэтажек, собранных группами,— это располагаются внизу города. Большая часть городов — нестарые поселения советского времени. Неуютно сиротливо выглядят эти человеческие поселения, процарапанные на белом. В густонаселенной центральной России царапин этих на пейзаже множество. Одни прицепляются к другим, возбужденно толпятся вдоль нити железной дороги. Если самолет летит вечером и нет туч, то группки строений излучают слабые коптящие огни — на таких огнях не согреешь рук и сердца. Понятным становится, почему русского человека так притягивает Москва. Один из самых слабоосвещенных городов мира есть сноп света для русского провинциала, факел в сравнении даже с русскими областными городами. Обычно в них около 300–400 тысяч жителей, и они в свою очередь кажутся ярко освещенными столицами путникам, явившимся из городов, где даже нет железнодорожной станции.
Природа скаредно дает России мало света и еще меньше солнца. Только отражаются от снегов нечистые, серые, в облаках небеса. Короткое, чуть ли не трехнедельное, пыльно-душное лето стиснуто с двух сторон холодным маем и моросящей осенью, часто наступающей в конце июля. От недостатка света бледна и бела кожа наших женщин, цвета ростков подвального картофеля; и сыроваты, некрепки души наших плаксивых мужчин. Наши дети зачаты в искусственном климате квартир. Инкубаторские, они быстро пухнут и растут как на дрожжах у горячих радиаторов, играют в скученном пространстве, взрослеют не на воле, а в этих вольерах для человека. Манера их выращивания аналогична выращиванию какими-нибудь голландцами кур или свиней, или коров быстро так называемым «батарейным» способом. Это когда животное стоит, стиснутое своей клеткой, схватывая еду с медленно постоянно движущегося мимо конвейера, быстро набирает вес, но никогда не гуляет, никогда не покидает клетки. Дерьмо удаляется из клетки другим конвейером. У животного слабые, никудышные ноги. Но на нем много мяса.
Российский пейзаж скучен. На него смотреть противно, как на золотушную простушку со вшами в косах. Цель русского пейзажа — послужить плацдармом для как можно большего количества бетонных домов-многоэтажек. В клетках этих бетонных сот в снегах между своими шкафами, унитазами, диванами и кухней размещаются семьями батарейным способом русские люди. На каждого из них, по сути, приходится не намного больше места, чем на зоне. Постель, тумбочка, несколько личных вещей… Можно сказать, что русские размножаются и живут батарейным способом. Из-за холода они обладают очень малым пространством каждый. Они обездолены пространством, хотя и хвалятся обширностью своей морозной страны.
Россия это прежде всего «спальный» район большого города. Те самые скопления серых бетонных блочных многоэтажек, над которыми мы только что пролетали на самолете. Оторванные и резанные грязные двери, прикрывающие входы в такие дома. Входы во внутренности домов русские почему-то абсурдно называют «подъездами», хотя подъезд — это территория, прилегающая к дому, путь, по которому подъезжают к нему. Русский подъезд это на самом деле hall, или hallway по-английски, или отдаленное, но более точное французское escalier — лестница. Имеющий значение весь комплекс лестницы — подход к квартирам также. Так что у нас, у русских, нет даже слова, определяющего внутренность дома, но еще не квартиру.
Прислоненные друг к другу или отдельные многоэтажные дома обыкновенно брошены среди снежной равнины этакими листами чудовищной книги. Это книга о русской нации, такой искусственной, как картофельные ростки. На самом деле дело в том, что жить на этих снежных широтах человеку уготовано не было. Он зря здесь ушездился, забрался слишком далеко на север. Отсюда присутствие искусственного, ненормального в русской психологии. Мы инкубаторные, искусственные люди, задолго до клонирования. Мы всю нашу историю боремся с враждебной природой, с пейзажем, за уничтожение пейзажа.
Россия — страна квартир. За квартиры здесь убивают. Квартира — это место, где россиянин оплодотворяет икру своей самки, где он кормит детей, где совершается вся жизнь. Квартира — это его искусственная страна. Среднестатистический россиянин вырастает, таким образом, не на воле, но батарейным способом. Российская цивилизация — квартирная, батарейная.
В квартире у русского очень мало света. Ясно, что его мало и в окружающей бетонные дома природе. Только серое небо — отражение в нечистом городском снегу. Но русский еще и загораживается от света — навешивает на свои окна шторы, часто штор даже два слоя, чтобы подчеркнуть свою ненависть к действительности за окнами. Если в доме есть балкон или лоджия, она обязательно закрыта рамами и стеклами и встроена в квартиру. Дополнительная жилплощадь еще более удаляет хозяина квартиры от дневного света. В русских квартирах царит полумрак мусульманского гарема. Неизвестно когда возникшая традиция положила на пол квартиры русского ковер или даже множество ковров. Ковры же висят и на стенах, над кроватями. Чем зажиточнее дом, тем больше ковров на стенах и на полу. Если добавить любовь русских к тапочкам, спортивным шароварам и матерчатым абажурам с кистями, то можно догадаться или многое понять о происхождении русских. Так кичащиеся своей белой кожей русские имеют турецкие привычки и традиции. В этой турецкой атмосфере и протекает стесненная жизнь русской семьи. Из кислых пеленок вырастают белотелые девочки и слабовольные юноши. Они не знают пейзажа или не считают его своим. У выращенных в четырех стенах, у них нет чувства пространства. У них нет плотского — чтоб увидеть и пощупать — понятия Родина. В известном смысле у них нет Родины. Их Родина — это щель между кроватью, шкафом, ковром, грузными телами папки и мамки. В то время как для жителя молдавского Приднестровья, или Сербии, или Чечни, или Абхазии, или Карабаха Родина — это улицы и дымки села, окрестные горы, леса, животные, сады, родной дом, выходящий окнами на единственный и неповторимый свой пейзаж; это разнообразные и оригинальные соседи — сельские жители. У ребенка из спального района нет полноценной Родины, клетка в бетонной многоэтажке не может вызывать чувство патриотизма. Показательно, что в очень неплохой песне «Комбат» группа «Любэ» так формулирует Родину русского парня: «За нами Россия, Москва и Арбат». То есть Родина — улица сувениров с уродливыми плюгавыми домиками XIX века, на которой тусуется молодежь. А другой нет. Мерзлая, разрушенная бульдозерами при строительстве микрорайона, содранная корка земли, слабо поросшая сорняками, не может быть Родиной. Древних зданий, «священных камней», в России грустно немного. Хваленый Кремль занимает чужеродное место в русской жизни, как Диснейленд. С остальной Россией и даже Москвой он как-то не связан. Он Родина для правительства, как замок инопланетных пришельцев, а не для русского парня. Родина — это твой кусок особенной земли, где ты жил в детстве, а потом вышел оттуда и живешь в более широкой Родине. Вот первой детской Родины у русского человека нет. Потому с оружием в руках свои настоящие человеческие дома с деревьями и садами отстаивали абхазы, сербы, приднестровские украинцы и молдаване, карабахские армяне. А русские за свои норы в мерзлых квартирах оружие в руки не взяли. Отдали олигархам. Широкой большой Родины у русского человека тоже не так много. В учебниках истории он изучает, что были какие-то славяне белокожие, блондины и рыжие, разглядывает на картинках, нарисованных художниками XX века (а то и XIX века) специально для учебников, этих славян. Длинные рубахи, на ногах лапотки какие-то, в руках копье, луки там, стрелы. Отечественный учебник вовсю нахваливает этих славян: дескать, и храбрые, и благородные, и честные. Точно так же любой национальный учебник нахваливает свою нацию: германцы — свою, англичане — свою, итальянцы — свою. У итальянцев больше оснований нахваливать себя, чем у других наций, при том обилии исторических памятников, которые им достались. Славяне же могут разве что похвалиться воинственным вождем Святославом, ходившим биться с греками и грабить их. В любом случае почувствовать свою связь со славянами из учебников, сидя в спальном микрорайоне, трудно. Свою принадлежность к славянам можно понять разве что по языку: остальные славяне — чехи там, словаки, сербы — говорят на похожих языках. Общность славян нынче проявляется только в языках, в остальном же они доказывают, что они злейшие враги друг друга. Хорваты резали сербов так жестоко, что даже немцев тошнило, украинцы не переваривают москалей, не говоря уж о поляках, которые никогда, кажется, не забудут нам того, что около 200 последних лет мы навязывали им свою государственность.
Вообще прошлое известно русскому только по книгам, если он читает книги. Из ежедневной жизни ничего путного о прошлом не почерпнешь. Простой народ плохо знает даты и скоро забудет, когда был день Победы над Германией. А если пойти вглубь от 1945 года, то кроме даты 7 ноября 1917 года, которую тоже уже не все помнят, не на чем держаться русскому человеку. Того, чему детей учат в школах (той, может быть, и не очень достоверной истории), детская память народа не держит. Слишком велик сонм современных персонажей кино, музыки — вся эта толпа лезет на передний план из телевизоров и конкурирует,— Шварценеггер, Сталоне или Ван Дамм затмевают Суворовых, Кутузовых или Иванов Грозных, которые мелькнули один, два, три раза со страниц учебника и потонули в серых строках азбуки, называемой «кириллица». Учебники написаны монотонно. А Шварценеггера показывают по телику часто. Потому и с большой Родиной дела у русского обстоят худо. Она по большей части свободно воображаемая.
Людей еще сплачивает в Родину культура. Россию бы тоже должна бы по правилам определять русская культура. Так оно и было долгое время. Но кончило быть. Культура у нас представлена для широких масс только Пушкиным. Ленивое государство 90-х годов радостно ухватилось за формулировку «Пушкин — наше все» и кормит массы только Пушкиным. Причем еще к полному скандалу для русских этот Пушкин частично негр, дворянин и помещик. Народу известно, что Пушкин был влюблен в белотелую помещичью дочь Наталью Гончарову, имел от неё детей, был убит на дуэли французом. Пушкин написал множество четверостиший для календаря. Особенно ему удавались четверостишия о зиме (о чем же еще?!), поскольку зима есть основная особенность России. Зима — это Россия. Состояние холода, неуюта Пушкин переносил легче, чем другие русские, поскольку унаследовал от африканских предков солнечный темперамент. К тому же, будучи помещиком, он мог в зиме не участвовать, а смотреть на нее из окна спальни: «Мороз и солнце! День чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный!» (Это поэт перевел взор на свою 16-летнюю белотелую супругу.) Или вот другое четверостишие, более характерное: «Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь…» Пушкину не надо было вылазить из постели, а крестьянин торжествовал потому, что грязь непролазная замерзла и теперь можно пользоваться санями. Лошадь меньше уставать будет, и крестьянин не будет выбиваться из сил, вытаскивая из грязи колеса телеги.
Пушкина кладут в рот всем, кто хочет и не хочет. Хотя он преизрядно устарел, и, выходя из подъезда, обильно раскрашенного граффити, непристойными надписями типа: «Смерть жидам и телепузикам!», русский парень выходит в общественное пространство, далекое от Пушкина, как от планеты Нептун.
Другие представители российской культуры слабо известны ее современным обитателям. Поколения русских людей, живших в советское время, имели благородную, хотя и несколько механическую привычку собирать в дом книги, ставить их в шкаф. Некоторая часть населения сумела скопить определенное количество книг и авторов. Наиболее энергичные закупали целые собрания сочинений «классиков». «Толстой», «Чехов», «Гончаров», «Тургенев» и другие труды литераторов помельче, тщательно упакованные в тома кошерных (скоромных) цветов, тесно пихались в шкафах. Сегодня шкафы эти принадлежат уже внукам собирателей. (Внуки начинают уже их тихонько выбрасывать, как американцы.) До этого принадлежали детям. Уже дети мало читали Толстых, Чеховых, Гончаровых или Тургеневых. По простой причине, что это долго и утомительно. К тому же социальные условия — те жизненные коллизии, которые описываются у «классиков»,— просто устарели. Таких событий и таких коллизий уже не существует в реальной жизни русской. Можно, конечно, читать книги классиков как символические басни. Но зачем же это делать. Многочисленные сочинения советского периода, всяческие «Далеко от Москвы», «Цементы», «Бетоны», «Белые березы» и подобные им произведения, при прочтении вызывают недоумение у тех, кто родился уже в 80-е годы. Советские коллизии и социальные условия, их вызвавшие, так же далеки от сегодняшней действительности, как и дворянин Пушкин. Это книги об очень наивных, трогательных или лживых людях другого мира. К тому же они бесталанно, как правило, написаны, потому читать их можно только из желания похохотать над «китчем». (Есть, разумеется, несколько книг классиков и советских, несколько книг, переживших свое время, но это особо талантливые книги.) В итоге можно сказать, что у населения России нет и сплачивающей всех в Родину культуры. Прошлые тексты, хотя и свободно читаются, но социально непонятны, как египетские иероглифы. Слова понятны, а вот значение текстов загадочно. Одно «социалистическое соревнование» чего стоит. И почему такой слюнтяй-размазня и позер Базаров (даже трахнуть Одинцову не смог) считался таким крутым в тургеневское время?
Так что Родина — это нечто ускользающее, совершенно исчезающее для русского человека. (Может, это телевизор?) Его малая Родина — нора в спальном районе, это несомненно. Стена, постель, несколько квадратных метров. При советской власти квартиры «давали». Бесквартирный человек в России обречен замерзнуть и умереть. Государство давало квартиры только хорошим гражданам. Трудолюбивым, безропотным. Тем, кто держал язык за зубами. Вот они имели право на секс, танцы и видео в холодном климате. Сейчас вроде бы иной режим, квартиру можно купить. Но государство, кажется, намеревается поставить дело так, что деньги смогут заработать только послушные, безропотные, правильные граждане. Хорошие граждане.
У меня не было норы. Но государство любезно предоставило мне койку в архитектурном памятнике XVIII века — в СИЗО «Лефортове».
Ж/д
Россия раскинулась на десять или двенадцать часовых поясов. Все эти хваленые пространства в основном — лунный мерзкий пейзаж. Если взглянуть на карту, то где-то за Башкирией Россия суживается практически до узкой полосы земли вдоль Транссибирской магистрали. Все крупные города здесь. Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и так далее нанизаны на нитку Транссиба. Выше простираются глыбы бесполезной, никому не нужной вечной мерзлоты, ледяной пустыни. Известно, что там бегают всякие пушные зверьки, а высоко на верхнем обрезе карты якобы плещутся в ледяных водах, в зеленых полыньях огромные белые медведи. Может быть, и так, но эти девять десятых территории России имеют больше отношения к понятию Нирваны, чем к понятию России. Большая часть России соответствует понятию «Сибирь», независимо от географического положения. Архангельская область это тоже Сибирь, Коми-Пермяцкие холодные дали — тоже Сибирь. Во всей собственно Сибири вместе с Дальним Востоком людей живет столько же, сколько в одном-единственном американском штате Калифорния — около 20 миллионов душ. В основном население России кучкуется, сгрудилось в Центральной России.
Но и там и там живут они в безобразных, в большинстве своем некрасивых городах, где если и есть архитектурные постройки прошлого, то по большей части недавнего, XX века, прошлого и не очень выдающиеся постройки. Деревянные здания русского Севера все черные, часто гнилые. То, что не успело разрушиться,— разрушается. Так в Архангельской области, также и в сибирском Енисейске. Енисейск, брошенный как будто посередине, в процессе незаконченных киносъемок, город 30 тысяч жителей. Густое синее небо, шубы и тулупы населения и серо-черное дерево, много серо-черных бревен и досок — вот Енисейск. Внутри бревенчатых домов теплится спрятавшаяся от сибирских морозов жизнь. В окнах между рамами — вата, как правило черная от пыли. За стеклами — скученная семейная жизнь, коллективно-сексуально-родственные отношения теплого кислого гнезда, неприхотливый кактус алоэ на подоконниках.
На северо-западе России есть единственно правильный город страны, возведенный Петром,— Петербург, сырой и красивый. Во Владивостоке на фоне сопок стоит, как полагается, памятник жестикулирующему Ленину. Все эти точки Питера, Владивостока, Архангельска, Красноярска стянуты стальными рельсами воедино. Не будь железной дороги — не было бы России. Ж/д — это Россия.
Два стальных прута, по которым движутся на множестве тяжелых металлических колес из конца в конец России бесчисленные вагоны, грузовые и пассажирские,— это ж/д. Два стальных прута особой конфигурации в руку среднего человека толщиной. Полтора столетия движутся по рельсам (сколько отрезков рельсов сменилось за полтора столетия, изношенные сменялись свежими) вагоны, соединяя Россию воедино.
Физически Россию соединяет между собой только железная дорога. Разрезать Россию, скажем, на две части ничего не стоит. Для этого не надо заниматься политикой, но нужно заняться технологией. Способ рассоединения — это технология. Рассоединение где-нибудь в районе Красноярска или Иркутска даст возможность стать сепаратистами всем районам к востоку от этих мест, областям Дальнего Востока и Приморью. Не получая грузов с западного направления, из Москвы, из европейской России, на протяжении нескольких месяцев, эти регионы для своего существования вынуждены будут переориентировать свое снабжение на Китай, Корею, Японию или Канаду и Соединенные Штаты, осуществляемое морским путем. Переориентировавшись экономически, придется переориентироваться и политически.
Все российские железнодорожные станции построены в два периода: при царях и при советской власти. При царях строили пузатые водокачки, низкие вокзалы и пристанционные ангары из красного кирпича. Строили добротно. Большая часть этих построек, та, что находилась вне европейской части — зоны боевых действий в Великую отечественную войну,— сохранилась и по сей день. Подлатанные здесь и там, исправно служат станции и водокачки. В первые лет тридцать советская власть старательно подражала в железнодорожной архитектуре власти царской. Она строила здания в помещичьем стиле, упирая почему-то на колонны, возможно принимая их за символ имперскости. В последние сорок-тридцать лет железнодорожная архитектура переквалифицировалась на возведение прагматичных и некрасивых железобетонных конструкций.
К настоящему времени и царские и советские железнодорожные строения обветшали, много раз штопаные и крашеные черты их стерлись. Потому железнодорожная реальность России предстает перед лицезреющими ее в стиле, который можно охарактеризовать как «стиль б/у», то есть «бывший в употреблении». Это касается как самой станции, так и околостанционных построек и пристанционного ландшафта. Обычный перрон обычной станции раздолбан дождями, морозом и зноем, он весь в ямах и рытвинах, более или менее залатанных поспешно асфальтом или цементом. Выглядит как старая штопаная простыня. Серого цвета. Наполняющие перроны российских вокзалов человеческие толпы по их состоянию также можно отнести к стилю «б/у», то есть «бывших в употреблении». Это необязательно все сплошь старые и пожилые люди (хотя в России 38 миллионов пенсионеров на 144 миллиона населения). Б/у — это их внешний вид. На них как правило потертая «second hand» одежда. Лица их и их движения растерянны, неуверенны и неэнергичны. У них много ручной клади, тележек, мешков, сумок и рюкзаков. Выглядят люди утомленными. Окрестный пристанционный ландшафт тоже утомлен, это, возможно, самые запущенные земли в городе. Подъезд к вокзалу весь забросан мусором вдоль путей, на боковых в паутине рельс стоят различные заброшенные вагоны с выбитыми стеклами, кое-где жгут свои костры бродяги. На перронах маленьких русских станций стоят и присели на корточки грустные местные хулиганы в лыжных шапочках и шароварах, местные бабули продают семечки. От полусгнившего строения с крупными буквами M и Ж, навеки заколоченного, пробиваются в трещинах почвы вонючие кривые ручейки мочи. На станциях покрупнее, всматриваясь жадно в стекла вагонов дальнего следования, гуляют парами и группами девочки-подростки. Мечтая о чуде, чтобы кто-нибудь увез их отсюда. О том же мечтают и хулиганы, присевшие на корточки. На самом деле вся Россия хочет куда-нибудь уехать из России.
В областных центрах на вокзалах торговли с рук не происходит. Стоят два, в лучшем случае три киоска с напитками ядовитых цветов. Ничего живого в них не купишь. На станциях помельче бегают женщины с сумками. Но и у них выбор невелик: пиво, сухой хлеб, батоны искусственной колбасы в пластиковой упаковке. Предприимчивость и торговая жилка у жителей российских центральных регионов отсутствует. Начисто. Ассортимент, как уже было сказано, убог. Есть, правда, станции, где вся платформа вдруг продает рыбу, как, например, Барабинск, но это уже не Центральная Россия, это Южная Сибирь — люди там менее апатичны. Догадаться купить какой-нибудь бидон с подогревом и продавать на перроне что-нибудь горячее и живое, россияне, по-видимому, не могут — им лень. А лень у них оттого, что бесцветные белые пространства восемь месяцев в году из двенадцати безмолвно разрушают их волю и воображение. (Для сравнения: в Азии на станциях и между станциями продают все. Поезд, идущий по Азии,— это движущийся базар.) Некоторые станции запружены целыми толпами местных жителей, продающих продукцию местного градообразующего предприятия. Если это стекольный завод, то носят рюмки, фужеры, графины, штофы. Если градообразует завод мягких игрушек — то жирафы, крокодилы, орангутанги и собаки прогуливаются вдоль вагонов быстрым шагом. Русские торговать не умеют, потому они угрюмо-деловиты, дефилируют, словно идут куда-то, проходят через. Обилие товара объясняется тем, что администрация градообразующих выплачивает рабочим зарплату продукцией предприятия.
Перережь ж/д надолго в десятке мест, и Россия распадется на десяток отдельных территорий. Кроме кириллицы азбуки и железной дороги, что еще соединяет русских? Очень немногое. Но азбука не повод к тому, чтобы держаться вместе. Ж/д — повод. Ночами во время стоянок на станциях слышны деловитые радиокрики диспетчеров, формирующих из вагонов и групп вагонов составы. Персонал ж/д многочисленнее администрации правительства. Ж/д на самом деле держит Россию вместе. Она лишь еще не научилась ею манипулировать.
От утонувшего по брови в снегу деревянного дома отделяется человек в тулупе с флажком. Он стоит, держа свой флаг, пока не проедет состав. Ж/д соблюдает Россию. Соблюдает рельсы, чтоб не изнашивались, не стаптывались как никудышные башмаки или шляпки старых гвоздей. Железная дорога — наследство никчемной России сегодняшней, страны меланхоличных лунатиков, доставшееся от энергичной России прошлого. Ж/д — это как пирамиды для никудышных современных феллахов, безграмотных и тоскливых как собаки. Самим нам такую железную дорогу через часовые пояса не построить. Вот и глядим на нее, как феллахи — на пирамиды.
К тому же она еще действует. Поместившись в вагон, можно, подражая «взрослым» суровым временам, перемещаться из пункта А в пункт Б. Можно в подражание путешественникам былых времен пить чай из стакана в подстаканнике, трескать крутые яйца и жирную колбасу. Вот только на юг уже не разъездишься, через несколько часов начинаются земли, отпавшие от Империи, чужие государства. Можно, правда, шесть дней ехать на восток и насладиться расстоянием, достойным фараонов. Скоро у нас эти расстояния, конечно, отберут более сильные нации.
Смерть художественной фильмы
По грамматическим правилам начала XX века следовало говорить не фильм, но фильма. «И целлулоид фильмы воровской», «и целлулоид фильмы пожелтелой» — звучат в моей памяти элегантные, как всякая старомодность, речевые эти обороты. Память же моя раздобыла кунсткамеровские «фильмы» вероятнее всего у Мандельштама из стихотворения «Аристократка и гордячка» (рифмуется с «любовная горячка») — «влюбилась в лейтенанта флота». Откуда бы ни раздобыла, но согласитесь, что это круто — «фильмы».
Столетие тому назад братья Люмьер хорошо начали, просто отлично, показав документальный первый фильм — движущийся, прибывающий на вокзал поезд. Вот так бы и служить кинематографу правде жизни… Но вместо этого трусливо поджали хвост и быстренько смешали новое изобретение с театром, со спектаклем. Кинематограф проблуждал в тупике театра около 100 лет.
В самом деле, у фильма та же условная формула, что и у спектакля. Во временной формат около двух часов вмещаются события, разворачивающиеся как минимум в течение нескольких лет (лишь иногда — нескольких дней), потому вся затея выглядит как символическая видеотелеграмма на заранее заданную тему. В условном фильмовом времени ни одна сцена не длится более нескольких минут. Художественный фильм — это принципиально поверхностное зрелище. Художественный фильм — это механическим образом заснятый на целлулоидную ленту спектакль. Фильм — ближайший родственник и спектакля и романа, и все это — виды искусства для людей с оформленными браками, это буржуазные виды искусства. Люди с неоформленными браками предпочитают более спонтанные виды.
Уже четверть века я не могу смотреть так называемые художественные фильмы. Движущиеся картинки. Сильнейшие симптомы отвращения к х/ф появились у меня по прибытии в Америку в 1975 году. Отвращение я испытывал и ранее, в СССР, но там мой опыт зрителя был невелик. Потому что, оказавшись в чужой стране и вскоре сделавшись безработным, я был обречен быть принесенным в жертву телевизионному экрану и провел немало пустых вечеров, утешая себя кинопродукцией страны янки. В результате в первую очередь я проникся ненавистью к историческим фильмам. В них со школьной старательностью скопированные с рисунков в школьных учебниках действовали трусоватые герои с бородами и в кольчугах — какие-нибудь Айвенго (читалось Иванхоэ) и Робин Гуды с подкрашенными по-голливудски глазами, окруженные толпой вспомогательных персонажей. Команда вспомогательных состояла из обязательного комедийного средневекового деда Щукаря, ну вы знаете весь этот casting вокруг Чапаева: Петька, Анка, Фурманов, только средневековые, с луками в руках.
В новом для меня свете я был вынужден просмотреть и некоторое количество новых для меня гангстерских фильмов: мужчины в двубортных костюмах и шляпах-кастрюлях с полями неистово состязались в вульгарности, кто пошлее скажет; боялись женщин и потому вовсю третировали своих барашкообразных подружек. Гангстерам противостояли плоские, как стиральные доски, и совершенно непонятно по каким причинам неподкупные американские эфэсбэшники, лохнессы. Всю эту новую для меня белиберду я некоторое время смотрел, и даже с увлечением, не замечая или стараясь не замечать ее «художественность», то есть ходульность, банальность характеров, тупость сюжетов и самой посылки фильма и всего жанра гангстерских (да и вообще всех американских) фильмов: люди гробят друг друга и гоняют по пейзажам городским и сельским из-за пригоршни долларов, и только.
Параллельно я открыл для себя ковбойские фильмы. Настоящим неприятным шоком стал для меня фильм «Bus stop» — автобусная остановка — с актрисой Мэрилин Монро в главной роли. Я знал, что Мэрилин считала этот фильм вершиной своей карьеры. Фильм оказался любовной историей, довольно примитивно исполненной, девушки-официантки и деревенского парня-ковбоя, приезжающего из своего захолустья для участия в родео в главный город сельскохозяйственного штата (соответствует Георгиевску в Ставропольском крае). Просмотрев этот целлулоидный памятник фермерству и крестьянству, я, помню, навеки убил в себе те крохи комплекса неполноценности и к Западу и к «их» звездам и к киноиндустрии, которые у меня еще оставались, ну как у представителя более архаичной профессии — писательской. За Мэрилин Монро мне стало стыдно, что она на уровне ВДНХ.
Позднее я увидел совсем школьные фильмы с Джеймсом Дином, и мне стало стыдно за Дина и за то, что в юности, мне говорили, я был на него очень похож. Все его шедевры, в том числе и «Rebel without cause», можно было показывать родителям трудных подростков в детской комнате советской милиции.
Я не могу смотреть х/ф. Они рассыпаются передо мной в куски. Я знаю, что сценарии написаны людьми со слабыми мозгами для людей с еще более слабыми мозгами. Разум много меньший, чем мой, задумал и написал неоригинальный обывательский сценарий х/ф. Я знаю, что недалекие люди отобрали для съемок профессиональных лицедеев — напыщенных, приторных и глупых. Я знаю, что, стремясь привязать действие фильма к исторической эпохе и к месту действия (Мексика, Нью-Йорк, Париж, леса Амазонки), костюмеры сшили лживые костюмы, поразглядывав для этого рисунки в книгах по истории или (лучший вариант) фотографии. Вся эта готовая херня: люди, костюмы, ландшафт и декорации — была затем соединена проводами диалогов. Ведь в Голливуде существуют не только артели сценаристов, как артели плотников или полотеров, но существует и специальность поуже — dialogist, то есть автор, специализирующийся по диалогам. Артели диалогистов нанимают для фильмов большого бюджета, которым суждено удивить мир, для blockbusters. Смешав всю эту липовую кашу, прибавив к этому лысоватого хряка-режиссера с развратными помощниками и пошляками-операторами, катающимися на рельсах, присев у камер, как у пулеметов, оценивающими в трубу и без ягодицы и вымени актрис,— о нет, я не кинозритель! Из меня никакой индиец, египтянин, я, скорее, неверующий в птичку ребенок, распотрошивший фотоаппарат в поисках птички, так и не вылетевшей. (Причем здесь индийцы и египтяне? Это нации, наполняющие свои кинотеатры до отказа — так они любят кино. Конкурируют с индийцами и египтянами только китайцы.) Я не верю в птичку, нудотина и тягомотина фильма унижает меня. Обыкновенно через десять минут я встаю. Порнофильм куда честнее, и эрегированный фаллос — он и есть эрегированный фаллос, вонзающийся в эту штуку. Исторический костюм ему не нужен, и обман здесь неуместен. Нет-нет, я не индийский, и не египетский, и не китайский наивный, со слаборазвитым воображением кинозритель. Но мой въедливый разум пересиливает во мне способность к иллюзии и фантазии. И это происходит не только со мной, феномен переключения каналов — zapping телевизора в поисках лучшего фильма — свидетельствует о том, что человечеству поднадоели условные двухчасовые убогие спектакли целлулоидных «фильм».
Есть категория фильмов, которые я не люблю особенно. Это советские и российские фильмы на иностранные сюжеты, в особенности на французские и испанские исторические сюжеты. Какие-нибудь советские «Три мушкетера», «Королева Марго» или «Графиня де Монсоро». В таких фильмах одутловатые и жирные завсегдатаи Дома актеров выпендриваются под д'Артаньянов, Атосов, Портосов или Арамисов, а телки из спальных районов — под королев и миледи. Актер Боярский вызывает у меня неудержимые позывы к рвоте. Его шляпа и усы для соблазнения обитательниц какого-нибудь Чкалова или Челябинска как бы прибыли из детского фильма «Кот в сапогах». Вся это франко-испанская тематика воняет студенческим капустником. Вообще, откуда у русских эта извращенная странная идея увлеченно штамповать целлулоидные ленты из чужой плохо понятой истории, прямо противоположной нашей? Когда актеры страны саней, лыж и белых медведей представляют персонажей знойного юга или Парижа, где снег падает один раз в десять лет. На х.я, хочется спросить, создаете Вы столь дикие фильмы-олигофрены? Снимайте фильмы о сборе клюквы и об оленях. Впрочем, есть и обратные примеры. Это когда маслина Омар Шериф сыграл доктора Живаго в одноименном фильме. Получилась маслина в снегу — дичайшее произведение. Впрочем, был такой русский автор Александр Грин, произведения которого, пропитанные англофилией, повествовали о приключениях героев с английскими именами. Если не знать, что этот Грин всю жизнь прожил в Старом Крыму, можно принять его за переведенного англичанина.
Так что фильмы — дешевенькое развлечение для неумного человека. А чем, вы думаете, занимаются хитрые евреи в своем Голливуде вот уже около ста лет? Гениальные шедевры для вас создают? Голливуд — это «Макдоналдс» популярной культуры, появившийся задолго до «Макдоналдса». А звуковое оформление! Вы еще должны слушать звуковое оформление, чтобы глубже погрузиться в эту чушь. Шаги маньяка по пустому коридору вам еще и сопровождают хрипами, тактами, аккордами, душераздирающими музыкальными воплями. Жизнь развивается без музыки, музыка есть глубоко искусственное. Музыка жизни — это гром, это шум рек, это шум автомобилей, это крик ворон… а не поп-группы… Но вас просто хотят расколоть на ваши рубли или доллары. Вот и все.
Недавно в интервью газете «Коммерсант» заезжий кинематографист Питер Гринавэй объявил о смерти кинематографа. Он несколько неточно определяет проблему. Умер не кинематограф, но умер художественный фильм, то есть двухчасового формата спрессованная, построенная по законам театра история в коротких эпизодах, то есть умер скорее жанр, чем принцип просмотра движущегося изображения на экране. Удовольствие от возможности увидеть поезд, некогда, более ста лет тому назад, прибывший на французский вокзал, осталось удовольствием. Более того — таким способом на целлулоиде впервые в истории человечества стало возможным сохранять историю. Этой величайшей функции сохранителя истории у кинематографа никто не сможет отнять никогда. В этом величие и значение кинематографа: он сохранил для нас Ленина и Гитлера, Муссолини и Черчилля, так же как и исторические эпизоды битв Второй мировой войны, кадры убийств Кеннеди и Ассада. Он сохранил для нас улицы городов мира, какими они были столетие тому назад, сохранил типы людей, он создал возможность закрепить и хранить Историю.
Неприличное же сожительство старого пыльного спектакля и нового великого изобретения привело к созданию за сто лет дичайшего количества погонных миллиардов метров бездарных и тупых историй на целлулоиде. Бесстрастная, монотонная жвачка для глаз, утомляющая человека и отвлекающая его от процесса жизни — любви и ненависти настоящих, живых, личных, а не вялых реакций на чужие плохо сыгранные страсти на экране. В середине прошлого века к непристойному союзу спектакля и кинематографа присоединилось новейшее изобретение — телевизор. На сегодня 2/3 телевизионного времени занимает прокат фильмов, то есть показ все тех же заштопанных спектаклей. Снятые для телевидения фильмы-сериалы по качеству еще хуже традиционных фильмов. Это совсем уж жалкая продукция.
Нельзя отрицать, что за всю историю существования художественного фильма как технического ухищрения были созданы интересные истории. Но их так мало, что все шедевры мирового кинематографа могут быть сочтены на пальцах двух рук, ну, может, еще одну ногу придется добавить. «Броненосец Потемкин», «Рождение нации», «Триумф воли» далеки от театра и потому шедевры. Называть их художественными фильмами можно только условно. Это не фильмы, но эпические полотна, созданные с помощью техники кинематографа.
В кинематографе без театра работы огромное количество, и талантливые люди будущего сделают эту работу. Документальное кино будет самым безумным и сногсшибательным в ряду современных техник понимания и освоения мира; и это прежде всего вечно юная фотография, письма, документы, отпечатки пальцев, записи перехваченных телефонных разговоров, любительские видео, как те, что отбирают у боевиков, снимавших казни… Будущее у такого кинематографа — кинематографа-преступника, кинематографа-следователя, кинематографа-свидетеля — огромное, киноспектакль, х/ф не имеет будущего.
Моим другом был неплохой французский режиссер Жоель Сериа. В Париже в 1980 году ко мне в дверь вломился режиссер Душан Маковеев, и с тех пор мы с ним не раз встречались в Париже и в Белграде. Режиссер Волькер Шлондорф мечтал сделать фильм по моему роману «Это я, Эдичка», и мы долго дискутировали об этом в Нью-Йорке, правда потом он потерял продюсера, готового выложить деньги за экранизацию «Эдички». Так что я не голословный критик кинематографа. «Sweet movie» Маковеева близко подбирается к моему идеалу. Часть фильма снималась в западногерманских коммунах. Маковеев предвосхитил «Pulp fiction», и «Прирожденные убийцы» Тарантино, и Стоуна. Good old Makoveev. По странному стечению обстоятельств Маковеев не раз останавливался в отеле «Winslow», где происходит основное действие романа «Это я, Эдичка».
Хлеб наш насущный
Хлеба в России поедается немыслимое количество. Ненужно много. Мужчина может умять и десять полновесных ломтей за обедом, а уж пять съест и школьник. Женщины со времени хождения пешком под стол привыкли к бессистемному поеданию в течение дня громоздких подслащенных булочек и прочей «сдобы». «Сдоба», то есть пироги, коржики, мучные рулеты, бублики разных видов, продается в России повсюду, в том числе и у станций метро, в любую погоду. В пургу их просто прикрывают клеенкой или пластиком. Неудивительно, что эта привычка поглощать тесто между завтраком и обедом и между обедом и ужином (это называется «заморить червячка») является таким же характерным национальным отличием, как и русский язык. Ну, разумеется, вся эта «сдоба» рано или поздно оседает у девушек на задницах и ляжках. Если группа тридцатилетних русских девушек проходит вблизи наблюдателя, то возможно почувствовать некоторое потряхивание почвы. Россия соревнуется с Америкой не только по количеству ядерных боеголовок, но и по количеству overweight женщин. Скоро Россия будет впереди, потому что все большее количество простонародных девок видны на улицах сосущими пивные бутылки, и давно уже вошел в обиход термин «пивная королева», обозначающий молодку, разбухшую на пиве как молочный поросенок. В Соединенных Штатах есть чуть бьющий мимо термин «coach potato», но он употребляется по отношению к обеим полам, это разбухшая от «быстрой пищи» персона, проводящая большую часть дня на диване у телевизора. Буквально означает «диванная картофелина» или «картофелина на диване».
Русские жрут очень много, безжалостно растягивая свои кишки. Возможно отыскать этому и социальное объяснение. В XX веке беднейшие слои населения России пережили несколько голодных периодов, в периоды войн, революций и социальных экспериментов. Отсюда, наверное, и родилась тенденция рассматривать людей худощавого сложения как больных и феномен, связанный со словечком «поправиться». Это «поправиться» пропутешествовало сквозь время и поколения и успешно процветает в России, забивая прямо противоположный идеал fitness, когда девочки замучивают себя голодом, дабы похудеть. В России таких замученных немного. «Вашему ребенку необходимо поправиться»,— убеждает докторша мать нормального пацана, всего лишь переживающего период роста. «Кушай хорошо, кушай с хлебом, так ты никогда не поправишься»,— наказывают матери своим детям уже поколениями. Чтобы мы «поправлялись», в моем поколении нас заставляли пить вонючий рыбий жир. После обеда рекомендовалось прилечь, чтобы «жирок завязался». Вряд ли русские матери понимали и понимают, что призывают следовать как идеальной модели — телу ожиревшего мужчины. Худых подростков подозревали в наличии глистов и даже в злоупотреблении онанизмом.
Судя по всему, у наших голодных родителей и предков образовалась своеобразная эстетика для голодных: их идеалом был толстощекий Гаргантюа. Впрочем, простым людям России французский мифологический толстяк неведом, разумеется. Как и модный в предыдущее десятилетие художник Ботеро, запечатлевший розовые тонны толстяков и толстячек на своих холстах. Богатырь Илья Муромец, по всей вероятности, был жирным экземпляром. Мой первый сокамерник в Лефортово Леха рассказывал мне о бутерброде, называемом «авианосец». Это батон, разрезанный вдоль, целиком намазанный маслом и сплошь уложенный колбасой. Таким «авианосцем» перекусывала московская школьница, его подружка; когда они познакомились, девушка училась еще в старших классах школы. Леха, стесняясь, утверждал, что в 22 года живот этой подружки наплывал на причинное место, что его следовало поднять для того, чтобы совершить естественный половой акт. Во какие девушки в России! Славянские необъятные телеса эти заставляют облизываться (я так предполагаю) иностранных людоедов, а садист в негодовании хватается за кнут, дабы тяжелой работой заставить чувствовать всю эту массу белого жирного мяса. Американки, правда я не посещал их страну с 1990 года, бывают чудовищно огромны. Что черные, что белые. Я бы сказал, пугающе огромны.
Большинство жителей России питаются неразумно, жуют не задумываясь. Традиция питания (если можно назвать то, чем они занимаются, столь благородным термином) была передана им родителями, так сказать, опытным путем. Они едят в заведенные для них мамками и папками часы, а те в свою очередь восприняли традицию от своих родителей. Жрут плотно с утра, независимо от того, эвакуировали ли из себя уже предыдущую пищу, или так и давит она тяжестью внизу живота. (Наполненный дерьмом до горла человек, конечно же, не должен жрать, пока не эвакуирует пищу.) В России распространено в народе ложное убеждение, что если не набивать себя пищей три раза в день, то обязательно заболеешь язвой желудка или еще каким-нибудь желудочно-кишечным заболеванием. Тогда как верно как раз обратное: если насильно заставлять свой желудок и кишки круглые сутки кипятить и разлагать пищу, переваривать ее и перегонять, то излишняя работа эта тяжким бременем ложится на организм. Желудок и кишечник — отличные сверхсовременные кухонные аппараты организма, но гонять их на полную мощность 24 часа в сутки нельзя, нужно давать им отдохнуть. У российского же гражданина брюхо — это вечно кипятящаяся кастрюля, в ней постоянно пучится, гниет, бродит и подогревается всякая бросовая дрянь, которой он нажрался в течение дня. Естественно, что кастрюля прожигается, окисляется, в ней образуются дыры, но это от переизбытка питания.
Рано утром жрать нельзя. (Ну, естественно, если тебе не давали есть до этого двое суток, то утро ли, вечер — тебе едино — ешь!) Встань, попей чайку, выпей кофе, сходи опорожни желудок, если не хочешь или не можешь, жди, пока желудок опорожнится, только после этого в него, пустой и легкий, можно сбрасывать еще пищу. То, что необходимо принимать пищу три раза в день,— чушь собачья. Существует 2.600-летняя институция буддистского монашества. Все эти 2.600 лет поутру монахи разбредаются с деревянными мисками просить у мирян подаяние. Дело происходит в бедной Индии и в соседних бедных странах мира. Миска наполняется обычно лишь к вечеру овощами, иногда рыбой, лепешками, зерном. Тогда монах садится и трапезничает — поедает содержимое миски. Один раз в день две тысячи шестьсот лет это происходит. При такой естественной диете организм не перегружается. Буддистские монахи известны своим долголетием. Никаких особых болезней желудка у них не наблюдается. Адепты одноразового питания были и в Европе. Известный философ Иммануил Кант из Кенигсберга питался один раз в день и несмотря на слабое от природы здоровье прожил до глубокой старости. Среди других его разумных предложений по части надзора над своим организмом — он рекомендовал движение; «постель — гнездо всех болезней»,— правильно понял он еще в XVIII веке.
На самом деле дело не в одноразовом или трехразовом питании, не в количестве раз приема пищи, но в том, чтобы пища принималась по мере реальной надобности организма. Тогда бы женщинам не пришлось бы вести бессмысленную и упорную борьбу с лишним весом. Представляется нормальным питаться два раза в день: обед и не слишком поздний ужин. Хлеба человеку много не требуется, также как и картохи, нет смысла забивать все кишки булочками. Хорошо бы по возможности питаться «малогабаритной», если можно так сказать, но полезной пищей. И даже в поедании простой картохи есть трюк: картошку (если она не гнилье уж совсем) нужно потреблять обязательно с кожурой. Так как все витамины и питательные вещества содержатся именно в кожуре. Так что воспоминания блокадников Ленинграда о тяжелых голодных днях, когда они вынуждены были кипятить картофельную кожуру, следует читать с поправкой, знак минус исправить в плюс. Они правильно варили кожуру, ее и не нужно было срезать изначально — это самое ценное в картошке. То же самое касается поведения «утонченных» натур, очищающих ножом кожуру с яблок: мудак, это то, ради чего едят яблоки. Сердцевина яблока, его пазуха, там, где зерна, также собрала в себе витамины. Ешь все, огрызка не должно быть. Это же наблюдение касается чистюль, тщательно слупливающих мельчайшие волокна кожуры и цедры с мандаринов, апельсинов или грейпфрутов. Цедра полезна, даже кусочек кожуры с ее эфирными маслами полезен. Маленькие дети инстинктом знают это, потому часто жуют кожуру мандаринов, сосновые иголки. Взрослый остолоп теряет связь с природой.
Я взялся за перо не с целью наставить соотечественников на путь истинный, не мне их исправлять, пусть их жрут свой хлеб и отращивают жопы (как-никак в тюрьму меня посадили, падлы, соотечественники, погань, палачи!), но с целью в процессе изложения их привычек и особенностей, может быть, разгадать некую тайну нации. Узнав которую, возможно будет здесь вправить сустав, там развить мышцу и voila — здоровая нация.
Булочки, мороженое, пирожные, такты душенька из смазливой конфетки-панкетки станешь отвратительной булочкой, а потом «теткой», «бабищей», и самцы будут воротить от тебя морды.
Кипяти в себе пищу только тогда, когда надо это делать. Не разводи огонь в чреве попусту, береги свой организм. Не ходи с постоянно кипящей кастрюлей. Жрать хлеб — занятие пресное. Ты есть то — что ты ешь, орлы ведь жрут свежее сырое мясо, отчасти именно поэтому они и орлы. Хлеб — пища унылых землепашцев, от хлеба развивается апатия и анемия. Свирепые кочевники жрут мясо.
Мясо должен готовить мужчина. Мясо нужно готовить на очень горячей сковороде очень недолго. Минуты какие-то на одной стороне, еще меньше времени — на другой. Лучше жрать совсем немного мяса, чем много говна.
Женщины слишком долго готовят еду. Проходят многие часы, прежде чем они наконец подают пищу на стол. Пищи этой всегда мало, она обычно переварена и пережарена, короче говоря переготовлена. В России вообще не умеют готовить мясо, а в особенности не умеют его готовить женщины. Они засушивают мясо тем, что накрывают его, сушат его, мясо становится серым. Серое мясо — мертвое мясо. Из него ушла энергия. Кто дал женщинам славу кулинарок — неизвестно. Может быть, потому, что мужчины в России инертны в массе своей и не выходят из-под опеки мамочки до старости лет?
Я встречал женщин, хорошо готовящих пироги (минимальное количество теста, вкусная начинка), встречал терпеливых салатниц. В России салатом называется все, что измельчено и смешано вместе. Тогда как салат именно включает в себя основным ингредиентом по необходимости листья растения салата. Того или иного салата, их сотни сортов — салата.
Всегда инструктивно наблюдать, как женщины едят. У Лизы при этом всегда потел носик. «Ням,— говорила она,— ням-ням». От еды, особенно от свинины, она получала большое удовольствие. Это потому, что еда и секс, оба,— удовольствия. Женщины вообще едят более плотоядно, чем мужчины, но, конечно, нужно какое-то время, чтобы она привыкла к вам, стала вам доверять и как следствие вела бы себя в еде естественно. Я не встречал вялых в еде женщин. Мне такие не попадались, может быть потому, что еда, кажется, напрямую связана с сексуальной активностью. А партнерши у меня были сексуально активные, других я не искал. Как ест женщина, так и делает свою женскую работу, очевидно будет справедливо заключить.
Так как большинство — рохли и олухи, то даже зная, как надо, они будут продолжать жрать свои «сдобы», ходить, двигая гиппопотамьими ляжками, икать, рыгать, вонять и ходить в туалет в самые странные часы.
Опера и балет
И опера и балет — комплексные виды искусства, появившиеся на свет при королевских дворах Европы, это королевское искусство, как есть королевские пудели и королевская мантия. Только королевские дворы Европы могли позволить себе содержать комплексную труппу профессиональных певцов и танцоров и в придачу к ним огромные комплексные оркестры, требующиеся для исполнения балетной и оперной музыки. Потому время рождения оперы совпадает с рождением абсолютизма: это XVII век. Просто вельможа поднять подобные финансовые затраты конечно не мог. Лишь Его Королевское, а предпочтительнее Императорское Высочество. Потому эти blockbusters писались по заказу монархов. Лучшие оперы — это конечно же оперы Моцарта: его несравненный «Don Giovanni», он же Дон Жуан, о Дон Жуане естественно, «Cosi fan tutte» («Так поступают все») и восхитительная «Die Zauberflote» («Волшебная флейта»). Все они написаны в конце XVIII века. Историю Дон Жуана знает весь мир и русские тоже. «Так поступают все» — история о том, как два офицера — Феррандо и Гульельмо — решают испытать верность своих невест Дорабеллы и Фьердилиджи. Ну, а «Волшебная флейта» — это история о том, как принц Тамино играет на флейте, способной управлять человеческими страстями.
В связи с принцем Тамино: австриец, как и Моцарт, Гитлер (на самом деле они два самых великих австрийца — Моцарт и Гитлер). И если уж кто и был способен управлять человеческими страстями — это Адольф Гитлер, как принц Тамино. Раздумывая над этим в один из тюремных вечеров в камере №13, я написал следующее неполиткорректное стихотворение.
Принцем Тамино с винтовкой и ранцем
Немец австрийский Гитлер с румянцем
По полю французскому славно шагал
Но под атаку газов попал
Кози фан тутте. Ди Зауберфлете
Австрийского немца моцартовы ноты
Ездил в Париж. Жил полжизни в каретах
Музыку сфер записал он в дуэтах
Курфюрсты. Эрцгерцоги. Клары. Кораллы
Наци вина нацедили в бокалы
Гомо-фашисты, Эрнст-Ремы и гомо
Имя Моцарта фашистам знакомо.
Будь я эсэсовцем юным и смелым
Слушал бы Фьердилидж с Дорабеллой
Два офицера: Гульельмо, Феррандо
Их Муссолини прислал контрабандо
Двух итальянцев,— штабистов смешливых
В наши кафе кобылиц боязливых
Как я люблю тебя Моцарт-товарищ,
Гитлер-товарищ не переваришь,
Гитлер амиго принцем Тамино
Нежно рисует домы в руино…
Причудливое мое произведение упоминает рисующего «домы в руино» Гитлера совсем не по причине рифмы. Будучи связным между линией фронта и штабом своего подразделения (Гитлер добирался до фронта на самокате-велосипеде). Гитлер имел в Первую мировую достаточно времени, чтобы рисовать. Его наброски и акварели отдают предпочтение историческим монументам, потрескавшимся и разрушающимся. В рисунках Гитлера есть одновременно историзм Клода Лоррена и дух мистического сюрреализма, прославивший позднее де Кирико.
Но возвратимся скорее к опере. В середине и конце XIX века с мрачным циклом опер на темы германской мифологии под общим названием «Кольцо Нибелунгов» выступил рыжий немецкий композитор Рихард Вагнер. Машинерия этих опер несколько по-немецки тяжеловесная. Я видел их во французской постановке. Имени режиссера вот не помню, но помню, что по сцене у него бродили настоящие великаны. В прежние времена неиспорченные кино и телевидением люди были более непосредственны и сентиментальны, потому неудивительно, что вся комплексная машинерия из богов, папье-маше, Зигфрида, его меча, Валькирий, злого карлика, похитившего золото Рейна, сумела вдохновить несколько поколений германских националистов. С Вагнером некоторое время дружил Фридрих Ницше, а уже упомянутый Адольф Г., придя к власти, посещал во фраке и с бабочкой Вагнеровские фестивали в Байрете и одаривал своей дружбой его наследников. Не будет преувеличением сказать, что Третий рейх вышел из опер Вагнера. Редчайший случай, когда государственность родилась из опер.
Однако и опера и балет (он несколько младше оперы) вряд ли должны были выходить за пределы гибели Третьего рейха, за 1945 год. Это глубоко монархические, именно королевские виды искусств. В XX веке они выглядят анахронизмами. Символично, что приезжих знаменитостей — гостей Советского государства водили в Москве в Мавзолей и в Большой театр, в эти поистине чудеса света. В Мавзолее лежал забальзамированный труп вождя (что благородно, мистично и ужасно одновременно), а в Большом театре им показывали забальзамированное, давно исчезнувшее искусство. Балет и опера ушли уже тогда в технические штучки типа кто осыплет люстру голосом или кто больше раз перевернется вокруг своей оси. «Лебединое озеро»— самый известный русский балет — как раз и было то самое ненавидимое коммунистическим режимом «искусство для искусства». Сюжет, наивнее не придумаешь — для детей младшего школьного возраста: заколдованная, превращенная в лебедя принцесса, феи, враждебная и благосклонная, принц, расколдовывающий принцессу. Советская власть с удовольствием и гордостью демонстрировала приезжим иностранцам принца с балетными ляжками, лебедей, фей, положительную и отрицательную,— весь ассортимент. Власть, якобы, рабочих и крестьян, все же была по сути своей Империей, потому поощряла королевские виды искусств. Балет, кстати, обожали и идеологические противники Страны Советов — в Империи Соединенных Штатов. Потому советские балетные звезды легко бежали в страну толстяков.
В настоящее время опера и балет не могут быть отнесены к искусствам. Они функционируют как музейные кунсткамеры, как исторически сохраненные от уничтожения государством раритетные виды искусства. Мариинский и Большой театры по сути такие же музеи, как Эрмитаж или Третьяковская галерея. С той разницей, что картины Мариинки и Большого — движущиеся и звучащие в отличие от написанных маслом.
В середине 90-х, помню, сидел я в директорской ложе Мариинки, среди завсегдатаев. Меня пригласил туда Леонид Надиров — директор школы имени Вагановой. В гостевой квартире этой школы на Фонтанке я и жил. Давали «Лебединое». Я с приятелем собирался уже сбежать, было скушно, несмотря на то, что на сцене была и прима Ульяна Лопаткина; как вдруг сидевшая рядом женщина в красном жакете что-то пробормотала в адрес Лопаткиной. Мы разговорились. Дама в красном знала обстоятельства личной жизни всех присутствовавших на сцене. Когда я выразил желание быть представленным Лопаткиной, дама хмыкнула и воскликнула: «Зачем вы ей? Разве вы не знаете, что она живет с девушкой, у нее есть любимая?» И дама рассказала нам тонну захватывающих историй о балете. Смотреть стало много интересней.
Мораль шуточной этой истории такова: выхолощенное по сути своей историческое музейное искусство балета совершенно не есть искусство, это хорошо отдроченный музейный спектакль. И только. У него нет никакой связи с современным человеком. Ни одной. Когда появляется, пусть анекдотическая, но связь: узнаешь от дамы в красном жакете, что Лопаткина лесбиянка и живет с девушкой,— начинаешь смотреть на сцену с большим интересом.
Я знал некоторых балетных танцоров и балетных критиков. Михаил Барышников был чуть ли не первым, кто прочел мой первый роман в рукописи в Нью-Йорке в 1977 году. Я знал Александра Годунова — рано ушедшего танцора. Рудольфа Нуриева я почему-то не встретил, но когда он умер, у него нашли мою книгу «Это я, Эдичка» на ночном столике, с пометками. Об этом писали газеты во Франции, так что я в балете не чужой. Еще ребенком я заорал на представлении балета Глиэра «Красный мак» в момент, когда наш матрос сидит удит рыбу, спиной к зрителю, а к нему сзади с ножом в руках ползет китаец. И вот я криком предупредил нашего матроса. Происходило это в харьковском театре оперы и балета. Так что я в балете с юных лет понимаю. С моим мнением можно считаться. Это здравый крик ребенка, предупреждающий об опасности.
Мясо
В кусках сырого мяса, когда они не приморожены, есть похабная непристойность. Впрочем, с этой непристойностью, с неприличием, человечество живет и как-то управляется. Непристойность же проистекает оттого, что человек сам — мясо.
Англия, развившаяся политически всех ранее в Европе, имела суд присяжных уже в XVIII веке (а может быть, и раньше, но в XVIII точно). Интересно, что мясникам было запрещено заседать в суде присяжных. Во какие тонкости, и это совсем не глупо.
Вот оно лежит перед вами — мясо. Черная лакированная печень колышется, если ее перекладываешь, говядина — мясо темное аж до черноты, свинина — розовая, телятина — серо-розовая, дичь — черно-красная на срезе. Мясо пахнет раной и сопутствующим ему салом. Мясо беспокоит человека. Оно желанно и одновременно тревожит. С птицей почему-то легче. Она не напоминает человека. С мясом — сложные отношения.
Самую удивительную мясную лавку я видел в Самарканде. Особым образом обдуваемое сквозняком помещение еще и окуривалось каким-то тлеющим ароматно растением. Там не было ни одной мухи. Между тем я не увидел нигде холодильников. Свежее мясо аккуратно лежало на деревянных высоких топчанах. Самые грязные мясные — в русских магазинах. Таракан, ползающий по плахе мясника,— обыденное явление. Ослепленные своим мессианизмом русские презирают азиатов, сами между тем давно деградировали, не заметив этого.
В ранней юности у меня был друг Саня Красный. Он был немец по происхождению, хотя фамилия у него была какая-то незначительная и русская. Маму его звали Эльза, высокая женщина работала билетершей в кинотеатре «Стахановец». Отец Сани также был настоящий немец, и его звали Вальтер, но он был мертв к тому времени. А незначительная русская фамилия Саши была фамилией его отчима, второго мужа тети Эльзы и отца Светки — младшей сестры Сани, отчим был тоже уже мертв тогда. Все это нехитрое генеалогическое древо мне понадобилось воздвигнуть лишь для того, чтобы сообщить, что Сане был 21 год (мне было лишь 15 лет), и он работал мясником на Конном рынке. Я ездил к нему в гости. Он стоял в заскорузлом от многих слоев краски помещении, где на полу были разбросаны опилки и воняло дустом. Стоял за прилавком и зверски лязгал ножами — точил два огромных ножа друг о друга. Так как у Сани было толстое красное лицо блондина-сангвиника и два невыразительных тусклых кабаньих глаза и был он дороден и крупен уже в свои 21, то сам Бог ему велел работать мясником. Над выбором профессии он не мучился. И он отлично смотрелся за прилавком. Время от времени из глубины подсобного помещения появлялись два других мясника, но до Сани им было далеко. Перед Саней лежали куски черной говядины и розовой свинины. Кровавый желтый клеенчатый фартук поверх белого халата выпирал резиново-туго вперед — у Сани было пузо. Это было мое первое соприкосновение с сырым мясом. Сырое мясо имело душный сырой и сладковатый запах жира.
Много лет спустя, осенью 1981 года, поселившись на rue des Ecouffes, в самом центре еврейского квартала, я вышел купить себе кусок мяса. И проделал закупку в мясной лавке царя Давида. Купил несколько тонких, вполне благопристойно выглядящих мясных стейка. Дома я по своему обыкновению (в Америке я освоил искусство приготовления стейков, работая мажордомом у мультимиллионера Питера Спрэга) быстро приготовил себе стейк… И не смог его разрезать, настолько он оказался твердым, тугим и скользким. С помощью консьержки, к которой я пошел жаловаться на мясников-соседей, я быстро выяснил, что, оказывается, поселился я в самом центре старейшего еврейского гетто в Европе — в Марэ, и что магазины здесь кошерные, и что честные мясники продали Вам хорошее мясо, мсье, но из животного, прежде чем разрезать его на куски, выпустили кровь. Это кошерное мясо, мсье. За некошерным, нормальным, следует ходить на rue de Rivoli, мсье, в супермарше… Что я впоследствии и делал… Вообще жизнь в еврейском квартале, а я обозревал ее три с лишним года, была экзотической, восточной, а не парижской. На другой стороне улицы на первом этаже помещалась ортодоксальная синагога. На время какого-то еврейского праздника (кажется, он называется Пейсах) у синагоги вырастала целая стена клеток с курами. Рядом стояла бочка. Время от времени выходил раввин или его помощник, сопровождаемый верующим. Верующий выбирал курицу, раввин извлекал ее из клетки и, опрокинув головой вниз, держа за ноги, перерезал птице горло над бочкой, куда стекала кровь. Бочку время от времени опорожняли прямо на тротуар, и кровь текла вдоль тротуара. В Париже улицы моют водой, потому к вечеру выходили парижские муниципальные служащие в зеленых комбинезонах, открывали воду и метлами гнали вместе с водой грязь до водостоков. В дни праздника Пейсах по rue des Ecouffes струились кровавые реки. Среди муниципальных дворников было немало чернокожих. Как раз в это время им стали выдавать вместо естественных метел искусственные — из зеленого пластика. Потому все это зрелище имело несколько адский характер. Черти-чернокожие в зеленом гонят вдоль улиц кровь.
Мой покойный охранник Костян Локотков работал некогда мясником, умел завалить свинью точным ударом длинного шила в свиное сердце. Это большое искусство, ибо умное сердце свиньи скрыто мощными доспехами сала. Костя был родом из Запорожья, с Украины. Украинские крестьяне умеют управляться с чушками быстро и споро; только что бегала, а глядишь — уже лежит, брюхо ей выскабливают, внутренности возлежат в тазах, кишку вымывают, запихивают в нее фарш, все слаженно работают, у каждого своя операция. В бытность мою студентом кулинарного училища в городе Харькове я проработал целую зиму на практике на пищевом комбинате, в мясном цеху. Мы там животных не резали, на то есть бойня, но обрабатывали свиные полутуши, отделяя мясо от кости. Помню, что в ту зиму я научился владеть ножом не хуже хирурга. Требовалось вырезать свиные лопатки и другие кости полутуши, и я научился делать это ловко и быстро, помню, меня хвалил наш директор — заслуженный повар республики. В отделении от кости есть свои секреты. Мясо не должно быть покромсаным и свисать клочьями, неверных порезов быть не должно. (По локти в мясе, в белом халате, в поварской шапочке — такой я был в мои 18 лет). Свой нож каждый натачивал сам, лучшими были старые, сточенные ножи с деревянной ручкой, где ширина лезвия оставалась миллиметров пятнадцать, а то и десять.
Читатель внимательный заметит, что в своих воспоминаниях о мясе я не очень придерживаюсь порядка, вне зависимости от хронологии выуживаю из памяти первое попавшееся мясное воспоминание. Да простит меня такой читатель, тут мне совершенно некстати пришли сразу два воспоминания. Как в 1979–1980 годах я заказывал мясо для дома мультимиллионера Спрэга у братьев Оттоманелли. Итальянцы эти обслуживали всех богачей Ист-Сайда Манхэттена. Обычно я заказывал Lumb chaps — кусочки баранины на кости, свежекрасные, правда и то, что у братьев Оттоманелли все мяса были отменные. Еще я вспомнил, как после встречи со Слободаном Милошевичем осенью 92 года я обедал со всей верхушкой Социалистической партии Сербии, включая их теоретика Марковича, и нам подавали блюдо под названием «мешанэ мясо», перевод тут вряд ли необходим. Это жареное дымящееся мясо различных сортов, разложенное горами на огромных блюдищах. Его все время подкладывают свежее.
Русские с мясом обращаться не умеют, они не мясной народ, а хлебный — вынужденно, конечно. Из своего мяса русские нормально умеют готовить только борщ да суп, то есть варят свое мясо. Жарить его они не умеют. Отвечающего стандартам стейка в России днем с огнем не сыщешь. «Едва ль во всей России сыщешь / Две пары стройных женских ног»,— писал поэт Пушкин. Так и со стейком, едва ли встретишь в России и одного человека, который умел бы приготовить стейк так, чтобы внутри он был сочен и кровоточил, а снаружи — моментально обжарен. Потому объясняю: готовить его надо коротко и резко на очень раскаленном огне. Будь то решетка, будь то чугунная сковородка.
Вторая дурь городских русских (первая — это то обстоятельство, что они свое мясо безобразно переготавливают, сушат и палят, а о городских я говорю, потому что деревенские русские мясо знают лучше) они почему-то считают, что мясо нужно размораживать, и потому кладут на свои убогие сковородки какие-то мокрые тряпочки, а не фигуристое мясо. Зато отлично умеет общаться с мясом сербский крестьянин: в Книнской Крайне примороженное мясо рубили прямо в кухне топором и швыряли на раскаленную сковородищу. Огромный лук подавали резаным с мясом, как картошку или яблоки.
Мясо всегда пахнет жирной сырцой, пахнет раной. Тяжелое и распадающееся, когда сырое, оно лучше всего выглядит подмороженным, тогда оно аккуратнее. Стейк — плоский овал или треугольник коровьей плоти, ее ткани, толщиной 20–30 миллиметров. Имеет красный, склоняющийся к черному цвет. С тонкими прослойками сала по краям. Площадь стейка зависит от благосостояния нации, чем богаче нация, тем обширнее стейки, хотя бывают и парадоксы: в традиционно скотоводческой Аргентине мясо — пища бедняков. У богатеньких янки есть блюдо sirlon-stake — это чудовищное по своей площади целое полотно мяса, размером с хорошее блюдо (или величиной с книгу по искусству); как правило, sirlon имеет спиленную круглую кость посередине. Еда для очень голодных обжор. Для sirlon-stake нормальный вес 600–800 граммов. Но может быть и больше, под килограмм.
Мясо — это сама энергия, пища феноменально энергетическая. Человек знал это всегда, когда никаких еще калорий и других параметров для пищи не изобретали. Человек опытным путем всегда знал, что мясо дает физическую силу рукам, ногам и детородному органу и сообщает организму общую смелость, агрессивность.— Потому мясо было и остается предпочтительным питанием. Мясо — как золото среди металлов, так мясо среди продуктов питания. Сраные зерна не могли сравниться по количеству содержания энергии с мясом. Потому, что бы там ни записали Дарвин или Энгельс, скотоводческие племена всегда были и богаче и храбрее полеобрабатывающих смердов. А мясников не допускали в присяжные заседатели именно поэтому.
Если осмысливать мясо не как пищу и не рассуждать о его вкусовых и энергетических ценностях, то пожирание плоти убитых животных многое значит. Тем паче, что изначально, от сотворения мира, нужно было хитростью и силой завалить это животное, подстеречь и убить, и только после этого съесть. Потому отношения с животным и потом с его плотью были персональными. Убийству и поеданию предшествовали погоня, хитрости, а порой и борьба. Недаром всяческие еще тотемические народы, скажем, или вовсе не охотятся на своих тотемических предков, или, если охотятся, то применяют серьезные церемонии и заклинания. «Батюшка-медведь» — называют хозяина тайги таежные народы. На него охотятся после многодневных церемоний.
Разумеется, в постиндустриальном обществе отношения охотник — животное уступили место безличному закупанию куска трупа животного в продмаге. Причем ясно, что животное было не диким, а одомашненным. Но это не значит, что в отношениях покупатель мяса — убитое животное не присутствует элементов мистичности и священности, то есть что иного смысла, нежели цикл пожирание — переваривание, поглощение энергии, эти отношения не предусматривают. Нельзя в данном случае сводить функции человека только к функциям кастрюли-скороварки. Человек для животного также есть Бог, Демиург, несущий ему смерть. Ну, не лично вы, покупатель мяса, принесли смерть, но через посредников эта смерть осуществлена для вас.
Глядя на мясо в магазине, правильно думать, что эти резаные, колотые и пиленые куски плоти есть куски биоэнергии, которые мы — человекомашины, нуждающиеся в биоэнергии,— покупаем, чтобы поглотить. Можно подивиться странности нашей пищи. Она не так далеко ушла от планктона или червей. Как если бы мы пригоршнями ели червей. Черви пригоршнями кажутся немыслимой гадостью, но почему части трупа не кажутся? По рынкам бродят человекомашины в одежде и, подковыривая пальцем куски, выбирают.
Мальчиком я где-то прочел или услышал, что будто бы, отступая в жуткие морозы из России, воины армии Наполеона вспарывали животы лошадям и заползали в брюха, чтобы согреться. Помню, что мне, мальчику, эта картинка показалась страшной: лежащие, запахнутые края брюха, в сплетении внутренностей французы. Есть еще одна, соперничающая с этой, живая картинка. У китайцев, якобы, есть блюдо-деликатес — мозги обезьяны. Подаются они следующим образом. Якобы, дорогому гостю приносят хорошо привязанную обезьяну в бамбуковой клетке, только череп торчит над клеткой. По знаку официант сшибал топориком, срезал обезьяне крышку черепа, и гостю предоставлялось поедать обезьяньи горячие, еще живые мозги. Из естественного, самой природой созданного сосуда. Официант тут же солит, перчит и заправляет мозги по древнему рецепту. Это все я слышал. А как-то я пошел вместе с Андрюхой Лозиным, я жил у него на Малахитовой улице в Москве, пошел выносить мусор. Мусора было много, мы засрались, в том числе среди мусора было испортившееся сырое мясо, холодильник у Андрюхи сломался или что-то другое, но мясо у нас, к нашему огорчению, протухло. Внизу мы столкнулись с соседом Андрюхи — узкоглазым корейцем лет пятидесяти. Кореец подергал носом и преградил нам дорогу. И уговорил нас отдать ему мясо. Андрюха объяснил мне, что-то, что для нас тухлятина, для корейца — деликатес. Я поверил ему. Андрюха был образованный мальчик. Его мама служила доктором в Советском посольстве в Пекине и только что еле унесла оттуда ноги, а в тот год она работала в Румынии тоже доктором и также в посольстве. Так что я запомнил корейца и его сладострастно раздувавшийся нос.
В 1984-м или в 1983 году, точно не помню, но я уже жил с Наташей Медведевой, место действия — Париж, нам позвонил приятель и сообщил, что французский журнал «Фото» опубликовал редчайшие полицейские фотографии: куски тела голландской девушки, найденные в квартире японского студента-каннибала. История эта случилась в Париже, может быть, за год до этого: маленький японец убил и съел любимую девушку. А вот снимки проникли в печать только сейчас. Приятель советовал поторопиться — журнал поступил в киоски только сегодня. Но полиция якобы уже отдала приказ о конфискации всего тиража журнала «Фото», так как публикация оскорбляет общественную нравственность. Наташа выбежала и приобрела журнал. В обыденности необыкновенной на тарелках (в том числе и бумажных) в большом холодильнике каннибал поместил части тела бедняжки. Ясно возможно было опознать одну сиську, часть ягодицы… На самом деле мы, люди, куда более странны, чем принято считать, и, возможно, маньяки-каннибалы знают что-то тайное, что-то очень глубокое и страшное или, напротив, успокаивающее о человеке. Хотя с точки зрения нормального мужика, каковым я себя считаю, каннибализм, конечно, занятие крайне депрессивное.
В последние годы жизни Блез Паскаль, французский изобретатель, философ и мистик, носил пояс с гвоздями, дабы истязать свое тело, и «не позволял присутствующим говорить о вкусовых качествах пищи — мяса в первую очередь». Это было в XVII веке.
Вот сизый, весь в плеве и жилах кусок русского мяса смотрит на тебя. А ты смотришь на него…
Ногти и волосы. Волософилия и волософобия
В жизни волос и ногтей много странностей. Мудрые люди это знают, а обыватель вряд ли замечает. Например, в память о моем пребывании на заводе «Серп и молот» в городе Харькове в 1963–1964 годах, я работал обрубщиком, у меня остались несколько легких увечий. Осталась раздробленной средняя фаланга безымянного пальца на левой руке. С течением времени этот ущерб стал мало заметен, но почему-то вот уже 37 лет аккуратно вдоль ногтя этого пальца тянется выпуклая гряда ногтевой ткани шириной в миллиметр и высотой в часть миллиметра. Эта мутация никогда не исчезает. Удар алюминиевой кувалдой по фаланге пальца навеки изменил рисунок ногтя.
Известны вечные проблемы людей с тесной обувью и как следствие — появление темных ногтей на пальцах. Это просачивается туда кровь, да так и застывает под ногтями. Позднее, когда через некоторое время ноготь срываешь, то обнаруживаешь под ним молодой ноготь, нежнее и свежее старого. В срывании есть болезненный интерес: а что там? Не хлынет ли кровь? А вдруг там черно от крови или пусто, как в спичечном коробке, откуда израсходовали все спички? Роговые ногти на больших пальцах роднят человека с копытными. Но у всех по-разному. Ногти конечно же говорят о врожденных качествах человека. Чем они крупнее, чем лучше видны так называемые «лунки», чем суше подход кожи к ногтю, тем более человек деликатен, тем более он изыскан. Хорошие ногти достаются, как видно, по наследству, вместе с красивыми руками и изощренным, изысканным характером. Обладатели двухмиллиметровых ногтей редко блещут интеллектом. Все это явные знаки. По всей вероятности, они были даны человечеству изначально, с нулевого года творения, дабы люди разбирались друг с другом быстрее и четче, но люди забыли данные им знаки.
Помню, однажды у меня в постели была женщина ацтекского происхождения. У нее были груди как длинные тыквы, такой же зад, удлиненный нос и удлиненные, как бы комплектом к носу, ногти. Не то что она отрастила их длинными, а просто они занимали хороший кусок длины фаланги на кончиках пальцев.
С волосами еще сложнее. Они живут своей жизнью. Помню, еще десяток лет назад под мышками у меня была буйная растительность, а сейчас рыжие клочки стоят на месте, не удлиняясь ни на миллиметр. Необъяснимо. Когда я не носил бороды и усов, а до 57 лет я не носил бороды и усов, я считал, что у меня татаро-монгольская структура растительности на лице, волосы растут только под носом и на пятаке подбородка. Так и есть, но есть не только это. Проносив бороду и усы первые полгода, я стал замечать, что к толстым стволам основных как бы деревьев-волос вдруг прибавился подлесок, невесть откуда взявшийся, а еще примерно через год выяснилось, что появились в моих бороде и усах и кусты. Откуда они берутся?
Мой волос живет какой-то своей жизнью, и у него свои намерения относительно меня. Непонятно, паразитирует ли он на моем теле, высасывая некие соли и соки, или же просто атавистически пытается предохранить мою верхнюю губу и подбородок от обморожения? Волосы на губе и на бороде крайне жесткие и неприятно неприветливы на ощупь. То, что я согласился их иметь, как-то их подзадоривает, они вошли во вкус и стали изменять меня. Теперь, взглядывая в тюремное зеркало, я думаю, что они добились изменения меня. В зеркале я вижу решительного, мрачного, несколько агрессивного господина, бледного и ожесточившегося в тюрьме. Форма моих усов и бороды претенциозна, она указывает на заносчивость и на особое мнение. Ввиду холодного времени года я не стригу волосы на голове целых пять месяцев, потому теплые и жесткие серо-стальные волчьи пряди буйно вылезли из меня и нависают над ушами. Волос на мне больше, чем на любом молодом человеке, и, разглядывая их на тюремном одеяле, я склонен принимать их за волосы животного происхождения.
Волосопотворство мое, волософилия, если так можно сказать, а можно, чего ж нельзя, привело меня к тому, что я похож одновременно на человека, потерпевшего полгода назад кораблекрушение, alias Robinzon, на классика радикальной идеологии, посаженного в тюрьму (каковым я и являюсь), на испанского революционера, на полярного исследователя. Еще я недалек от эманации волка, от волка.
Сегодня хилый унтер-офицер спросил меня в кормушку (он принес мне по моей просьбе хранящиеся на вахте две пары ножниц, сегодня банный день): «А зачем вам большие ножницы?» «Я подстригаю большими ножницами бороду и усы раз в неделю»,— сообщил я унтеру. По всей вероятности, хилый унтер еще ни разу не приносил мне мои ножницы. У унтера свои видения. Возможно, он считает, что с помощью этих ножниц я смогу напасть на охрану и нанести ей увечья. Впрочем, он обязан подчиняться приказам начальника изолятора, а это именно господин полковник разрешил мне иметь ножницы на вахте и истребывать их в банные дни. Если бы я не остригал усы, они бы доросли до моих ушей. А борода была бы длиной до второй пуговицы рубашки.
Скальповые волосы женщин обыкновенно тоньше волос мужчин. Они прямо паутинки, если они белесого или песочного колора, если же черного или медного — они потолще. И напротив, волосы у женщин под мышками или в паху часто бывают много грубее мужских волос в соответствующих местах, без обиняков утверждая простую истину: женский интимный набор прелестей на самом деле жесток и бескомпромиссен, никаких телячьих нежностей вход в самую нежную, самую трогательную не предвещает. Все грубо как солдатский сапог и брутально до невозможности. А скальп — этот нежный ореол одуванчика — это обманка, это для привлечения мужчины, дабы совершилась мистерия соития и совершен был бы акт репродукции.
Где-то в дебрях французского издания 1963 года книги Лотреамона «Песни Мальдорора» с иллюстрациями Филиппа Супо осталась сцена изнасилования женщины Волосом. Я почему-то это сцену совсем не помню, хотя незадолго до ареста перечитывал Лотреамона, так как писал статью о нем для «Лимонки» — «Профессор гипнотизма». Между тем, сцена представляется мне чрезвычайно важной. Я сейчас напишу ее здесь, вступив в соавторство с Лотреамоном. Женщину я заменю девочкой-подростком, назовем ее Фоли-Юга. Волос — упругое, эластичное существо высотой в 176 сантиметров. Там, где у человека талия, Волос достигает солидного диаметра — 50 сантиметров. На концах же своих Волос достаточно худ, чтобы изнасиловать собой.
Весенний вечер. Спальный район Москвы. Фоли-Юга с ранцем за плечами входит в подъезд своего дома. На ней курточка, юбочка в клетку, на ногах ботинки. Ей жарко, ей 12 лет, она уже полгода как менструирует, мастурбирует она с детского сада. Фоли-Юга небольшого роста, в ней всего 157 сантиметров. Она хотела бы быть выше, выглядеть менее ребенком и чтоб на нее обращали внимание мужчины. У нее роман вприглядку с соседом. Сосед по лестничной площадке — чурка, у него есть жена и двое детей. Вчера он угостил ее семечками, при этом коснулся ее белых рук, и семечки все сыпались и сыпались. Фоли-Юга ждала, что он дотронется до ее губ или еще до чего-нибудь. У себя в квартире, закрывшись в ванной, Юга закончила сцену — спустила трусы и на корточках долго мастурбировала, вспоминая черные глаза чурки. Юга вздыхает и входит в лифт. Волос, стоявший до сих пор у лифта, прислонившись к трубам и проводам, будто он один из них, эластично падает в лифт вслед за девочкой. Он тотчас встает на дыбы в углу за ее спиной, но Юга его не видит. Она размышляет, что хорошо бы встретить чурку на лестничной клетке. Он такой боязливый. Чего он такой боязливый, по поведению он не похож на чурок? Он должен быть смелым. Она тоже боязливая, но в следующий раз она попытается что-то сделать. Что? Попытается удержать его руку, сыплющую семечки.
Волос, изогнув свой верхний конец в хобот, появляется перед лицом девочки. Она изумленно глядит на непонятный ей отросток. Урча, медленно карабкается вверх старый лифт. Волос коброй медленно танцует перед лицом девочки, щекочет ушко, ласково мажет ее по губам. «Хэ-хэ»,— бормочет Фоли-Юга и улыбается. И пробует схватить хобот в ладошку. Волос охотно позволяет себя схватить. Схваченный, он с силой тащит руку девчонки к ней под юбку. Там он, расталкивая одежду, начинает поглаживать ей животик, втискиваясь тяжелым и сильным, спускаясь сверху под трусики ей в пах. И вдруг сильно, эластично и ласково проводит ей по половым губам. «Эй, эй»,— задыхается девчонка,— ты что, ты что…» С ней еще никто так не обращался. Волос наседает и проталкивается в сочную мякоть девочки. Разлепляет ей первые волосы на половых губах. Внутри девчонка оказывается мокрой и горячей. Волос, проникнув в лоно девчонки и возбужденный ею, из хобота набухает в целую змею и такой змеей начинает пульсировать в девчонке. Открыв рот в одурении, Фоли-Юга подрагивает на Волосе. Хотя она и мастурбирует с детсадовского возраста, такого она себе доставить не может. Такой скачки на огненном, толстом, гибком звере. Одним из особенно сильных движений Волос рвет ей трусы на талии, и остатки их бессильно съезжают к ногам Юги.
«Ты, ты…» — пытается сказать девчонка. Она вцепилась руками в змеиное тело Волоса, в его бедра, которые бедрами не назовешь, и прыгает, вздрагивая вместе с ним, как он желает. Порою то одна, то другая ее нога отрывается от земли, настолько сильно Волос орудует в ее небольшой дырке, умело расширяя ее и сужая.
Лифт стоит на верхнем этаже. Через некоторое время из дверей выходит Фоли-Юга. Вид у нее как у пьяной девочки. Открывает с трудом дверь квартиры. Проходит в свою комнату и, улыбаясь, заползает под одеяло. И долго спит.
С волосами связано множество преданий. Интересно предание о богатыре варваров Самсоне, носившем длиннейшие дебри волос. Лазутчица из иудейского лагеря шпионка Далила сумела остричь его во сне и таким образом лишила его силы. То есть волосам приписывалась тайная сила. Это, конечно, волософильское предание. Священнослужители и хиппи могут быть отнесены к волософилам в наше время. (XIX век весь был волософильский. Вспомните хотя бы портреты из школьных учебников.) Огромные армии, участвовавшие в Великих войнах XX века, широкое распространение санитарии и гигиены приучили век XX к волософобии. В 60-е годы среди рабочей молодежи Великобритании зародилось движение скинов — от слова skin, кожа. Остригавшиеся так коротко, что видна была кожа черепа, скины постепенно пробились как молодежная мода и в отсталую Россию. В 1992-м я, помню, удивлялся: «Как, у вас нет скинов?» Теперь они на каждом шагу. Скином быть дешево.
Во всей этой почти богоборческой возне «за» или «против» волоса что-то есть. Сам волос не так-то прост — что смотреть на него под микроскопом, что без микроскопа. Человеческий волос смотрится как синтетический, настолько аккуратно и твердо изготовлен он из неизвестного материала. Может быть, он космического происхождения.
Человек — мясо, поросшее волосом. Может, человек — это земля, а волосы — это деревья, растущие из земли.
Деньги
Деньги — это такие бумажки, «билеты» государственного казначейского банка. Они ничто в природе не напоминают, а напоминают узкую записную карманную книжечку. Тангэ — это государственная валюта Казахстана, страны в которой я якобы намеревался совершить вооруженное вторжение. Так что наши деньги произошли от казахского тангэ, оно же монгольское «танге», откуда уже легко искорежить язык с зубами в «дэнгэ», а там и до «деньги» недалеко. Во время своего шестилетнего пребывания в Соединенных Штатах Америки я спал с девушкой, которую близкие и друзья называли «тугрик», это денежная единица Монголии. Дело в том, что девушка была дочерью настоящего степного монгола из Монгольской Народной Республики и русской матери. Это была е.ливая девушка.
Есть пословица «Деньги — не пахнут». Мне кажется, это не русская пословица, она не в нашем характере. Ну, понятно, что народная мудрость — пословица — имеет в виду, что, мол, деньги есть деньги, каким бы способом ты их ни добыл, хотя бы в мусоре нашел или построил завод по переработке мусора. Но если отбросить пословицы и иносказания, деньги не только пахнут — они отвратительно воняют. В небольшой комнате кассы фирмы «ЛОГОС-М» (она занималась и занимается распространением печатной продукции), куда я приходил раз в месяц за деньгами, полагающимися нам за распространение нашей газеты, ужасающе смердело деньгами. «Вот и окно открываем, и форточку держим открытой — ничего не помогает,— пожаловалась мне кассирша.— Вонючие у нас деньги. Но что удивительного, ведь через столько рук проходят». Это были годы до девальвации — 1995–1996, и денег потому было много. Даже от продажи нашего мизерного пятитысячного тиража я выносил солидную упаковку денег в пластиковом пакете. Вначале я заворачивал пачки в газету, а газету клал в пакет. В кармане деньги никак не умещались, даже в случае плохой продажи. Каждая пачка в сто штук билетов госбанка немилосердно воняла. Рубли, трояки и пятерки, обиходные деньги простолюдинов, воняли больше, десятки — меньше, двадцатипятирублевки — еще меньше. Чем воняли деньги? Состав тяжелой вони был трудноопределим. Рабочими руками, возможно остатками пищи, смазавшимися с рук на деньги. Простолюдин ел масляный пирожок, отойдя в сторону, углядел в стеклянной витрине киоска газету, купил ее, выхватив масляной рукой трояк из кармана. Лох ел селедку, недомыл руки и вот завонял свои бумажки, свою трешницу, которую отлепил от других, заплатив за «СПИД-ИНФО». Шофер завонял свои деньги бензином и маслом и грязью мотора, так как не дотер руки ветошью. Домохозяйка коснулась пятерки рукою в постном масле. Хулиган замазал свою десятку кровью. А еще на деньгах, неуловимый, но явственно прогорклый, присутствовал, покрывая их тонким слоем, кожный человеческий жир. И это именно он преобладал в запахе денег. Жир человечий, выходящий из пор рук вместе с потом от страха, от напряжения, от переутомления жизнью, от обилия жизни. Сальные железы выделяют его, и человечество залапывает им деньги. И он воняет.
Я прописал свои наблюдения в прошедшем времени только потому, что, кажется, уже в 97-м фирма «ЛОГОС-М» вместе со всей страной перестала выплачивать деньги наличными, их стали переводить на счета. И мне не пришлось с тех пор уже подыматься в кассу «ЛОГОС-М» в здание на Цветном бульваре, на четвертый этаж за вонючими российскими деньгами эпохи Ельцина. Но деньги по-прежнему смердят на рынках и в магазинах страны. Их надо бы, эти прямоугольные бумажки — «билеты» государственного банка,— называть «смерды», потому что они тошнотворно смердят. (Человечество вообще смердит неимоверно. Облака вони стоят над городами. Представляю, с каким отвращением обоняет нас Высший разум.)
Русские деньги стали некрасивые и не загадочные. Сейчас на русских деньгах изображен какой-то невыразительный Большой театр, что ли. Прошлые наши деньги были грозные и глубокие. Те, что были с изображением фараона Ленина,— самые величественные. Больше таких денег не предвидится, разве что поместят когда-нибудь на деньги меня. Я бы хотел. Забальзамированный вождь придавал России и ее деньгам респектабельность, четвертое и пятое измерения.
Азиатские деньги — геометрические рапсодии в зеленых тонах с полумесяцами и ятаганами — очень хороши. Они обыкновенно стерты до дыр почему-то (бумага, что ли, плохая) и выглядят как ветхие рубища нищего. Помню, в Самарканде у мечети сидел красивый, стройный, седобородый нищий в черном халате и на черном с алыми цветами платке у него лежали зеленые протертые дряхлые сомы — узбекские деньги, присыпанные черт знает какой сборной медной мелочью, как из могильника. Легко было представить, что он сидит здесь второе тысячелетие. Он был злой и ругался. Было впечатление, что сейчас он достанет иголку с зеленой ниткой и начнет штопать сомы. Ругаясь.
В Азии деньги донашивают до дыр. Азия — бедная. В Европе деньги холеные, лощеные, новые и холодные. Я убежден, что деньги должны быть старыми. Новые деньги — это для выскочек. Евро так же неприличен, как искусственный язык эсперанто.
Американский доллар по колориту похож на листья двух самых знаменитых американских растений: на кукурузные и табачные листья. Табак и кукуруза принесли американским колониям первые большие деньги. Табак был основным предметом экспорта американских колоний в родную мамку Англию до самой американской революции. Самый богатый плантатор Америки генерал Джордж Вашингтон посылал в Англию свой вирджинский табак кораблями. Что доллар нарисовали, глядя на широкие листья табака и кукурузы,— не вызывает сомнения.
На китайских юанях много воздуха и просторной серой голубизны и несколько больших птиц — иероглифов. Ясно, что это Поднебесная империя. Немецкие голубые марки — парадокс, они не связываются с характером фрицев. Пока не понимаешь, что это деньги побежденной страны. Как голубые флаги российских профсоюзов — флаги побежденного класса. У французов были отличные рыжие крупные пятисотфранковые билеты. Имея в кармане несколько таких больших бумажек, человек чувствует себя уверенно, как с большим носовым платком. Теперь, как у всех европейцев, у них будут безличные стерильные евро, на которые смотреть противно.
Я упомянул, что возил деньги из «ЛОГОС-М» в пластиковом пакете. С пакетом я спускался в метро и ехал себе. (В те времена я еще передвигался без охранника, до 18 октября 1996 года.) В этом я следовал семейной традиции. В дивизии, где служил мой отец, начфин (была такая должность: начальник финансовой части) привозил зарплату в дивизию в наволочке. Так он ехал через весь город на трамвае, везя зарплату для нескольких тысяч человек. Времена были бандитские, послевоенные, начфин же, как лох, едущий с наволочкой в трамвае, не вызывал даже и тени подозрения, что у этого человека могут быть деньги. В 2000 году, помню, пришлось мне ехать с большим количеством денег, а именно более десяти тысяч долларов, из Красноярска в Барнаул. По моей просьбе мне купили билет заранее. Когда я явился на вокзал, то обнаружил, что состав мой ожидает несколько тысяч узбеков. Оказалось, что поезд Иркутск—Ташкент ни в чем не уступает поезду Душанбе–Москва и даже превосходит его по мрачности. Войдя в вагон, я едва нашел свободное место. С каждой полки свисали как минимум три пары ног. Я было заколебался, но времени у меня было в обрез, к тому же немногие поезда идут прямиком с транссибирской магистрали на Барнаул, обычно требуется пересадка в Новосибирске. Я остался в вагоне. Когда пришли два узбекских здоровенных бандюка и, усевшись рядом со мной, стали со мной знакомиться, я представился учителем средней школы из села Усть-Кокса. До Барнаула я добрался лишь благодаря своим железным нервам. Парня, с которым я познакомился — полуузбек полутаджик, работавший в Иркутске,— той же ночью ограбили свои, просто вывели в тамбур и, обыскав, отобрали деньги. Всю ночь прямо в вагоне жарили плов, кого-то били, что-то делили. Всем заправляли два тех самых гололобых бандюка. Если б они прознали, что я везу с собой десять тысяч зеленых, они бы легко отрезали мне голову. Легко! В Барнауле при выходе из поезда они попрощались со мной за руку: «До свиданья, Эдуард. Учи хорошо!» Я пошел в город, думая о том, что на х… мне нужны эти экстремальные приключения. В городе меня ждали двое моих ребят, один из которых уже работал на спецслужбы. Но я об этом еще не знал. Я обрадовался своим. И понял, как меня заебал вагон узбеков. Я даже устал за сутки, как за месяц.
Post Scriptum. Сегодня на прогулке услышал по «Радио на семи холмах»: американцы утверждают, будто бы им стало известно о планах международных террористов распространять вирусы заразных болезней — оспы, чумы и других — с помощью бумажных денег.
Gadgets
Вместе с цивилизацией я проделал некий вполне ощутимый путь. Вехи этого пути — различные бытовые изобретения и приспособления. Я помню примусы! Мальчишкой я путешествовал на крышах вагонов, влекомых паровозом!
Когда я учился в школе, часы дарили детям отцы на окончание школы или на совершеннолетие. Ну, у учеников побогаче часы появились раньше, но богатых в 8-й средней на Салтовке было раз два и обчелся. Учился-то я в пятидесятые годы, тогда еще часы считались признаком преуспевания и достатка. Салтовский поселок вообще недалеко ушел от крестьянства. Мне свои часы отдал отец. И по этому случаю ознакомил меня с анекдотом о деревенском моднике, справившем себе наконец часы и ботинки. Надел он часы и ботинки, вышел в воскресный день, гордый, на деревенскую улицу, а там никого, хоть шаром покати. Стоял-стоял, ждал — некому похвастаться, сельская улица пустынна. Собака только подошла. Вот ее внимание он и обратил на свои ботинки и часы. «Как дам новым ботинком, через пять минут и сдохнешь!» Не смешно? Людям пятидесятых было смешно.
Я родился так давно, что в новых домах строители еще воздвигали печи! Когда в 1951 году (я был восьмилетним мальчишкой) мы вселились в комнату в коммуналке в пахнущем краской новом доме на Салтовке (как Брикстон у Лондона, так Салтовка у Харькова — рабочий район был, окраина), посередине кухни там возвышалась мощная шестикомфорочная печь с огромной духовкой. И под домом мы обнаружили новенький подвал для хранения угля. Газ появился лет через шесть-восемь, если не ошибаюсь. С печью, надо сказать, было хорошо. В ней дружно пекли на праздник пироги, обмазывая их яичным желтком. Вокруг печи собирались как вокруг мамки в зимние вечера все соседи. Когда нам снесли печь и провели газ, в кухне стало просторнее, чище, но и сиротливо как-то. И соседи стали больше ругаться между собой. Печь нас сплачивала.
Первый наш телевизор мой отец сделал сам, из деталей, купленных на радиобарахолке. В Харькове тогда заработал первый, как тогда говорили, «любительский» телецентр. Это был, если не ошибаюсь, 1953 год. Именно к открытию «любительского» отец и спаял из частей телевизор. Помню, там была одна часть, называемая «отклоняющая система». У нашего телевизора отныне сидело по меньшей мере два ряда гостей. Первые передачи потрясли зрителей. «Любительский» работал любительски, изображение было ужасное, но зрители были неизбалованные и благодарные. Они неистово всматривались в призраков на экране. Обычно зрительскую массу составляли две тети Маруси и их дети Валерка и Витька — соседи из квартиры точно под нами, на первом этаже. Их мужья, молодые мужики дядя Саша и дядя Ваня, присоединялись к ним, когда позволяла смена, на их заводах народ вкалывал в три смены. Дядя Саша был электрик, дядя Ваня не помню кто. Валерка и Витька были совсем сопливые. Иногда приходил горбатенький Толик Переворочаев, он садился в первый ряд. Переворочаевы жили аккурат под нашей комнатой. Кроме Толика в семье печника и уборщицы были еще дочь Любка чуть старше меня и младшая Надька, но к нам они не ходили. Телевизор был моден. Из-за телевизора мы быстро стали модными — наша семья. К нам ломились и напрашивались. Пришлось купить линзу — пластиковое выпуклое на зрителя сооружение, куда заливалась дистиллированная вода. На штативах (а может быть, кронштейнах?) линза выдвигалась и отодвигалась, регулируя фокусировку и величину изображения. Зрители садились теперь дальше от изображения, и народу вмещалось больше. Меня наша популярность радовала все меньше. Отец разделял мои взгляды. Приезжая после военной службы домой на двух трамваях, через весь город, он хотел отдохнуть, но находил дома кинотеатр, набитый зрителями. Я уговаривал его испортить телевизор. Мать не позволяла. Она у нас работала нашей совестью и держала всегда сторону народа. Слава богу, телевизоры стали выпускать советские заводы, ящики появились в продаже, и народ стал подкупать себе телевизоры. Некоторые закупили с большими экранами, и наши зрители переметнулись к ним. Чему мы с отцом были счастливы. В конце концов у нас оказался самый допотопный, музейный телевизор, и те люди, которые смаковали фильмы у нашей линзы, стали снисходительно пенять нам: «Почему вы не купите себе нормальный телевизор?!»
Родители заняли денег у Антонины Васильевны Шепельской, жены профессора из другого подъезда, и купили мне велосипед. Это было прочное, не очень быстрое сооружение из крепких тяжелых труб. На этом велосипеде однажды летом мне проводом чуть не отрезало голову. Я мчался с горы, торопился на пляж, и заметил сорвавшийся электропровод только в последний момент. Мне лишь рассекло подбородок и чуть покорежило во время падения. Велосипеду — хоть бы хны.
Потом отец мой взял и купил красный мотоцикл «Ява». Себе. Черт знает зачем. Я думаю, отец мой в некоторой степени предвосхитил меня, и некоторые черты характера, которые развились у меня позднее и привели меня в государственные преступники, имелись уже и у него. Потому он купил себе мотоцикл «Ява» году в 1958-м, когда ему уже было сорок лет. Я съездил с ним, помню, куда-то, сидя на заднем сиденье, к реке мы, что ли, ездили. Отец был в полевой форме советского офицера, с портупеей и с пистолетом. Мы походили у реки и вернулись обратно. В тот год я уже начал серьезно пить водку и гулять, а отец мой не пил, но за «Яву» я его зауважал. Но отнять у него мотоцикл я не хотел, почему-то даже и в мыслях не возникало. Очевидно, по причине моей близорукости… Не знаю почему. Но с «Явой» мы стали опять на некоторое время модными. Так как мотоциклы эти только что появились в продаже. Отцу, впрочем, мотоцикл быстро надоел. К тому же и времени ездить у него было мало. Первое время он ездил на нем в свою воинскую часть на Холодной горе, потом поставил в подвал, а позже продал.
Прогресс не должен был останавливаться. Как напоминание об этом отец делал себе тщательный маникюр с помощью швейцарского ножика, состоящего из четырнадцати предметов! Время от времени отец мой изготавливал всяческие чудо-приборы. Когда у нас появился препоганый сосед-учитель (его мы называли «Баба», а его жену «Выдра»), а вместе с ними и беда — супруги постоянно включали музыку так громко и заполночь, что нам стало тяжело жить,— отец изготовил глушитель. Отец просидел недели две вечерами: гнул алюминий, сверлил, паял, прикреплял лампы и однажды продемонстрировал нам с матерью результат. Дождавшись, пока соседи выведут свою музыку, он щелкнул каким-то переключателем и стал выворачивать ручку громкости. У соседей музыка сменилась вытьем сирены. После двух дней попыток восстановить свои сатанинские музыкальные вечера соседи постучались к нам: «Вениамин Иванович, это не вы руку приложили?» Отца дома не было, а мы с матерью сделали невинные глаза. «Да вы что! Это, должно быть, радиоинспекция вас глушит. Вы что, не знаете, что учреждена особая радиоинспекция для тех, кто громко включает музыку? Штрафовать будут».
Потом мы купили холодильник. И поставили его в комнате у двери. Мать не могла нарадоваться. Отец был доволен, что довольна мать, она долго выпрашивала у него белую эту штуковину. А мне было все равно, я жил своей тяжелой жизнью трудного подростка, как раз тогда арестовали моих друзей, сразу трех, так что появление этого якобы революционного по своему значению предмета, скорее, прошло для меня незамеченным. Холодильник же назвал «символом революционности» Маршалл Маклюэн, правда в сослагательном наклонении. Холодильник мог бы вызвать революционные изменения в жизни народа какой-нибудь Индонезии, если наладить поставку туда дешевых холодильников, так сказал Маклюэн. В России, где восемь месяцев в году природа холоднее внутренностей морозильника, холодильники, как и телевизоры, стали служить показателями социального статуса владельца. Холодильник стал символом достатка.
У Кольки Ковалева магнитофон с бобинами уже был, когда мы познакомились, а это был не то 56-й, не то 57 год. Колька был ранний. Никакого достатка у него не было. У него были связи, потому был этот самый «маг» прибалтийского производства. В клетке барака, где Колька жил с матерью-почтальоншей, постоянно воняло ацетоном — Колька клеил рвущуюся магнитную свою музыку. Иметь «маг» было престижно среди молодежи. Редко у кого был «маг». Но Колька вертелся возле центровых пацанов из первой в СССР антисоциальной организации «Голубая лошадь», они, впрочем, называли друг друга «чуваками», а своих подруг «чувихами», потому у Кольки было австрийское альпийское пальто с капюшоном и «маг». Колька был само воплощение прогресса. Я о нем много написал в книге «Подросток Савенко», в «Книге мертвых», а трагический конец его описан в романе «Иностранец в смутное время».
Первое орудие труда — швейная машинка была мною куплена в городе Харькове. Была она подольского завода выпуска и светло-зеленой окраски. Примитивное, но сильное это ручное орудие поддерживало мое существование лет десять с 1965-го по 1974 годы до самого отъезда в Америку. Я умудрялся прошивать на ней шинельное сукно и пожарный брезент, не говоря уж о мехе и коже. Где потом потерялась моя кормилица, кому она досталась, когда я 30 сентября 1974 года выехал из России, мне неведомо. Первую свою пишущую машинку я приобрел глубокой осенью 1968 года в Москве. Деньги, собранные мною на то, чтобы купить себе московскую прописку, оказались свободны, схема получения прописки не сработала, потому я оказался обладателем чехословацкого производства довольно тяжелой пишущей машинки в черном футляре. Когда из-за происков гонителей искусства мне срочно приходилось менять место жительства в Москве, так себя и помню, переминающегося с двумя символами цивилизации — пишущей и швейной машинками в руках. Я бросил мою чешскую леди (Lady of althabeth) в Москве, когда уезжал с Еленой за границу. Вместо моей мы взяли ее машинку, совсем мелкую, тоже, кажется, чешскую портативную подружку с большим алфавитом. Ей предстояло жить в Австрии, в Италии, дважды пересечь Атлантику в Соединенные Штаты и обратно и умереть во Франции, в городе Париже, в мансарде по адресу 86, rue de Turenne. У вещей бывают куда более интересные судьбы, чем у людей. Мои старые очки путешествовали больше, чем все обитатели престижной тюрьмы Лефортово, наверняка. Я посчитал, оказалось, они побывали в восемнадцати странах.
Порой я оказывался далеко впереди своего времени. Когда в январе 1979 года я принял службу как хаузкипер дома 6, Sutton Square, в Нью-Йорке, то среди прочего в мое попечение попала и видеокомната, где стоял аппарат и огромный во всю стену специальный экран. Установка называлась «Видео-Бим». Обычная видеокассета проецировалась на многометровый экран. Все это хозяйство тогда уже выпускала одна из побочных, не самых главных электротехнических фирм, принадлежащих моему боссу Питеру Спрэгу. Еще он был хозяином первой когда-то в Соединенных Штатах фирмы, выпускающей микрочипы,— «National Semiconductor», находившейся в знаменитой Силиконовой Долине в Калифорнии. (Питер основал «National Semiconductor», когда ему было 22 года.) Как и мой папа, Питер Спрэг был постоянно в моде, но, конечно, на другой шкале. В то время, когда я у него служил, ему принадлежала английская автомобильная компания «Aston-Martin», соответствующая каким-нибудь роялям «Стэнвейн» в автомобильном мире. Питер ездил в конвертабл «Aston-Martin» скромной расцветки. Однажды его конвертабл сгорел у нас под окном на Sutton Square. 150 тысяч долларов ушли в небо, после того как пожарники увезли скелет, осталось лишь масляное пятно на асфальте перед окнами нашего особняка. Питер продемонстрировал крайнее хладнокровие. Уже к вечеру ему пригнали новый «Aston-Martin».
Питер Спрэг был самый модный человек, когда-либо встреченный мной в жизни. У него появлялись в доме немыслимые вещи. Так однажды я обнаружил на первом этаже в гостиной прибор для мгновенного определения состава золота. К вечеру осматривать прибор приехала делегация арабских шейхов. На столах и диванах гостиной валялись золотые слитки. Другом Питера был изобретатель видеоигр Норман Бушнел. Чуть ли не у нас в доме он продал свое изобретение за 90 миллионов компании «Уорнер бразерс». Бушнел был здоровенный еврей, с обыденным лицом. У Питера было и такое модное прошлое, о котором можно было только мечтать. Его дед Фрэнк Спрэг (пишется длинное Sprague) был лауреатом Премии Эдисона 1913 года и изобретателем и строителем нью-йоркского сабвея. Возможно, я уже упоминал об этих обстоятельствах в других своих книгах, но Питер таки был невозможен. Он оставил свой след и в мировом искусстве. Он был executive producer замечательного фильма «Steppen Wolfe» с Максом фон Зюдоф в главной роли. Ну и у него проработал хаузкипером Эдвард Лимонов с января 1979 года по 22 мая 1980 года.
Когда в марте 1994-го я улетал в Россию с радикальным намерением начать мою собственную политическую жизнь, мне достался портативный аппарат «Canon» — ксерокс. Его вручил мне младший представитель славной семьи французских богачей Шломберже. Нет, я не дружил с этим богачом и не работал на него. История «Canon» такова: мой приятель художник Игорь Андреев презентовал Шломберже картину и выпросил для меня ксерокс. Ксерокс пригодился мне еще как. Лет пять он пахал на Национал-Большевистскую партию и газету «Лимонка». Дай бог здоровья семье Шломберже.
Весной двухтысячного я познакомился с пиаровцем Белковским. Белковский сказал мне как-то, чтобы я посмотрел какое-то телешоу. Я сказал, что у меня нет телевизора. Тогда Белковский распорядился, чтобы мне купили и привезли телевизор. Через пару месяцев Белковский спросил, видел ли я фильм «Брат-2». Я сказал, что не видел. «Я пришлю тебе кассету»,— сказал Белковский. «Но у меня нет видео»,— сказал я. «Я скажу, чтоб тебе купили и привезли вместе с кассетой и видео». И мне купили и привезли. Я посмотрел «Брата-2». И мне понравилась песня «Полковнику никто не пишет». Ну ладно, хватит о gadgets. Все началось со швейцарского модного ножика моего отца. Я до сих пор не знаю, где он их доставал (а у него был не один) в те годы в Харькове… Надо бы написать ему из тюрьмы письмо.
Компьютер прошел мимо меня, так как с конца 80-х кончился мой оседлый период, и жизнь превратилась в кочевую, военную: Вуковар, Тирасполь, Бендеры, Гудауты, Пале, Бенковац, Обровац, Книн и прочие города, поселки и окопы. Какой там компьютер, хорошо, если был огрызок свечи. Мобильный телефон дали мне впервые в Красноярске, он мешался у меня в кармане, и я пользовался им крайне редко, для вызова автомобиля.
Для нужд партии в разное время мною были куплены два уазика-буханки. Один — в Мытищах, другой — на Алтае, медицинский. Фару у него скрутили местные племена. Любимое мое средство передвижения — это бэтээр. Нет для меня краше зрелища, чем прущие по таджикским горам два бэтээра разведки. Это мои любимые gadgets.
Цивилизации алкоголя и гашиша
Представьте себе, что на постаменте, ярко освещенные, стоят два не совсем обычных символа двух цивилизаций. Аптекарская бутыль со спиртом — символ христианской цивилизации. Темно-зеленый, ударяющий в цвет шоколада, пахучий кусок, похожий на жирную смолу,— это гашиш, символ мусульманской цивилизации. Обыкновенно для обозначения названных цивилизаций употребляются другие символы, а именно крест для христианства и полумесяц для мусульманства. Однако эти символы, выражая различие между религиями, не выражают настоящего различия между цивилизациями, создавшимися вокруг этих религий. А цивилизация — это привычки, обычаи, культура, поведение, сложившиеся вокруг религий. А ведь несомненно, что поведение христианина и мусульманина различны. Достаточно посмотреть на «успехи», на ведущую роль в мире христианской цивилизации, на тот мир науки, искусства, мир бытового комфорта и изобретений, который она создала (и увлекла за собой нехристианский мир). И достаточно посмотреть на традиционное мусульманское общество: на бедность, «отсталость», архаичность мусульманских стран, оставшихся порою, как кажется, на несколько веков позади стран христианских. Достаточно обратить внимание на политическое, экономическое и военное лидерство христианских стран, чтобы убедиться в различных путях, которыми пошли христианская и мусульманская цивилизации. Почему так случилось? Ведь по сути дела (во всяком случае, так представляется просвещенному атеисту) в основе обеих религий лежат некие дряхлые нравоучительные мифы. Почему же цивилизация, ведомая одним дряхлым мифом, «преуспела», а цивилизация, ведомая другим, даже чуть менее дряхлым,— не преуспела? (Следует понять, что здесь «преуспевание» употребляется без знака, просто в значении «вырвалась вперед». Между тем, многие консерваторские достоинства мусульманской цивилизации очевидны. Так, она сохранила семью и коллектив — общину «умму».) Получается, что не в мифе дело. Обычаи предков — «адат» тянул мусульманство назад, на место? Но у христиан тоже были и есть обычаи предков, почему же они их не удержали?
Следует взглянуть попристальнее на поведенческие коды обеих религий, сформировавших цивилизации: что в них можно, а что нельзя. То, что мусульманам нельзя есть мясо нечистых животных, в частности свинину, вряд ли имело значение. То, что мусульманин имеет кораническое право иметь нескольких жен, имело огромное значение: обеспечило наличие потомства и бесконечный рост популяции. Но все равно не объясняет, почему христиане завоевали мир и в прямом и в переносном смысле, а мусульмане нет. И тут вот появляются на постаменте алкоголь и гашиш, то, что принимают внутрь в желудок и кишки ежедневно христиане, и то, чем одымляют свои легкие веками мусульмане. Резонно предположить, что эти два наркотика (потому что алкоголь тоже наркотик) и сформировали поведенческий тип христианина и мусульманина. Ведь их употребляют многими веками, ведь на протяжении многих десятков поколений, ведь ежедневно.
Мусульманская религия запрещает своим верующим употребление продуктов виноградной лозы и алкоголя вообще в современном смысле слова. В результате для разрядки мусульмане традиционно обращались к различного рода наркотическим веществам. Курение сухой травы растения «индийская конопля» и курение приготовленной из нее же пластичной жирной смолы под названием «гашиш» было известно афганским племенам и от них всей Азии задолго до прибытия табака с Американского континента. Христианство же не только не запрещало употребление продуктов из винограда, но и использовало вино в качестве священного напитка при своих богослужениях. К курению табака, когда курение привилось в Европе, католическая церковь отнеслась более или менее терпимо, как к легкому греху. Табак в Европу привезли из Америки, могли привезти гашиш из Азии, но так не случилось (скорее всего мешала лежащая на пути враждебная Оттоманская империя), привезли, стали привозить сравнительно поздно. Гашиш был распространен только среди немногих избранных — choosen few. Так в 1840-х годах Бодлер и его друзья наслаждались гашишем в Париже, но в клуб гашишинов входила лишь горстка модных литераторов: Шарль Бодлер, Теофиль Готье, Теодор де Банвиль да чернокожая подружка Бодлера Жанна Дюваль. Только к 1960-м годам «индийская конопля» пробилась в Европу в массовых количествах.
В результате полного запрета на употребление алкоголя на Востоке и железного занавеса Оттоманской империи, останавливающей экспорт «индийской конопли» и ее производных на Запад (опий, кстати, тоже долгое время оставался распространен только в своей резервации — в Восточной и Юго-Восточной Азии), создались две дистинктивно разные поведенческие цивилизации. Потому что и алкоголь и гашиш были не просто средствами расслабиться и искусственно усилить удовольствие жизни, но они стали передаваемыми из поколения в поколение стереотипами жизненного поведения. Алкоголь приобрел в жизни европейца влияние сильнейшее, большее, чем церковь. Об этом свидетельствовало хотя бы количество питейных заведений в европейских городах. Церквей же было и есть значительно меньше. Алкогольные церемонии и обряды сопровождали христианина через всю жизнь. Влияние алкоголя — беспокоящее, жгущее кишки, подхлестывающее энергию — создало христианина — беспокойный тип. Выгнало его в крестовые походы и завоевания, выгнало его на поиски пути в Индию и Америку. Все завоевания европейские, междоусобные войны и колониальные завоевания европейцев — следствие алкогольного беспокойства.
Мусульманская же цивилизация задымливала себе легкие и мозги гашишем, и этот наркотик давал другой вид энергии — расслабляющий, мягкий, влекущий к чувственным, созерцательным удовольствиям. Накурившись, мусульмане делали детей и видели прекрасные цветы и узоры. Да, Великому Старцу Горы удавалось из своего сирийского убежища засылать своих обкуренных ребят-гашишинов (впоследствии превратившихся в европейских языках в убийц — assassin) совершать отдельные убийства глав государств — но на долгое, возбужденное состояние постоянной агрессивности мусульманский мир оказался не способен.
Гашиш дает горячий пот, алкоголь — холодный. Гашиш дает расслабленное, ровное наслаждение. Алкоголь — серию отчаянных порывов. Арабские напевы заунывны, это повторяющиеся небольшие волны эмоций, вливающиеся одна в одну. Мусульманин едет далеко-далеко и медленно-медленно. Алкоголь — взрывает, его влияние — зачастую неконтролируемая ярость. Те мои сограждане, что тестировали и то, и другое, понимают, о чем я говорю: суть дела — различные характеры кайфов. Гениально писал прозорливый Лермонтов:
Не боюся я Востока / отвечал Казбек
Род людской там спит глубоко / Уж девятый век
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И склонясь в дыму кальяна / На цветной диван
У жемчужного фонтана / Дремлет Тегеран…
Люди века Лермонтова, знавшие Восток — мусульманский мир,— таким его и видели: кальян падает из рук, дремлет на цветном диване мусульманский мир. А к нему врывается бледнолицый европеец в холодном поту, в приступе белой горячки. (Кстати, многое в европейском искусстве сделано в приступах «белки». Тот же Дюрер.) Как всадники Апокалипсиса у Дюрера, с мечами крестоносцы забивают насмерть человека с кальяном. Их толкала вечная неутоленность и послеалкогольная жажда (особенно после шампанского), непоседливость, беспокойство, охота к перемене мест. С похмелья ведь хочется обязательно гулять, совершать что-то, идти, ехать, отправляться. Отравленный алкоголем просыпается рано, бежит, мчится, рвется, скандалит. Кажется себе гениальным, кричит, бормочет…
Тот, кто проснулся после гашиша, у него еще дым в мозгах, он двигается медленно. (Если алкоголь исчезает из организма в три дня, марихуана и гашиш полностью выходят через тридцать дней.) Вот где собака зарыта: алкоголь быстр и агрессивен, гашиш медленен и расслаблен. Христианин и мусульманин — это быстрый и медленный. Первого жжет изнутри, а у второго мозги обволакивает.
Восток проспал все десять веков, но в 1980 году вспыхнула консервативная мусульманская революция в Иране. И против ожидания победила алкоголизированных сторонников шаха. В Турции или Египте до сих пор у власти проалкогольные режимы американских марионеток. Гейдар Джемаль рассказывал мне, что у турецких военных в обычае есть ежегодный визит в бар. В самый разгар мусульманского поста Рамадан заслуженный генерал входит в бар, заказывает бокал коньяку и выпивает у всех на глазах, дабы засвидетельствовать свою антимусульманскую суть.
Мохаммед Атта и его 18 сподвижников, совершившие рейд на башни Международного торгового центра и Пентагон, были, как утверждают некоторые источники, современными молодыми людьми. Учась в Германии, они ходили в дансинги и употребляли алкоголь. И 11 сентября они не склонились в дыму кальяна на цветной диван, но крепко сжимали штурвалы серебристых фаллосов-минаретов. Аллах акбар!
Русские? Во времена нашей небольшой агрессивной колониальной экспансии к 1860 году в России насчитывалось 77.386 кабаков. В 1859 году кабатчики заплатили в казну сумму, составлявшую 46% «обыкновенных государственных доходов».
Пролетарские девочки
Наташа. Совсем простое личико. Фарфоровый лобик с мелким прыщиком, замазанным пудрой. Широкий носик, натянутые пленки глазок, изобличающие наличие в прошлом татаро-монгольского лиса в треухе, вцепившегося в славянку. Короткие обкусанные ногтики, тяжеловатые красноватые кисти рук. Волосы выжжены пергидролем чуть ли не с третьего класса. Чуть тяжеловатые, но пристойной длины ноги. Наташа. Потому что все русские девушки — Наташи, а пацаны — Коляны. Дочь токаря высшего какого-то разряда. Мало говорящая. Природно неглупая. Но неразвитая. И все-таки непонятно, что в жизни делать. 21 год.
Училась средне. Нюхала клей «Момент» с мальчишками, забравшись на школьный чердак, чтобы улетать. Потому что если не улетать, то крайне скушно жить. Чтобы улетать больше и дальше, стала (так сама, смеясь, обозначала) «жить половой жизнью». Попробовала с теми же мальчишками, с кем нюхала клей «Момент». Двое были младше ее на два года и только третий — ее возраста. Взрослых мужиков боялась. Малолетки ее не обижали, ценили, могли за нее убить. (Только через несколько лет сообразила, что предавалась с малолетками «оргиям».)
Отца уволили с работы из престижного НИИ. Все равно подошел пенсионный возраст. (Есть брат, старше на 13 лет, давно живет почему-то в Карачаево-Черкессии.) Потому родители стали все больше времени проводить на приусадебном участке, где отец давно построил небольшой отапливаемый домик. Малолеток забрали в Чечню, где одному продырявили голову так, что было не починить, а другой пропал без вести — то ли дезертировал, то ли украли. Ровесник Наташи женился и, встречаясь с нею, стеснительно смотрит в сторону. Наташа нигде не работает, читает книги и «совокупляется в случайных связях» (опять-таки ее выражение). Того, что приносит в ее квартиру (к ним она старается не ходить и редко отступает от правила) одна случайная связь, хватает до другой случайной связи. Так и живет. Нет, денег за свои услуги она не берет, да и какие услуги, если она тоже получает удовольствие. Ей же нетрудно. Где находит «случайные связи»? Да повсюду, с этим проблемы нет. У нее глаза такие… Родители приезжают на недельку-другую зимой пару раз. Родители поставляют в дом картошку и другую огородно-садовую продукцию. Наташа считает, что так и нужно жить. А как еще? Я тоже воспользовался ее гостеприимством.
…Некоторое время я спал с молодой женщиной, с матерью двоих детей, она работала диспетчером в нашем ЖЭКе. Она была такая вся изумленная, неразговорчивая, но ласковая. Ей снились странные сны о том, как она сидит одна на каком-то шестке посреди огромного океана. Конечно, ее звали Люда. Однажды мы целую ночь смотрели в постели оперу «Вий», и там еще гроб летал ужасно. Даже страшно было. Чтоб было не страшно, мы с ней совокуплялись. Она была хорошая и добрая. Ходила в кожаной шоколадного цвета исцарапанной куртке и в юбке. Муж у нее (бывший) почему-то был фашист.
Она мне нравилась. Я отрывал ее у детей. Где-то там сидели ее дети с ее старушкой матерью, бедняги, не представляя, что их мамочку какой-то странный тип гладит сейчас по белой прозрачной попе. Как-то я взял ее с собой на торжество в Дом молодежи. Тогда я еще ходил на такие тусовки. Помню, что Хакамада метала там дротик, а Жириновский прыгал в длину. В холле на ступенях меня и Люду атаковали телекамеры и фотографы. Она очень смутилась. «Кто ваша девушка?» — спросили журналисты. «Я диспетчер в ЖЭКе»,— честно сказала Люда. Все были шокированы, но, думаю, не поверили и понимающе заулыбались. Я расстался с Людой только потому, что влюбился в Лизу.
…А то еще я спал с курьершей из одного модного журнала. Она ездила на мотоцикле, была наголо обрита, колечки и звездочки по всему лицу, в носу тоже. Здоровенная девка, руки красноватые. Шлем в руке, кожаные штаны, короткая куртка — такой она впервые предстала передо мной. Голос у нее был хриплый, сама она была из какой-то дальней Московской области. В общем, то, что я люблю. Руки шершавые и холодные. Молоденькая как зеленое яблоко. Однажды, наступило лето, она пришла в коротком белом платье в черный горох. Платье тесное, коленки торчат, руки висят красные, просто класс, а не девчонка! Глаза серые, круглые, реснички повыдергивала от психопатства. Она себя называла IRA, как Ирландская Революционная Армия, с ударением на А. На нее у меня рук просто не хватило, шел 95-й год, и у меня было полным-полно девушек, я их набрал столько, что не способен был справиться.
В то время меня одолевали мысли председателя партии, я только что стал председателем НБП: нормально ли это, что я живу такой вот грешной жизнью, короче говоря, что все эти девочки, вон Ленин ведь был другой?.. Можно сказать, аскет, подруга — Крупская, до этого, правда, была странная свободная женщина Инесса Арманд, о которой он плакал, когда она умерла потом от тифа в 1920-м.
Я решал свою одинокую большую проблему один: никто не мог мне дать ответ. И поверьте, это было нелегко. Получалось: или вождь партии — и тогда аскет. Или гуляй с сотнями девочек, но тогда нечего людей под знаменем водить, так? Постепенно я себе разрешил и простил повышенную сексуальную активность. Я подбодрил себя историческими примерами. Гитлер жил со своей племянницей Гели Рубель, а потом с Евой Браун, и Ева была на 23 года его моложе. Ему явно нравились девочки. Французский президент Клемансо по прозвищу Тигр умер в 88 лет во время сеанса любви с дамой 36 лет, в комнате свиданий за его служебным кабинетом. Тигр встречался с нею в этой комнатке дважды в неделю. Позднее, когда я прочел в хорошей английской книге, до чего похотлив был Мао, я перестал чувствовать какую-либо неполноценность. Еженедельно в павильоне Небесного Спокойствия для Мао устраивались танцы под оркестр. Присутствовали исключительно молоденькие курсантки Народной Армии. Мао выходил из-за занавески и приглашал девушек танцевать. Во время танца он выбирал девочек. Выбрав себе подружку, он утанцовывал ее за занавес. Присутствующие расходились. Причем Мао уже было черт знает сколько лет. Короче, аскетизм Ленина был скорее исключением. Например, Иосиф Броз Тито был также любвеобилен. До Йованки, густобровой красавицы, офицера его личной охраны, он был женат множество раз. Первая его жена была русская, ее звали Пелагея, и Тито привез ее из русского плена уже после революции 1917 года. Короче, великие примеры ободрили меня. От себя я думаю, что раз можно было им, то можно и мне.
Мне никогда не нравились очень красивые женщины. Мне всегда нравились зеленые неуклюжие существа с примесью вульгарности. В пролетарских девчушках я всегда находил прелесть и грацию необыкновенную. Мне нравилось, как они ходят, едят, скандалят и лгут. Так что, да здравствует Лиза Дулитлл из пьесы «Пигмалион»! Вот она плетется, ковыряя пальцем в носу, в прямом или переносном смысле. Вспотела, платье перекручено. «Девчушка, куда ты идешь? Здравствуй!» — я перегорожу тебе путь…
Краткая история костюма
Есть люди куртки, есть люди свитеров. Я — человек костюма. Во всяком случае, я представляю идеального себя в костюме. Двубортном. Черном в белую редкую полоску. Такой у меня был тридцать лет назад. Году, кажется, в 1970-м случилось так, что я закупил в комиссионном магазине на Преображенской площади именно черный шерстяной костюм в белую редкую полоску. Двубортный, брюки с обшлагами — целое сложное сооружение, как рояль в мире музыкальных инструментов был тот костюм. Таких уже в то время не делали, а если и производили, то не из такой благородной ткани. Такую благородную ткань просто перестали производить, времена-то шли легкомысленные. Увидев ЕГО на плечиках в нафталиновой полутьме комиссионки, я в него немедленно влюбился. От него веяло гангстеризмом, сухим законом, Хэмфри Богартом, Аль Капоне, ночью Святого Валентина, семью трупами в гараже и автоматами с круглым диском — «Томсон», кажется, называется. На таком костюме на сгибе рукава должна висеть тонкая белая леди, подумал я и не ошибся.
Закупил. Сам переделал брюки, так как первоначально они предназначались для человека с вдвое большими бедрами, чем у меня. Стал надевать. И где-то через полгода нашел себе белую леди, способную достойно выглядеть висящей на сгибе рукава. Это была чужая жена Елена Сергеевна Козлова-Щапова, 20 лет, красивая как ангел. Чтобы ее заполучить, мне пришлось однажды ночью перерезать себе вены в ее квартире. Не то что я хотел там умереть, просто надо было доказать себя. Когда однажды мы выходили с просмотра фильма «Бонни энд Клайд» народ шептался сзади с почтительным уважением. Мы были так похожи на роковую бандитскую парочку, так молоды, так красивы, и на мне был костюм как у Клайда, этот мой, в полоску. Я верю, что вещи переделывают нас под себя, имеют на нас глубочайшее влияние. Несомненно, что тот костюм на меня повлиял.
Когда родились такие костюмы? О, после первой мировой бойни, после всех этих Верденов, где 80 тысяч мужиков гибли ежедневно (!) и с той и с другой стороны, мясорубка была — вот что; тогда и появился двубортный, слизанный с кителя. Грудь выложена, плечи военные разогнаны, стать, броня — все как военное. Носили его со шляпой или кепкой все двадцатые и тридцатые. Если б не грянула опять мужественная эпоха, Вторая всеевропейская и она же мировая, то двубортный, наверное, исчез бы, видоизменился бы, стал бы мягким и исчез бы. Но близкие родственники: коммунизм, капитализм и фашизм — взялись хуярить друг друга совершенно серьезно, промышленно-индустриально убивать. Так что серьезному стилю уходить было рано.
О военной форме, о галифе, о шинели и сапогах отца, о платье с плечами матери я хорошо написал в книге «У нас была Великая Эпоха», книге очень удачной, она, как «Тарас Бульба», останется, эпическая, радовать народ. Я писал о военных шинелях разбитых армий на послевоенной барахолке, как ветхий Гомер — о кораблях греков.
Сразу после войны восстановилась мода довоенная. Мужественная. Все мужчины выглядели приблизительно одного возраста из-за этих бронированных двубортных, и подросток, и старик. Эпоха серьезности. Костюм преобладал над телесами. Они под ним ходили скрытые, а не он облегал их таких, какие они есть. Эти костюмы — все еще продолжение войны и военных нравов. Эпоха тоталитаризма. Поджигатель войны Черчилль — в двубортном, с сигарой. Поджигатель войны Трумэн — в двубортном, с сигарой и в шляпе. Гонитель свободы сенатор Маккарти — в двубортном. (Сталин, де Голль, Эйзенхауэр, Тито, Чан Кайши — по-прежнему в генеральских мундирах.) Двубортные тоталитаристские продержались 20-е, 30-е, 40-е, 50-е и почти до конца 60-х. Все участники трагедии семьи Кеннеди — вглядитесь в документальные кадры 1963 года. Сам Джон Кеннеди, Освальд, Руби, гангстер Джек Руби, вы вспомните, а губернатор Техаса, которого поразило пулей вместе с Кеннеди, Коннели, или Коннол его фамилия,— все одеты в два борта! Брат Джона Кеннеди, Роберт, убитый через пять лет на кухне китайского ресторана,— также одет в два борта. Правда, его убийца Сирхан уже в рубашке. (Есть фото Ли Харви Освальда в рубашке, но это летняя рубашка «поло».) То есть серьезные люди убивают серьезных людей в серьезной одежде. Даже легкомысленный Хрущ ездит по Америке в двубортном. Парится, отдувается, обмахивается шляпой.
Катящаяся с лета 1966 года на Европу и Америку китайская молодежная революция меняет моду на куда более неформальную: джинсы, свитера, рубашки, однобортные легкие костюмчики веселых цветов. Как костюмчики «Битлз». (Плюс еще их челки — вышучивают костюм — мужскую серьезную одежду.) В том, что молодежные «революции» в Париже, в Праге, в Беркли, в Калифорнии и в Чикаго имели результатом лишь смену общественных мод в одежде, а не политические изменения, видно поражение молодежи. В 1968 году под натиском молодежи уходит мундирный де Голль. Но приходит двубортный (все еще) Помпиду. Начинается эпоха разнообразия стилей и одежд. Официальные Европа и Америка продолжают придерживаться делового (с галстуком) и вечернего костюма, в то время как все большее количество передовых, свободомыслящих людей из либеральной и левой интеллигенции исповедуют свободный стиль в одежде. Профессора являются преподавать с кафедр в джинсах и свитерах и рубашках. Калифорнийские хиппи расхаживают по улицам L.A. и Frisco в индийских рубахах, в костюмах всех времен и народов, а то и как Христы, в одних набедренных, благо климат теплый. Одновременно с уничтожением тирании мужского двубортного костюма распространяются вместе с мягкой одеждой и более мягкие нравы. Костюм, одежда авторитарная, скреплял и держал семью. Хламидомонадные накидки, пончо и разлетайки хиппи не могли удерживать семью и не хотели — распространяется промискуитет. А как может быть иначе в обстановке всеобщей расхлябанности, полуодетости, недостаточной одетости, среди мягких, подчеркивающих, обнажающих одежд, как может быть иначе! В этой среде в обиход входят наркотики, курение индийской конопли марихуаны становится безгрешным делом, народ глотает LSD, жрет наркотические кактусы и галлюцинаторные грибы. (В американской провинции, в тех штатах, где не тепло, и которые далеки от двух побережий,— нравы, конечно, сохраняются более консервативные.) В Европе процессы приблизительно те же, с некоторыми местными особенностями. Порядок повсюду шатается все семидесятые годы и вот-вот упадет. То, что не произошло политически в конце 60-х, вот-вот произойдет через падение нравов: Запад выглядит как Содом и Гоморра или Новый Вавилон. Никто не хочет драться во Вьетнаме, и в 1975 году Штаты окончательно выбираются с той части планеты. Как раз в тот год в феврале я прилетаю в Нью-Йорк рейсом PAN-American Airlines. Порядок шатается: 1975, 76, 77, 78, 79, 80-й — вот-вот упадет.
Чтобы спасти порядок, вовремя появляется Бич Божий — AIDS (он же СПИД русского языка); первые случаи заражения якобы датированы осенью 1980 года (22 мая 1980 года я улетаю во Францию), общество же осознает заболевание много позже — через несколько лет. Осознав опасность, общество пугается, и нравы, разболтавшиеся практически до отметки «0» — zero,— начинают стягиваться и ужесточаться. Появляются New Born Christians, так же как пуританские секты в XVI веке, когда Европу залила эпидемия сифилиса. Случайные связи становятся опасны. Реакция торжествует. И хотя двубортная крепость костюма не торжествует в той же степени грозности, восстановление серьезной трезвости в обществе налицо.
Очень и очень возможно, что AIDS изобрели в лабораториях CIA и выпустили в мир совершенно сознательно, понимая, что делают, администрация Соединенных Штатов, возможно с консультацией нескольких правительств Европы и нескольких элитных международных клубов. Такая гипотеза представляется очень вероятной. Почему?
Ну, американская империя всегда осознавала себя силой универсальной, глобальной. Еще в период Войны за независимость они вовсю подражали римлянам, слизывали с Рима и подписывались в газетах римскими псевдонимами. Нация, учредившая у себя сенат, назвавшая здание в столице «Капитолием», столь выпячивающая римскую категорию «гражданин». Ведь эта нация хладнокровно приняла решение о применении ядерного оружия. И вот такая нация закономерно и в той же логике сохранения здоровья нации могла и, я уверен, приняла решение о создании вируса, который мог бы остановить нравственное разложение американского общества. И он остановил разложение. Ценой какого-то количества тысяч жизней «деградантов». Практически задаром.
На Капитолии большинство носят два борта. Именно туда летел четвертый минарет-фаллос 11 сентября.
Удовольствие надеть холодный костюм. Ах, когда же я его надену! Холодный, потому что шелк или саржа подкладки холодят. Костюм должен быть твердым, холодным, чуть топорщиться. И обязательно двубортным. К моей седой бороде и тощему зэковскому торсу будет нормально.
Идеология сказки
И вот настал XXI век. 11 сентября. Бандит Мишка спал после обеда на шконке, я сидел на своей и краем глаза глядел на экран телевизора, ожидая 17-тичасовых новостей по ТВ-6. Новости на ТВ-6 кажутся мне самыми достоверными. Голубое небо было на экране. Серебристо светились на летнем нью-йоркском солнце корпуса башен World Trade Center. Одна башня горела… (Я помню, как их сооружали. Я жил тогда в Нью-Йорке. Ночами они светились огнями и сполохами электросварки в окне дома, за стеклом его, я, накурившись марихуаны, made love с нью-йоркской еврейской девочкой по кличке Неандертальский Мальчик.) Если момент первого пробития девственной плевы Америки ускользнул от камеры CNN, то второй удар, когда самолет компании American Airlines мощным заостренным фаллосом пробивает серебристую девственную плеву, останется навечно в анналах истории человечества. Захват четырех самолетов фаллосов совершили. 19 арабских юношей во главе с человеком по имени Моххаммед Атта. Ассассины (Вспомним, что «Старец Горы» — Old man of the Mountains — в ранние средние века посылал своих убийц-юношей, накурившихся гашиша — отсюда гашишины, видоизменившиеся в «ассассины», посылал ликвидировать врагов ислама и враждебных государей. Старца звали Гасан.) во главе с Аттой погибли. Герои ислама, они находятся сейчас в мусульманской Валгалле, в мусульманском Раю, где их обслуживают гурии Рая. Атта и его друзья мертвы, их не накажешь.
Empire (Соединенные Штаты) понимает, что необходимо как можно быстрее отомстить, to Strike back, да-да, также как в сказочных «Звездных войнах» и вообще в сказках народных и голливудских. Ассассины мертвы, им не отомстишь, но ведь можно отомстить Гасану-старцу, он же Old man of the Mountains, он же Кащей русских сказок. Неизвестно, посылал ли он ассассинов, и вообще посылал ли кто-либо, вероятнее всего assassins сами себя послали на этот самоубийственный подвиг. Но если согласиться с тем, что сами себя послали, то некому мстить. По счастью для Империи, в стране чрезвычайно далекой и пустынной, в Афганистане, есть иностранный мусульманский Old man. Самобытный, символичный, с длинной седой бородой, в чалме, декларирующий последние годы себя врагом Соединенных Штатов. Empire радостно посылает свои летающие крепости за множество морей, где в пустынях спит величаво древняя страна, где обосновался Old man of the Mountains. Его, как полагается, охраняют воины сил Зла. Их принято называть талибами, а когда их особенно много, то называют Талибан. Под непрекращающейся бомбежкой с летающих крепостей силы Зла отступают к пещерам Тора-Бора. Название словно придумано гениальным голливудским сценаристом, так же как и имя Усамы бин Ладена и весь внешний облик Old man of the Mountains. Следующие кадры: в пещерах Тора-Бора американские юноши (пропустив благоразумно вперед воинов местных дружественных племен, пообещав им богатое вознаграждение за поимку старца) ищут старика с длинной седой бородой и в чалме. Старик просто удивительно кинематографичный: ни дать ни взять — персонаж фильмов «Багдадский вор» и «Али-Баба и сорока разбойников», перевоплощение Саладина и уже много раз упоминавшегося Старца Горы, который в XII—XIII веках, расположившись в сирийских горах, посылал обкуренных юношей на убийства христианских и мусульманских государей…
Вслед за воинами дружественных племен американские юноши врываются в пещеры, однако Старец успешно ускользнул вместе со своим ближайшим приспешником одноглазым (Одноглазым!!! Что тут сказать: perfect, adorable, великолепно, неподражаемо!) муллой Омаром. Сколько отличных поучительных комиксов можно выпустить об этой паре: Старец и Одноглазый Мулла. Я уверен, что дети XXI века будут балдеть от этих убойных комиксов. Плюс пещеры Тора-Бора…
Шутки в сторону, но идеология этой в высшей степени невероятной, тотально иррациональной истории XXI века — это сказка, миф. И та и другая стороны не размениваются на скучные арифметические различия, как было между капитализмом и коммунизмом, или на борьбу за территорию или там рынки сбыта. Тут идеология куда круче. Противники запросто и честно считают себя каждый Добром, а противостоящую сторону Злом.
То есть вот что произошло: на смену рациональным идеологиям: марксизм, социализм, национализм, фашизм, либерализм, демократия, капитализм — пришла иррациональная, чувственная идеология НАШИХ и НЕ НАШИХ. НАШИ — Добро, НЕ НАШИ — они — Зло. Соединенные Штаты с 80-х годов пытались адаптировать такую идеологию, им всегда было свойственно библейское, мессианское мировоззрение, вспомним, что президент Рейган называл СССР — «империей Зла». Но тогда США противостояли СССР и его коммунистической идеологии, потому отвечать приходилось в соответствующих идеологических терминах — на либерально-демократическо-капиталистическом языке. Как только СССР покончил с собой, Соединенные Штаты могли наконец отказаться от надоевшей им идеологической прозы и перейти на любимые ими категории — библейские. Вот и появились страны-изгои, и военные операции стали называться в библейской терминологии: «удары по Злу», «восстановление Божьей справедливости», или как там янки хотели назвать первоначально операцию в Афганистане, но все же постеснялись. В социальном смысле США исповедуют сегодня идеологию избранного народа — регрессивную. Потому средневековый ислам стал вровень с ними. Они говорят на одном языке джихада — священных войн. А те, кто живет еще в государствах старого рационального идеологического типа, наблюдают и недоумевают. (Что до России, то это наше правительство безобразно глупое и не понимает происходящего.)
Где-то на каком-то повороте на оси цивилизации, на каком-то этапе Соединенные Штаты соскочили с нарезки цивилизации и рухнули вниз. Они рухнули 11 сентября 2001 года. Где их поджидал Ислам. Там внизу хорошо. Там жарко, чувственно и возможно доказать свою правоту только с помощью хорошей воняющей кровью многолетней священной войны в масштабе всего мира.
Вряд ли остающаяся часть человечества сможет противиться этому обрушению всех ценностей цивилизации, этой примитивизации мира. Прощайте умные достижения французской философии и международного права. До свиданья, Сартр, Камю, Фуко и Деррида. Как могучий Шварценеггер в фильме о Конане Варваре разрушил храм Змеи, так Моххаммед Атта с дружиной из 18 воинов совершил богоборческую акцию. В лице двухголовых башен он на самом деле сокрушил миф о неуязвимости Америки. В мире символов Моххаммед Атта выиграл навсегда. Потому что телекартинка, которую предъявил и оставил миру Атта,— фаллос-минарет, протаранивающий девственную плеву Америки,— не может быть стерта ничем. Американское правительство может поймать и казнить старца бин Ладена и муллу Омара в прямом эфире CNN, разбомбить крылатыми ракетами священный камень Каабы, но ей не стереть телекартинку, оставленную 19 assassins. Вся история Америки отныне будет подавлена этим мифическим образом. Потому Америке не жить. Все в прошлом: могущество, власть над земным шаром, культура небоскребов — храмов золотого тельца, безопасное проживание за три моря, богоподобное ядерное оружие,— все в прошлом. Америка больше не верит и не поверит в свою неуязвимость. А тот, кто не верит в свою неуязвимость, тот скоро умрет.
Между тем выход к спасению был — покаяние. Признание своей злобной сути. Прекращение злобной практики убийств инакомыслящих стран. Но Америка пошла по злобному пути упорствования во Зле. Она хочет быстрее умереть.
«Декабрист»
14 декабря 2001 года в 7:40 утра показалась в кормушке физиономия молоденького sous-lieutenant, под-лейтенантика.— «Гулять будем?» — «Да, конечно».— «В восемь часов». Кормушка закрылась.
Отлил. Просморкался. Надел тапочки. Пополнил запас леденцов в мешочке в кармане бушлата. Поставил у двери две картонки для отжимания на снегу. Надел бушлат. Перевернул красный таз. Сел на таз. Взял на колени мини-телевизор, подаренный мне в тюрьму полковником Алкснисом. Передвинул скользящую кнопку. В восемь с копейками увидел на экране гнусную, теперь уже откровенно гнусную рожу Андрея Исаева, депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета по труду и законодательству. Толстая рожа начинающего борова и тонкие очки. Некая алкогольная припухлость лица. Пьет от стыда за себя?
Бывший вождь российского анархизма, потом анархо-синдикализма, бывший редактор профсоюзной газеты «Солидарность» говорил из студии РТР в гостинице «Россия» о том, что, дескать, общероссийская голодовка протеста авиадиспетчеров не помешает принятию КЗОТа вторым чтением в Государственной думе; что голодающие авиадиспетчеры представляют собой миноритарные, не понимающие сути КЗОТа профсоюзные тенденции. Нет, не понимают, бедняги, потому и голодают. Новый КЗОТ — великолепная вещь. Сейчас он объяснит. И начал спокойным, взвешенным голосом объяснять. Перед принятием КЗОТа в первом чтении коллега и бывший босс Исаева (Андрей Исаев служил секретарем в ФНПР) председатель Федерации независимых (!) профсоюзов России господин Шмаков приветствовал реструктуризацию Министерства путей сообщения, в результате которой потеряют работу 500 тысяч железнодорожников. Шмаков нагло лгал, что всех их переквалифицируют, то есть научат делать что-нибудь другое, и трудоустроят. Якобы. Где трудоустроят, он не сказал. Приветствовал увольнение полумиллиона рабочих! Да самый прожженный мафиозный профсоюзный босс на Западе восстал бы против правительства с такими планами. Да если б не восстал, его бы киллеры замочили. А тут председатель! Независимых! Приветствует! Полмиллиона увольнений! Охуеть можно!
Теперь лжет Исаев. Подшерсток бывшего анархиста короткий, блестит как у жирной кормленой собаки, рожа увеличилась вдвое против последнего телепоявления и стала типичной водочно-суповой мордой чиновника. Анархист, ты ли это?!
В феврале 1992 года (то есть без малого десять лет миновали) принимал меня в газете «Солидарность» на втором этаже дома в Бобровом переулке (это в районе Главпочтамта на Мясницкой, за домом акционерного страхового общества «Россия»), длинноволосый, ломающийся под Махно юноша в высоких сапогах — Андрюша Исаев. Редакция помещалась в двух комнатах. В одной существовали журналисты; она была захламлена, забита газетами, пачками бумаги, анархистскими публикациями и плакатами, девочками, мальчиками, пишущими, пьющими кофе, стоящими на одной ноге, грызущими бутерброд, дописывающими, достукивающими по машинке. Другая комната служила кабинетом главному анархисту России. Там, в кабинете, Андрюша Исаев и Борис Кагарлицкий, пришедший с рюкзачком, взяли у меня интервью. Впоследствии оно было опубликовано на двух полосах газеты. Исаев начал с того, что извинился за то, что занимает должность редактора газеты профсоюзов. «Подрядился. Попросили. Существовать ведь надо. Зато вот помещение. Какая-никакая — база». В тот день они меня спросили, среди прочего, верю ли я в будущее левого движения в России. Я ответил, что не верю. С течением времени выяснилось, что я и ошибся и не ошибся. Избиратель (процентов 30–35) упорно голосует за КПРФ. Но КПРФ — не будущее, а прошлое, избиратель в ее лице голосует за прошлое, и у власти — не левые, но оголтелые чиновники — государственный «фашизм». А сам я оказался через десять лет, вопреки моему желанию, вождем самой левой партии России — НБП. И смотрю на толстомордого боровичка Исаева в тюрьме. Из тюрьмы.
Почему с ним это случилось? Ну трудно устоять сквозь годы. У большинства функционеров революции воля не длинная. Нормальный процесс ренегатства. Он и тогда, десять лет назад, был подозрителен, очень уж картинный, обильно волосатый: волосы густой скобкой, и эти сапоги, better then life, само напрашивалось предположение: позер. Тот, кто приходит в самое модное движение покрасоваться. Позднее увяз в профсоюзном движении, прилепился к Шмакову, а там деньги, машины, разъезды, выступления, слепили неживую «Партию труда», вместе со Шмаковым вошли в «Отечество». Вместо романтики махновских тачанок получилась романтика чиновничьих кабинетов. Давно уже, наверное, возили в служебном автомобиле с шофером, «членовоз» называется. Относительно молодой человек. Ренегат. Вас как зовут? Андрей Ренегат. По всей вероятности, у него уже есть семья, несколько толстомордых и толстоногих детей. Обширная квартира, дача в хорошем чиновничьем гнезде Подмосковья. Че Гевара из него категорически не вышел. Бомбист, как Губкин, не получился. Настоящих буйных мало. История его цинично перешагнет, сплюнет на костюм, поваленных на дороге ренегатов всегда очень много валяется, всех туш не упомнишь, на всех свет не прольешь. И только я его сейчас вот из тюрьмы в эти моменты обессмертил чуть-чуть. Зачем? Ну просто удивился, что из какого красивого мальчика получается, из анархиста — жирный холуй…
В двери моей камеры захрустел ключ. Пришли забирать на прогулку. Я передвинул кнопку телевизора и убрал Ренегата с экрана.
[Вечером показали убогий 13-ый съезд ЛДПР. В каком-то зальчике. Телеоператор снимал сцену сзади: видны были только лысины. Состарились элдэпээровцы или старых в состав набрали. Показали помятого Жирика. Наглый и заискивающий одновременно, Жирик объявил, что ЛДПР приняла новые установки: она отказывается от анти-американизма, от антинатовской позиции. То есть теперь даже стёба не будет, потому что, конечно же весь антиамериканизм Жирика был только словесным поливом. Бедный жирный Митрофанов что же он теперь будет говорить, у него забрали весь его репертуар, право поливать Америку… Теперь у партии в строю остался только дед Щукарь — Жириновский в его амплуа характерного актёра, всем надоевшего, но с ним свыклись и привычно смеются одному его уже появлению. Немноголюдный съезд старых проигравшихся во всю дядек — зрелище печальное, зрелище поражения, разгрома. Геморроидальные ребята с шагреневыми лицами…
За десять лет на моих глазах совершилось превращение живого в мёртвое. Я встретил этих людей в феврале 1992 года (я тогда встретил всех актёров будущего российского спектакля) — горящих, живых, захваченных процессов революции. ЛДПР помещалась в бытовой коммуналке на Рыбниковом переулке, стёкла в окнах были кое-где выбиты и заделаны картоном. Люди сидели в пальто. Люди были чудовищные, уже тогда множество прощелыг, но бегал энергичный Архипов, весёлый Жариков разглагольствовал в треухе. Безумный Жириновский Джокондой в бронежилете оскорблял японских журналистов и угрожал им ядерной бомбой, грея зад у единственного калорифера. Все было внове. Неизвестно как должно было быть. Я пошёл с ними рядом и прошёл до тех пор пока не обнаружил скучный обман. Потом пошёл своей дорогой. В декабре 1993 года, они, ни в чём не участвовавшие, не подставляющие себя в событиях октября (я подставлял вовсю, в полный рост и у мэрии и у Останкино), за хорошее поведение были допущены царём Додоном к выборам и выиграли на выборах! Неожиданно для самих себя! (Они уже хотели самораспускаться. Весь 1993 год было не до них. К ним никто серьёзно не относился.) И вот выиграли, семьдесят депутатов от ЛДПР пошли в Думу! Охрана, шофёры, кого только не подписывали, людей-то не было! Потому что избиратели — народ хоть таким образом хотел насолить власти, устроившей кровавую бойню в центре Москвы, показать ей задницу этой власти, вот и показал: ЛДПР. Задница народа. И тут Жирик обнажил свою морду ХАМА. «Я хам! я хам!» — кричал он. Пьянствовал, толкался, икал, рычал, ликовал, вёл себя как лох и мудак. Ссорился, таскал за волосы, давал себя снимать с беременным волосатым животом, кемарящим пьяным сном на даче, только что не срал перед телекамерой, а помимо этого делал всё. Кроме того он позволил власти иметь своих депутатов куда она только хочет. Поливом, брюзжанием, криком, он отвлекал внимание народных масс, срывал аплодисменты, а фракцию ЛДПР заставлял голосовать как власть того хочет. Сто процентов раз ЛДПР голосовала за законы, предложенные властью.
И так он пришёл к 13 съезду. С жёваной мордой обрюзгшей проститутки. Я предполагаю, что будет справедливо если он умрёт от запора. Я молю об этом провидение. Удостой его заслуженной смерти!
В 1994 году я написал о нём книгу «Лимонов против Жириновского». Я ему сильно польстил тогда.]
Так что я сподобился увидеть 14 декабря, в день восстания декабристов, бывшего, можно сказать, «революционера», а ныне, через десять лет, циничную человеческую оболочку.
В музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Барская усадьба с колоннами, целый дворец, собственно, стоит на Волхонке, и небольшой парк разбит перед фасадом. Чугунная решетка в рост человека. Летом в этом квартале необычный запах — смолистых пиний из парка. Совсем не русский запах. Смола растапливается в короткую московскую жару и заставляет верить — ты в Италии. Рядом, если спуститься по короткой улице Ленивке,— набережная Москвы-реки. На той стороне реки — Дом на набережной. Там недолго работала в одном модном журнале моя подруга Лиза в 1997-м. Я попал в музей, кажется, еще в первый свой приезд в Москву в 1966-м. Мне было 23 года, и я приехал из Харькова вместе с художником Вагричем Бахчаняном завоевывать Москву. Обстоятельств, при которых оказался в музее, не помню (ну, наверное, нормально повели провинциала блеснуть сокровищами). Помню внутренности музея, где был гардероб, помню мумию сигарного цвета с двумя кокосовыми, удивительно свежими зубами. Помню синие пинии перед музеем и табличку, на которую мне указали, сообщив с уважением: «Музей основал и был первым директором — отец Марины Цветаевой». От Марины Цветаевой и ее ритмических захлебов я не был в восторге, так что рекомендация была плохая.
Живя впоследствии в Москве, я туда довольно часто наведывался. Вероятнее всего я ходил туда, как верующие ходят в церковь, я веровал в искусство, и мне было хорошо быть среди предметов искусства, среди запахов моего культа: старой краски, старых холстов, камня, гипса и дерева. У них, помню, были выставлены тогда во множестве залов импрессионисты и постимпрессионисты и даже фовисты с Матиссом во главе. Вот только не помню, их это была постоянная экспозиция тогда или сборная холстов со всей России… Висело много хороших, но несколько однообразных Клодов Моне, была парочка Эдгаров Мане, были великолепные Ван Гоги, уступающие им темные Гогены, была пара-тройка холстов таможенника Руссо, неправдоподобный леопард, человек, играющий в гуще джунглей на волшебной флейте, анаконды и кагуары в чаще. Если не ошибаюсь, был даже Одилон Редон — глаз, парящий над городом как воздушный шар на ниточке. Менее всего мне понравился Матисс — ярко-красные разварившиеся сосиски людей, стоймя ведущие хоровод на сплошной зелени. Против всех других картин Матисс смотрелся как халтура, неоконченный подмалевок. «Щукин зря купил эту мазню»,— помню, сказал я кому-то, сопровождавшему меня, чье имя не сохранила История.
Каждый раз, возвращаясь из музея в свою убогую комнату, я аккуратно доставал чешский словарь современного изобразительного искусства и сверял имена, записанные мною в Музее, художников со словарем. Это было уникальное в своем роде издание, где каждая статья о художнике была сопровождена иллюстрацией хотя бы одной его работы, и большинство иллюстраций были цветными. Словарь был подарком моей подруги Анны, мы привезли его из Харькова. Этому великолепному чешскому пособию я обязан тем, что неплохо знаю современное искусство вплоть до третьеразрядных его представителей. Скажут «Густав Климт», а я знаю, кто это. «Берта Моризо» — а я знаю. В словаре были и сюрреалисты и абстракционисты, и все, кто чем-либо запомнился в современном искусстве. А еще словарь этот был как Евангелие от Искусства: переворачивая благоговейно страницы, я вдохновлялся святыми людьми искусства и мечтал стать столь же прославленным и почитаемым, как они. Где-то там на словаре осталась моя гордая клятва красным шариком:
«Клянусь стать таким же Великим, как эти гении искусства.
Э. Лимонов».
Надпись была более претенциозной и пышной и сентиментальной, я уверен, но суть сводилась именно к процитированной цели — таким же Великим… Нет, я не собирался стать художником, но я клялся искусством, а для меня изобразительная часть нашего общего айсберга была ярко зримой, ей легче было поклоняться, чем литературе, вот я и поклонялся.
В музее на Волхонке было тепло, советские батареи грели ровно настолько, насколько было необходимо, паркетные желтые полы были покрыты лаком. Хорошо, хотя и утомительно (запах краски быстро утомляет — проверьте!) пахло холстами и старой краской. В то время как грязные и неуютные московские улицы или трескались от морозов, или просачивались от дождей. Я плохо ел в те годы и потому чувствовал себя на улице неуютно. К тому же яркие южные импрессионисты и постимпрессионисты, волшебные закорючки Ван Гога, создающие иллюзии напряженного южного неба, экзотический тропический Руссо, душный провансальский Сезанн создавали особый жаркий мир искусства, прямо противоположный миру мерзлой некрасивой Москвы. (Так и звучит в ушах ласковый голос Андрюшки Лозина, юного московского пуантилиста конца 60-х годов: «Вот и Сезанчик, Эд, полюбуйся, вот вид на гору Сан-Виктуар». Уже через 12 лет после этого восклицания Андрюшки в музее имени Пушкина я буду карабкаться в августе 1980 года на гору Сан-Виктуар, тяжело дыша и отплевываясь, вместе с Жюльеном Блейном, французским поэтом перформанса, перед самой грозой! На полотне, к которому призывал меня Андрюшка, был «вид горы Сан-Виктуар перед грозой»!) Так что я туда прятался, в музей.
Помимо залов импрессионистов я часто посещал Египетский зал. Вот не помню, были ли тогда уже установлены там все умелые подсветки, которые позднее превратили Египетский зал в место жительства иллюзиониста. Но помню, что мелкие поделки ювелирного свойства, фигурки богов, украшения не вызывали во мне особого изумления. Зато я при каждом посещении неизменно шел в угол зала, где почивала в своих бурых марлях сигарного цвета мумия. Вот она вызывала во мне священный трепет. Само Время лежало передо мной, ссохшееся, в стеклянном ящике. Я с изумлением рассматривал волосы мумии и эти ее зубы. А за окнами мела пурга и было непонятно, почему мы, русские, живем тут в ссылке, на совсем неподходящей для жизни земле. И был еще один зал, который я посещал с удовольствием. Это зал, где висели голландские натюрморты. С явным удовольствием написанные все эти жирные подбрюшья селедок на серебре, тонкое плетение нитей столовых салфеток, крошки и ломти хлеба. Я недоедал в те годы постоянно и представлял, должно быть, любопытное зрелище, когда стоял перед этими картинами: обильно заросший волосами разночинец в потрепанном черном костюме (костюм остался от лучших времен, когда я работал сталеваром в Харькове) и хлопчатобумажном свитере под горло, плюс интеллигентские очки в тонкой круглой оправе. Было беспощадно ясно, что человек хочет есть и стоит, забывшись, перед натюрмортами, изображающими еду, как перед витриной продовольственного магазина.
Это были годы 1968-й, 1969-й, 1970-й. Иногда рядом со мной стояла седая женщина в вельветовых платьях, к которым, бесконечно перестирывая его, она подшивала один и тот же кружевной воротник — Анна Рубинштейн, подруга дней моих суровых. Косточки ее ныне покоятся на Центральном кладбище города Харькова — вход с Пушкинской улицы. (Остались у нее косточки как в 18 лет, а ненавистное ей ее излишнее мясо съели обитатели земли.) Зимой Анна обыкновенно была в капоре, самодельно сшитом ею из мохерового шарфа. Глаза ее горели и стреляли по сторонам, щеки алели. То были лучшие ее годы. Психически заболела она уже в конце 1970 года.
Потом пошли годы, в которые у меня не было времени на Музей изобразительных искусств. Я был влюблен, затем меня преследовали, а еще позднее я выехал за границу. В Вене, где я застрял на несколько месяцев, и в Риме, где прожил целую зиму, я переел искусства. Я посетил такое количество богатейших европейских музеев, что в конце концов меня стало тошнить от холстов и стендов с экспонатами.
Вновь нога моя ступила на паркет Музея имени Пушкина (то, что он имени Пушкина, меня дико раздражает, как и вообще пушкинофилия, да во Франции в одно время с ним жили 5-6 «Пушкиных» — Альфред де Мюссе и Проспер Мериме хотя бы, называю наугад!), хуюшкина только году в 1996-м, куда я пришел вместе с моей подружкой Лизой на выставку «Золото Трои». Золота оказалось всего ничего, какие-то жалкие листочки, на одном нашем новом русском надето куда больше золота, чем на всей этой выставке, смеялись мы с Лизой. Похоже было, что русский народ наебали. Возможны были два варианта: либо привезли не все золото Трои, а лишь один чемоданчик, атташе-кейс. Второе: хитрый фриц Шлиман раскопал на самом деле не Трою, а какую-нибудь притроянскую или вообще раннетурецкую деревню, а в деревне много золота не бывает. После «Золота Трои» я побродил с Лизой по музею, я хотел оживить воспоминания. Лучше б я этого не делал! (Никогда не встречайтесь с женщинами или с музеями, в которых Вы были влюблены когда-то!) Греко-римская античность вся оказалась представлена грубыми гипсовыми копиями-обрубками. Гипсом воняло повсюду. Вообще копий было неприличное количество. Египетский зал и слившийся с ним Зал Древнего Востока выглядели бы как средней руки краеведческий музей в провинции, если бы не умелая подсветка-наебка, спасающая вполне банальные экспонаты, большинство из которых, я полагаю,— умелые подделки конца XIX — начала XX века. Изготовленные в мастерских в Бейруте и переправленные в Египет на продажу доверчивым иностранцам в эпоху бума египтологии. Надо сказать, что мода на египетские вещицы родилась в Европе сразу после похода туда Наполеона (где он бросил свои войска, этот член!), и смысл в изготовлении подделок был прямой. Подделки продолжают изготовлять индустриальным методом. Мода на египетские безделушки не проходит. (Я поступил, когда мне захотелось иметь в 1979 году сувенир древнего Египта, радикально — я поручил старшему сыну моего босса мультимиллионера Питера Спрэга Карли отколоть для меня кусок камня с вершины старейшей пирамиды Хуфу, что он и исполнил, отличный мальчик.)
Пройдясь еще немного по Музею имени Пушкина, я открыл его заново. В сравнении с великими музеями Вены и Рима он оказался жалким, маленьким и захолустным, право слово, краеведческим. Да что там, в сравнении с музеями! В Риме я начинал обычно утро с прогулки: через холм Сан-Николо мимо великих статуй направлялся в Ватикан, спускался к собору Святого Петра, проходил в собор мимо тогда уже поврежденной маньяком беломраморной «Пьеты» работы Микеланджело! Каждый день!
Импрессионисты музея Пушкина, оказалось, не то были рассеяны по залам, не то уехали на выставки в другие города, но я их не увидел ни одного. Правда, меня торопила Лиза, мы куда-то должны были идти. Но все же я зашел к мумии. Мумия лежала на прежнем месте. Она ничуть не постарела. Тот же оскал кокосовых зубов. Я обрадовался встрече со старой знакомой. «Здравствуй!— сказал я, наклонившись над стеклом.— Я вернулся». В ответ она подумала обо мне. Я не сомневаюсь, что она меня узнала. У них обычно хорошая память на лица.
Зато у меня появились о Музее имени Пушкина другие воспоминания. Поскольку я проживал с марта 1995 года по март 2001 года совсем рядом — по другую сторону Гоголевского бульвара, по адресу Калошин переулок,— то я часто гулял с моими девочками по Волхонке, по Ленивке, по набережным. Теперь я помню запах горячей смолы голубых пиний по другим случаям. Через смолу я обоняю тот день, когда во дворе музея жарко обнимала меня девочка Маша, скончавшаяся впоследствии от овердозы героина. А под одной из пиний мы укрывались от дождя с Лизой-Лизонькой, допивая шелестевший в банках ром с кока-колой. Та же Маша Забродина сопровождала меня, помню, во время подробнейшей экскурсии по другому знаменитому русскому музею — по Эрмитажу. Экскурсию организовал для меня юный перуанец Жвания — тогдашний руководитель питерского отделении Национал-Большевистской партии, а старательным и квалифицированным гидом была его мать. Экскурсия по Эрмитажу заняла тогда несколько часов. Терпеливая Маша ненавязчиво следовала за нами то рядом, слушая пояснения, то на дистанции. Остановились мы и у того окна Зимнего Дворца, где некогда на раме окна наследник престола мальчик Николя (будущий император Николай II Кровавый) выцарапал признание, что ему скучно. Впрочем, это уже другой музей, I am sorry. Тогда я сказал, глядя из окна, что Зимний Дворец нужно снести, Дворцовая площадь таким образом расширится, и будем принимать на ней Национал-Большевистские парады.
Властители дум
Когда в 1988–1989 годах я писал в Париже книгу «Дисциплинарный санаторий», я констатировал смерть Последних Великих Культурных Героев Запада (еще их называют maitre a pensée во Франции и «властители дум» называли в России). Селин умер в 1963 году, Мисима в 1970 совершил ритуальное групповое самоубийство — сепукку, Пазолини убили в 1975 году, Жан Жене умер в 1986-м (и мне поручили написать некролог для журнала Французской компартии «Революсьен»), Генри Миллер умер, кажется, в 1980-м в глубокой старости в Калифорнии. А новых не появилось. Ну не Кундера же, не Умберто Эко ведь, не Чеслав Милош, всего лишь гибкие профессионалы. Я высказал тогда мысль, что победившая полная демократия в ее «дисциплинарном» виде не может генерировать культуру.
С тех пор дела не наладились. Последний великий — Уильям Берроуз — умер в девяностые, год вот, правда, не помню. И на нем запас великих истощился. Хотя, постойте, нет, возможно добавить одного. Можно с известной натяжкой допустить в компанию ушедших Последних Великих философа Ги Дебора, автора оригинальной, полугениальной книги «Общество спектакля», главы последней «школы» Интернационала ситуационистов. По многим параметрам он подходит. Тем паче что последний troublemaker Европы Ги Дебор также отмечал исчезновение гениев и размышлял над феноменом. В тонкой последней своей книжке, почти брошюре, «Комментарии к «Обществу спектакля» Дебор писал, что «Общество спектакля» не терпит и не потерпит оппозиции, что ныне появление звезды неспектакулярного, то есть не интегрированного в спектакль, типа немыслимо. Что он сам с его репутацией загадочного философа-нонконформиста — исключение, уникум в своем роде. Тем самым Дебор заявлял о невозможности формирования Великого Культурного Героя нонконформистского типа в недрах современного западного общества. В начале 90-х Ги Дебор покончил с собой. (Он был фигурой легендарной и загадочной. Существует лишь несколько его фотографий. В 1984 году его друг и издатель «Les champs libres» Жерар Лейбовици был застрелен в парижском паркинге.)
Так что Великие умерли, а новых все нет. Вот уже лет тридцать как нет, лишь вымирали сформировавшиеся в середине прошлого века. Где властители дум, указыватели пути? Не появились. Раньше ведь всегда были какие-то… Такое впечатление, что даже великие интерпретаторы-исполнители, и те закончились. Где великие актеры? Умер Рудольф Нуриев, и на смену ему не пришел даже отдаленно подобный ему яркий танцовщик… Такое впечатление, что скоро не будет даже солидных профессионалов, таких как Чеслав Милош, или Кундера, или Умберто Эко…
Когда в 1988–1989 годах я написал, что «демократия» (имелось в виду типовое западное общество: французское, немецкое, американское и их совокупность) не может более генерировать культурных гениев (а значит — культуру), я все же втайне надеялся, что может. В конце концов, вокруг меня, в те именно годы жили и работали талантливейшие французские писатели и журналисты — коллектив газеты «L'Idiot International». Нас была целая мощная группа, человек тридцать во главе со Стариком — Vieux — Жан-Эдерн Аллиером. Патрик Бессон, Марк Эдуард Наб, Морган Спортес, Шарль Дантциг, Кристиан Лаборд, Бенуа Дютерт, Марк Коэн, Жан-Поль Круз, знаменитый новый правый философ Ален де Бенуа, Мишель Уэльбек — всех не перечислить. Сегодня все эти люди — известные писатели, лауреаты всяческих премий. Мишель Уэльбек стал недавно лауреатом Гонкуровской премии, он — модный писатель, он был самым младшим из нас. Я лично считал самыми талантливыми из нас Старика Аллиера, Бессона, Спортеса, Наба. Однако спустя десятилетие, увы, ни ядовитый Марк Эдуард Наб, блестяще дебютировавший «Марсельезой», ни трудоголик, остроумный журналист и твердой руки романист Бессон — никто из них не находится и на полпути к величию. Ни один не сумел создать те несколько фундаментальных культовых книг, по которым узнается гений. Ибо «властитель дум» — часто даже не самый лучший профессионал своего времени, но это всегда тип, играющий на больных струнах психики общества. Мои товарищи по коллективу «L'Idiot» доказали всего лишь, что они отличные писатели, и только. Между тем, именно Франция всегда была той тонкой и умной страной, где ВСЕГДА зажигали какой-то огонь для остального человечества: один, два огня — горели там. Сейчас — мрак.
К России в этом смысле меньше претензий. Чуть ли не весь XX век она была отрезана от остального культурного мира, и ее сегодняшние «творцы» — это беспомощные бедняги, которые просто не понимают современности. У нас даже читателей нормальных мало, откуда взяться современным писателям? Потому я не могу использовать вместо Жан-Эдерна Аллиера, Патрика Бессона или Марка Эдуарда Наба примеры русских писателей с русскими фамилиями. Но Франция! Но мои очень и очень талантливые, умные товарищи! Почему?
Полагаю, проблема не столько в них: нет некоей нужды, нет нужной напряженности в социальном климате Франции (по крайней мере, ее нет в климате того социального слоя, в котором живут авторы «L'Idiot»), чтобы дать моим товарищам по «L'Idiot» решимость на величие. (Чуть дальше я объясню эту несколько загадочную фразу.) Старик Жан-Эдерн, тот хотя бы посягал на особую позицию. Дитя своего времени, он бунтовал со студентами в 1968-м и ездил к Пол Поту в только что занятый «красными кхмерами» Пномпень. Старше всех нас, он основал «L'Idiot» в 1973 году вместе с Великим (ну, возможно, не столь Великим, как казалось, но культурным героем) Сартром и Симоной де Бовуар. Жан-Эдерн конкретно знал, что Великие были, он их видел, общался, жил рядом. Жан-Эдерн написал два десятка демагогических публицистических, суетных светских модных книг, в которых были претензии на величие, посягательство было. Страницы последних его книг очень хороши. Какие-то из них. Но полемист, позер и бонвиван все же пересиливает в нем величие. Если представить труд каждого Властителя Дум как собрание сочинений, то вот первые и последние тома у Vieux есть, однако отсутствуют основные, серединные, зрелые.
Из коллектива «L'Idiot» ближе всех к особой позиции по отношению к обществу (в его случае — презрения и высокомерия) стоял Марк Эдуард Наб, в его «Дневниках», шикарно изданных издательством «Rocher». Но за декларируемым им высокомерием не было права на высокомерие, не было культовых книг. Потому Наб был несколько смешон. Себялюбивый начитанный модник.
Что такое властитель дум, он же культурный герой, он же культовая фигура? Что общего между уже упомянутыми Селином, Мисимой, Жене, Пазолини, Берроузом? 1) Наличие культовых книг, в которых неистово и мощно выражено особое мировоззрение, яркий, самостоятельный и оригинальный взгляд на мир. 2) Конфликт между писателем (творцом) и обществом, выражающийся в столкновении особой социальной позиции автора (выраженной в текстах его книг, но зачастую также в журналистских статьях, а более всего в социальном поведении автора) с банальной социальной позицией общества. 3) Как следствие двух первых компонентов, имеющихся в наличии, неизбежен и результат конфликта — трагическая судьба, трагический эпизод судьбы культурного героя. Селин в датской тюрьме, приговоренный к смерти, и последующие годы остракизма его во Франции; эпизод неудавшегося захвата Генерального штаба японской армии, приведший в ноябре 1970 года к сепукку Мисимы; трагическая жизнь и смерть Жана Жене, в последнее десятилетие его бойкотировало общество за поддержку палестинцев, «черных пантер», «банды Баадера»; зверское убийство Пазолини одним из его героев; Берроуз вечно на обочине, в маргинальности в родных Соединенных Штатах, более известный в Европе, чем на родине, в Америке; алкоголизм и затворничество и в конце концов самоубийство Дебора. Такова плата за гениальность и за противостояние обществу.
Теперь попробую ответить на вопрос, почему не получилось ни единого maitre a pensée из самой талантливой литературной группы, работавшей во Франции десять лет тому назад, из редакции «L'Idiot».
Политическая новая позиция была в стадии формирования: в редакции терлись боками крайне левые и крайне правые. Уже одно это обстоятельство делало нас уникальными. У нас была конфликтная социальная позиция. Изначально.
Однако когда нас стали затаптывать летом 1993 года, когда возник у нас уже не просто интеллектуальный конфликт с французским обществом, а возникла проблема выживания, мои товарищи, те из них, кто проходил главными обвиняемыми вместе со мной: писатель Жан-Эдерн Аллиер, журналисты Жан-Поль Круз и Марк Коэн, философ Ален де Бенуа,— свои конфликты испуганно затушили, в то время как я свой раздул, усугубил, рецидивировал множество раз в Сербии и России. (И в конце концов очутился в тюрьме.) Мой конфликт был не только интеллектуальным, это был и жизненный, физический конфликт. Ангажированный, я занял физически сторону последних политически некорректных сил Европы: Сербии, крайних право/левых сил во Франции, националистов в России — и стал, в конце концов во главе идеологии национал-большевизма. Что разъярило западных и российских черносотенцев от политкорректности. В процессе конфликта я написал откровенно конфликтные, неполиткорректные книги: «Дисциплинарный санаторий», «Убийство часового», «Анатомия Героя». Две из них успели выйти во Франции по-французски: «Le Grand Hospice Occidental» и «La Sentinelle assassinée» — и ухудшили мою, и без того чудовищную репутацию. «Анатомия Героя», изданная по-русски в 1998 году, оказала сильное влияние на офицеров ФСБ, которые меня арестовывали, и на тех, кто впоследствии проводил следствие.
Безусловно, что и все мои книги, опубликованные до этого, начиная с «Это я, Эдичка» были конфликтными. Но в них еще были частные конфликты: Русский поэт — Америка, неудачник — Америка, подросток Савенко — Харьков. Это были заведомо бунтарские книги. Таких бунтарских книг у моих (более молодых, но начавших писательскую карьеру раньше, чем я) французских сотоварищей по «L'Idiot» в их послужных списках у каждого не значилось. У них значились остроумные, хлесткие, талантливые, живые романы, но не книги личной трагедии. Патрик Бессон, сын югославской матери и французского отца, едва за 30 лет был уже автором полутора десятков романов, почти живым классиком. Мы вместе издавались в издательстве «Albin-Michel». Более того, Бессон числился в попутчиках тогда еще могущественной Французской компартии, и его журналистские книги выходили в издательстве ФКП «Мессидор». Патрик был агрессивным, хлестким молодым человеком, его статьи в «L'Idiot» были для меня примером сатиры и злого языка. Бессон счастливо сочетал в себе насмешника-журналиста, легкого политического оппозиционера и нравящегося обществу романиста. Он получил все возможные премии, кроме разве что Гонкуровской, которая ему почему-то не давалась. Но почему, почему он не стал maître a pensée? Ответ можно попытаться сформулировать. В том, что Бессон писал, он не доходил до трагедии, до некрасивости. Ему не хватает глубины. Его романы были слишком уютными конструкциями. В них было мало черного цвета. А его политические взгляды не были ожесточенными. (Я тут употребляю прошедшее время, ибо последние годы не слежу за его творчеством.)
Может ли существовать сегодня Великий писатель, живущий в ладу с обществом? То есть просто писатель, просто профессионал? Нет, не может. Ему не о чем будет писать. То, что он будет производить, не будет затрагивать читателя. Сто и даже пятьдесят лет назад еще возможны были судебные процессы общества против якобы безнравственных книг. Моего первого французского издателя Жан-Жака Повера (Jean-Jacques Pauvert) в 1957 году судили за публикацию Собрания сочинений де Сада. В 60-х состоялся процесс над издателями «Любовника леди Чаттерлей». Сегодня общество Запада практически стало обществом вседозволенности в области личных отношений. Конфликт неверной жены Эммы Бовари, леди Чаттерлей или Анны Карениной не есть сегодня конфликт. Это мелкий эпизод личных отношений. Все личные проблемы давно не трогают читателя. Гомосексуализм? Были тонны книг по этой проблеме. Смерть от AIDS? Были тонны книг. Инцест? Тонны книг. После Фрейда и Ромео и Джульетта понятны. Писатель, углубившийся только в проблемы морали и нравственности, не может стать властителем дум. А вот фашист Ромео с кусками динамита против государства — это всегда азартная тема. Я хочу сказать, что Великим литературным конфликтом в наше время может быть только конфликт межобщественных сил, человека и общества. Потому писатель сегодня обречен быть философом, социологом и этим самым Ромео с куском динамита. Только тогда он будет властвовать над думами, или, переводя с французского буквально, будет «учителем мысли».
Ну и, конечно, роман сам по себе выродился в неконфликтный жанр, реакционный жанр. (А буржуазным он и был, появившись на свет именно в эпоху становления буржуазии во Франции и в Англии.) Роман — это жанр констатации, это принятие общества каким оно есть. Нероман трудно принимается издателями во всем мире. Марк Эдуард Наб загипнотизировал своего издателя Жан-Поля Бертрана, чтобы тот публиковал его «Дневники», в то время когда Набу было всего лет тридцать! Других таких примеров я не знаю.
Дети общества куда более развитого и, таким образом, менее конфликтного, чем российское, французские писатели (даже такого уникального направления, как собравшиеся вокруг «L'Idiot International») склонны были и в творчестве и в жизни если не избегать конфликтов, то минимизировать их. Не следует забывать, что в те годы, когда я жил во Франции, там был моден и вовсю проповедовался consensus. В то время как я гордился конфликтами как наградами.
Традиционно властитель дум, культурный герой, культовая фигура искусства — человек конфликта par excellence, человек скандала. Упомянутые мною Селин (правые книги, связь с фашистами), Мисима (националист, монархист, самоубийство), Жене (вор, гений, поддерживающий палестинцев, «черных пантер», террористов RAF), Пазолини (культовый страшный режиссер «Сало, или 120 дней Содома», попутчик компартии) и другие были ненавидимы частью общества и обожаемы другой частью. Их мнения вызывали споры и кипение страстей. (Чтобы это произошло, мнения должны быть крайними, экстремальными.) Если не все из последних maitres a pensée были врагами общества, то в минимальном случае были его яростными оппонентами, как Пазолини и Берроуз.
В конце 60-х — начале 70-х в Европу и ее space-колонии (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Израиль) пришло великое благосостояние. Изобилие, обилие благ радикальным образом изменило характер западного общества. Об этом я написал книгу «Дисциплинарный санаторий». Современному обществу consensus больше не нужны ни революционеры, ни оппоненты. И в первую очередь не нужны и вредны Учителя революционности и оппозиционности. Ибо если общество достигло Блаженства, то зачем же его разрушать, да еще и учить разрушать. Роль независимого морального арбитра, которую обыкновенно выполняли в обществе недосягаемые гении, великие писатели, эту роль сурового критика общество больше не хочет, чтобы кто-либо впредь исполнял. Должность непредвзятого морального арбитра, комментирующего общество, упразднена за ненадобностью. Если проблемы в обществе решаются бесконфликтно, примирением (на самом деле они не решаются, а игнорируются), то, значит, нет и спроса на конфликтных индивидуумов. Великих людей нет, потому что на них нет спроса. Потому они не формируются. Они потенциально рождаются, но не востребованы. Великий Человек как редкая профессия на рынке труда не котируется. Раз нету востребованности на такую профессию, она исчезла, ей не учатся более. Нужно быть исключительно сильным, иррациональным, безумным человеком, чтобы вопреки всем социальным «нет», «не требуется», «не нужны» приготовить себя к величию и стать Великим. Сколько, интересно, Лениных или Ганди остановило в начале пути телевидение своей бесконфликтностью? Но возвратимся к культурным гениям.
Конфликтная, трагическая, требующая от человечества бесконечной гонки и изменения, деятельная, мыслящая — такая культура нынче не нужна. Функции же обслуживания общества легкими литературными, музыкальными, визуальными грезами — легкие развлекательные функции — вполне выполняет цивилизация. Нужны песенки — пожалуйста, в каждой стране есть сотни средненьких авторов и исполнителей. Каждый сезон они выбрасывают на рынок свою одноразовую продукцию. Она служит один сезон и выбрасывается в следующем сезоне. Нужно убить время в вагоне железной дороги, в кабинете у дантиста или в приемной чиновника — существуют сотни авторов, записывающих такого рода тексты для залов ожидания: детективы, любовные романы. Культура — индивидуальна. Ее делает небольшая группа творцов. Ее делают 3–5 главных творцов, ну семь в самые богатые времена и еще 15–20 вокруг, ну до тридцати, помельче. Работают эти люди обыкновенно 1/3 века, не более. Резкой смены поколений культуры нет. Идет плавное перетекание одной группы в другую.
Цивилизация же массова. В цивилизации работают десятки тысяч. Если культура творит навсегда, то цивилизация производит продукты мгновенного, одноразового пользования. Символ цивилизации — это бумажная посуда, вымазанная обильно остатками пищи, которую вышвыривают в мусорный бак к вечеру… Вот так…
Моим французским друзьям к тому же не оставалось идеологической позиции, с устойчивой, солидной платформы которой можно было оппонировать существующей Системе. Если их предшественники сюрреалисты (Бретон, Элюар, Арагон) или Пикассо могли опереться, пошли к коммунистам, а такие культурные фигуры, как Селин или Дрио ла Рошель,— к фашистам, то ребятам из «L'Idiot» некуда было идти, не на что опереться, чтобы превозмочь индивидуальное бессилие. Левая идеология подвергалась атакам все 60-е и 70-е годы (в 1977 году ее активно атаковали «новые философы» во главе с Бернаром Анри Леви, опубликовавшим «Варварство с человеческим лицом»), а впоследствии рухнула вместе с СССР. Фашизм же — идеология очерненная и сама себя скомпрометировавшая — не был привлекателен. Ну совсем не был. К «лепенизму»— умеренному современному варианту крайне правой европейской идеологии — примкнули едва ли не единицы. Сотворение же своей идеологии — работа чудовищно тяжелая. Мы пытались сварить вместе две. Нам не дали. Нас разгромили.
Подведем итоги. Культура обществу более не нужна. Автор в ранге творца и указателя дороги не нужен. Якобы он вызывает слишком много проблем. Всегда существует к тому же опасность, что maitre может завести не туда. Индивидуальная критическая мировоззренческая позиция не нужна. Нужен автор в ранге производителя. Цивилизация не индивидуальна, она массова. Цивилизация безлична. Она производит продукты одноразового пользования. Вот таким мне представляется ответ на вопрос: почему перевелись Властители Дум?
Именно сейчас их нет. Но та ситуация, о которой я говорил, была. И продержалась лет тридцать. Так только что было, но уже не есть так. Мир вокруг сдвинулся одним рывком с точки кажущегося спокойствия, где он пребывал лет тридцать. Я вижу развалины Мирового торгового центра в Нью-Йорке, я вижу яростные толпы мусульман, я вижу флаги антиглобалистов. Им нужны новые maîtres a pensée. (Пока что они пользуются старыми, всеми сразу, как о том свидетельствует состав антиглобалистской коалиции.)
О себе: я безусловно культовый писатель. И безусловно властитель дум. (Ни о каком кокетстве в моем случае не может идти и речи. Тюрьма — подтверждение моей серьезности. Статьи, по которым меня обвиняют: создание незаконных вооруженных формирований и план вторжения на территорию сопредельного государства Казахстан,— не стыдно предъявить и Степану Разину.) Но я сформировался на таком сложном стыке исторических и культурных ситуаций, что я глубоко нетипичен, очень большое исключение, просто редкий мутант. И родился я в исторически культурно отсталой стране и формировался кособоко и привольно в диких условиях без запретов и самоограничений в культурно-социальном климате трех стран. У меня бывало ранее такое же впечатление порой, как у Ги Дебора, что я последний в своей расе. Очень надеюсь, что это не так. Я сумел унести из «L'Idiot» священный огонь, который раздул в газете «Лимонка», и там, меж ее страницами, я вижу — вон они, появляются великолепные осатанелые физиономии воспитанных мною новых варваров, Новые Беспрецедентные Полчища.
У них нет других отцов, кроме меня. На свои вопросы они получают ответы только у меня. Это и есть быть властителем дум. Властвовать думами. Вы, конечно, можете меня сгноить, но ваши дети, которых я воспитал, уроют вас. Это не ваши дети, но мои, я отобрал у вас ваших детей. Ибо вы недостойны.
Живущие в разные времена
В общей талантливости французы порою уступают другим нациям. Но в искусстве понимания у французов есть чему поучиться. Возможно, наследие картезианства (по имени философа Рене Декарта) объясняет их умение понимать. Не берусь судить, но несомненно французы умеют отлично разложить любую проблему по полочкам и таким образом понять ее. Живя в Paris, я посетил немало семинаров и искренне учился у моих французов. Русское образование — косное, оно как стоячее болото. Оно не учит понимать, это догматичное отгружение определенного продукта, самосвалов тупых, грубых знаний. А француз выходит перед аудиторией, говорит: вот я предлагаю следующие несколько тезисов для обсуждения,— и все дружно разбираются.
Ниже приводятся мои размышления, касающиеся феномена различного возраста социальной ментальности различных групп граждан в пределах одной страны. Феномена, когда, к примеру, в одной и той же большой стране столица живет в XXI веке, а некие далекие лесные районы лишь в начале ХХ-го. Дам для начала несколько примеров-посылок. В Соединенных Штатах города, расположенные по двум побережьям страны на East и West Coasts, прогрессивнее и несомненно живут в самом что ни на есть XXI веке. На East Coast — на Восточном побережье — доминирует конечно же огромный интеллектуальный и культурный центр Нью-Йорк City и такой, рафинированный когда-то, но затем превратившийся в реликтовый, город Бостон. Известно выражение «бостонские интеллектуалы», но оно устарело. Бостон не играет уже такой роли престижного центра Новой Англии, как некогда. Это скорее лишь центр WASPовских традиций. А бостонские интеллектуалы давно перекочевали в Нью-Йорк. На Западном берегу доминируют несомненно два города: более старый, более сдержанный, более элитарный Сан-Франциско и растянувшийся на 80 миль вдоль транскалифорнийского хайвэя супергород барачного типа, адский, вонючий Лос-Анжелес, напоминающий уже близкие здесь мексиканские города. Можно сказать, что лучшие интеллектуальные силы все размещены в этих трех форпостах культуры: N.Y., L.А. and Frisco. Нью-Йорк деловитее, холоднее, дистанционнее и эффективнее двух других центров. Иногда можно услышать, что Нью-Йорк — это продолжение Европы, перенесенное через Атлантику. L.А. и Frisco более расслабленные, более южные центры, также как и более молодые. Нью-Йорк, как «Нью-Йорк Таймс», имеет солидный исторический глянец и свой собственный двубортный шарм, свои институции театров на Бродвее и вне Бродвея и комплексный сгусток истории, политики и культуры. Однако Сан-Франциско уже успел дать американской культуре в историческое наследство небольшие культовые издательства вроде «City Lights» или «Sparrow Books», впервые озвучившие движение битников (Керуака, Гинзберга, Фермингети, Берроуза). А в конце 60-х Сан-Франциско стал родиной движения хиппи. Здесь в квартале Ashberry Hights бродили ее гуру и в мелких кооперативных магазинах продавали Кастанеду и крашеную вручную одежду. В Сан-Франциско же в районе Кастро-Стрит появилось первое в Америке гетто гомосексуалистов. Все три упомянутых города на двух побережьях двух океанов, Атлантического и Тихого, живут вровень со временем. В начале XXI века.
Между Восточным и Западным побережьем простирается собственно Америка. Вот эта Америка живет уже как придется, главным образом в середине XX века. Крупные ее города живут в основном где-то в начале 60-х годов XX века. В 60-х живут, например, Чикаго и индустриальные центры вокруг Великих Озер, такие как Детройт. Социальные идеи береговых Великих городов доходят в глубину Америки как свет далеких звезд. Дистанция исчисляется не в километрах, но в световых годах. В штате Миннесота, внутреннем, холодном, где с удовольствием поселилось множество скандинавов, повсюду разбросаны в городках и поселках коммюнити протестантских сект, в основном различные секты баптизма: меннониты, квакеры и еще более экзотические, от одних названий которых ломается язык. Они стараются жить без достижений цивилизации: без электричества, соответственно и без телевидения — и перемещаются на лошадях. Есть, однако, еще болота штата Луизиана, где живут одичавшие потомки французских колонизаторов, смешавшиеся с потомками африканских рабов и белых криминалов. У тех есть блага цивилизации: скоростные боты, скорострельные карабины. Но нравы сохраняются патриархально-маниакальными. Ксенофобия, то есть ненависть к чужакам, кланово-родовые зверские обычаи таковы, что вполне напоминают век XIX или, в крайнем случае, 1920-е годы. Есть совсем скотоводческие, Богом забытые каменистые штаты: Вайоминг, какая-нибудь Юта, Дакота или Нью-Мексико, где жалкие индейцы вместе с отбросами общества белых обитают, с трудом удерживаясь на рубеже XVIII и XIX веков, боясь скатиться в XVIII. (Ну, конечно, «ланд-роматы» есть и в Нью-Мексико.)
Урок Америки таков. Можно констатировать, что Большая страна никогда не живет вся в настоящем времени. Всегда есть группы населения, проживающие в прошлом, недалеком и даже глубоком прошлом. Различные группы, отставшие по тем или иным причинам (в основном территориальная удаленность от культурного центра (центров) страны) от основного времени — времени, в котором живет культура страны и ее основные институции, в том числе и правительство и средства массовой информации. То есть можно взять административную карту Соединенных Штатов и обозначить, в какую историческую эпоху живет та или иная территория. Станет ясна общая тенденция: глубинные, серединные штаты Соединенных Штатов Америки гораздо консервативнее, современные свежие идеи проникают туда медленнее. Два побережья Соединенных Штатов, Западное и Восточное, современнее и живут в XXI веке. Выясняется еще одна интересная особенность Соединенных Штатов: в больших супергородах и в малых городах на дворе разные исторические эпохи, будь эти малые городки даже столицами штатов. Если New-York City обитает в блистательном настоящем XXI веке, даже чуть высунувшись бушпритом в будущее (город, где был совершен первый теракт XXI века), то столица штата Нью-Йорк городок Олбани, это могут засвидетельствовать все, кто там побывал хоть раз, не подымается во времени выше какого-нибудь 1965 года. То же самое можно сказать о столице штата Калифорния, об абсолютно ничем не замечательном городке Сакраменто, полностью живущем в тени своих великих соседей Сан-Франциско и Лос-Анжелеса, но в 1965 году.
Государства среднего размера, такие как Англия, Франция или Германия, более однородны. Хотя, разумеется, жители больших мегаполисов-столиц всегда живут в блистательной огнедышащей современности, тогда как города — центры провинций отстают от них лет на 10–15, а сельские жители — на 20–40 лет. Скажем, во французских Пиренеях в горных городках часы остановились в 1960 году. А только что присоединившаяся десяток лет назад к большой Германии Восточная Германия отстает от своей большой Родины-сестры лет на 50, то есть живет где-то в 1950 году, сразу после войны. (Даже обилие неонацистов в бывшей ГДР указывает именно на это, для этой территории война кончилась лишь вчера.)
Да что там части (территории) государства, даже центр мегаполиса и окружающие его, связанные с ними метро или электропоездами окраины (кварталы-спутники, спальные городки, banlieu) живут в различные эпохи. Тут уместно будет задержаться на структуре французского города. Возьмем для примера Париж. Исторически и традиционно у этого города сложилась классическая вертикальная модель социума. В XIX веке и в первой половине XX века каждый многоэтажный многоквартирный парижский дом представлял собой в миниатюре модель французского общества. В цокольном этаже (в rez-de-chausse) обычно жила консьержка и помещались какие-нибудь службы или магазины. Выше на нескольких этажах размещались в обширных квартирах с высокими потолками зажиточные буржуа. Чем выше к крыше, тем потолки становились ниже, и жильцы были попроще. На каком-нибудь седьмом и восьмом обитали ремесленники и рабочие. Под самой крышей, крохотные, находились комнаты для прислуги буржуазных квартир, так называемые Chambres de bonnes. Туда после хлопотного рабочего дня прислуга подымалась спать. Впоследствии все чаще и чаще эти комнаты сдавали в наем иногородним студентам. При вертикальной классической модели французского социума, повторявшейся в десятках тысяч домов, представители различных социальных классов терлись друг о друга ежедневно, а что еще более важно — общались и росли вместе их дети, игравшие в одном дворе. Перегородки между классами существовали, но сохранялось свободное интерклассовое общение. Это была довольно здоровая модель общества, так как она уберегала общество от разделения на гетто (от геттоизации). И все общество жило в одном времени.
В последние десятилетия XX века классическая вертикальная модель французского города была сломана. Геттоизация совершилась в европейских городах даже только в XX веке несколько раз. Еще в 1960-е годы у обеспеченных семей среднего класса (то, что феодалы жили в замках, а миллионеры — в виллах и до этого, доказывать не приходится: ясно) появилась мода удаляться на жительство в богатые предместья городов, курсируя со службы и на службу ежедневно в автомобиле. Богачи и средний класс выселились на время из городов. Однако неудобства подобной жизни на колесах были очевидны, и где-то через десятилетие обеспеченные господа вернулись в города. (В многонациональной Америке национальные меньшинства всегда проявляли тенденцию селиться каждое в своем национальном гетто. И там обычно перебарывало и стояло, как тина на болоте, национальное время: китайское или итальянское, но эмигрантское, потому всегда отстающее и от страны исторической Родины, и от страны проживания. Наконец, центр города всегда был дороже, престижнее, и в нем все-таки закреплялись богатые в своем гетто. Над центром сияла современность.) Около 1980 года бурными темпами началась вдруг стремительная «джентрификация» (от слова gentry — того же корня, что и джентльмен) больших городов мира. В частности, после периодов финансового упадка в 70-х годах New-York City и Paris стали в 80-е стремительно расти и богатеть, применив одну и ту же схему. Городская земля застраивалась дорогими престижными домами, квартиры в которых были доступны только богатым. Под безжалостным финансовым давлением «джентрификации» все островки бедности, все гетто ликвидировались и бедные вышвыривались туда, где они способны оплатить rent, все дальше и дальше от центра, а затем и за пределы города. В последнее десятилетие XX века Paris был окружен кольцом все более и более бедных по мере удаления от города поселений, лабиринтом жилых построек, городков-спутников, переходящих друг в друга. Там вынужденно живут белые бедняки, соседствуя с арабами, черными, другими нацменьшинствами и с социально не преуспевшими индивидуумами, жертвами болезней, бывшими преступниками и просто неудачниками. Сегодня Paris находится в кольце этих злых поселений. Разумеется, в домах какого-нибудь Говна-Sur-Seine (Говна-на-Сене) царит действительность 1950-х годов — социальной неудовлетворенности, злобы, бедности, а главное чувства своей неполноценности, удаленности от цивилизации. Там бушует под пеплом будней пылающая магма страстей, и по всем социальным законам однажды она должна залить Париж. И ему подобные города. Banlieu называются эти места, то есть место (lieu), куда добираются на ban — по железной дороге. Ban привозит по субботам в Париж варваров. Подобная же ситуация сложилась и в Манхэттене, в центре Нью-Йорка, где нечего и думать поселиться бедняку (начинающему писателю, предположим. Мой герой Эдичка жил в центре Нью-Йорк Сити, но в 1976 году — в период депрессии города).
Вот теперь, вооруженные этими наблюдениями и концепциями, давайте поглядим на Россию. У нас есть две столицы, обе претендующие на роль культурных и исторических центров: города Москва и Санкт-Петербург. Если Белый дом, улица Тверская и еще ряд районов Москвы живут в XXI веке, то Санкт-Петербург добрался до семидесятых. (Санкт-Петербург годится на роль столицы более, чем Москва. Несмотря на наличие в Москве Кремля. Питер — державный город, и только на Дворцовой площади можно почувствовать русское государство — абсолютизм, похожий на французский. И только на Дворцовой возможно принимать парады.) Помимо этого есть несколько крупных областных городов: Екатеринбург, Красноярск, Ростов-на-Дону в первую очередь, где тихо и спокойно, как в Чикаго, торжествуют 60-е годы, даже замахиваясь на начало 70-х. Подавляющее же большинство областных городов тихо кемарят на рубеже 59-го и 60 года. Мелкие же городки (среди них есть и областные, самые зачуханные) прозябают в варварстве послевоенном, в дикости нравов, в милицейском провинциальном палачестве, увязли в своей картошке и грязи. А уж что творится в деревнях, особенно в далеких от центров цивилизации! Там XVII век! Телерепортаж Марины Добровольской, журналистки из г.Красноярска, заснят в глуби Красноярского края: чудовищная история о девушке, посаженной матерью на цепь, изнасилованной пьяными гостями, обморозившей конечности, ампутированной, матерью ребенка, также сидевшего на цепи,— чудовищное свидетельство царящих на окраине нашей державы нравов. (Телевидение, о боже мой, конечно соединяет, как и железная дорога, Россию узами нравственно-психологических коллизий. Но это нравственность передач «Криминал» и «Дорожный патруль»!)
Получается, что в одно время географически на территориальном пространстве одной страны проживают группы людей различных исторических эпох. Да. И эти группы крайне устойчивы. Несмотря на единообразное образование в советских школах, на одни и те же книги в библиотеках, на те же программы радио и телевидения, большинство граждан России несовременны. Помимо уже упоминавшейся нами удаленности от культурных центров, а в России с ее пространствами это хроническая удаленность, несовременность объясняется и другими важными факторами. Так безусловно она усугубляется принадлежностью к старшим возрастным группам. Так предсказуемо несовременны пенсионеры. Есть социальные классы более несовременные, чем другие. Разнорабочие конечно же всегда будут отставать в современности от профессоров. Хотя, конечно, средний советский профессор на многие световые годы отстает по современности от своего французского или английского коллеги. Безусловно, православие куда более дряхлая, несовременная и социально неинтересная, нединамичная религия, чем католицизм и даже чем мусульманская религия.
Если несовременность, отсталость от основного mainstream (течения) цивилизации можно называть в просторечии «деревенскость», то большая часть россиян — деревенские ребята, несмотря на кожаные куртки и джинсы западного покроя, пиджаки и даже галстуки, их представления о мире — это представления неразвитых людей. В последние несколько десятилетий советской власти в России успела сформироваться своя мелкобуржуазная свинская субцивилизация на основе популярных бытовых фильмов, «Бриллиантовая рука» какая-нибудь или «Иван Васильевич меняет профессию», где герои кидаются черной икрой и осетрами под довольный хохот зала. А главные герои — управдом и жулик. (Ну, скажем, для сравнения, фашизм, а потом Третий рейх сформировались на базе опер Вагнера, а советизм — на базе исторической мифологии типа «Броненосца Потемкина».)
Россияне уже пятнадцать лет смотрят ежевечерне фильмы мирового кино, в том числе и новейшие, но понимают их как-то по-своему. Я, например, заметил, что мои несколько сокамерников, сменившихся за время пребывания за решеткой, смеются в тех местах фильмов, где совсем не смешно. Вряд ли тут дело во мне, или в отсутствии у меня чувства юмора, или в присутствии у меня чувства юмора, разительно отличающегося от других. Дело в том, что у нас разные глаза, мы видим разное, я и они.
К чему ведет несовременность сознания, отсталость по исторической фазе? Ну, в случае истории девушки на цепи в Красноярском крае мы видим, что к обыкновенной средневековой жестокости. (Среди посещавших далекую заимку был и милицейский чин — приезжал охотиться.) Для государственных деятелей, для аналитиков несовременность — это автоматически непонимание современного мира и как следствие — тяжелые ошибки во внешней и внутренней политике государств, ведущие к столкновениям наций, к краху государств. Простого человека его несовременное сознание запросто ведет к беспомощной слепоте. Вместо многообразия конфликтов, борьбы множественных интересов он видит мир, где за каждым кустом притаился жид, или масон, или коммунист, или демократ — как причина всех зол. В России даже антисемитизм дряхлый, образца конца XIX века, времен дела Бейлиса. Несовременность мировоззрения русского человека ведет к тому, что общество не может распознать своих реальных врагов. В конечном счете междоусобица и поражение ждут несовременный деревенский народ, он будет махаться топором с призраками. Вообще нет зрелища более печального, чем непонимающий народ. Такой народ глуп, как стадо коров.
Быть современным в данном случае имеется в виду не требование надевать желтый пиджак, если в желтых ходит Европа, или ездить только в иномарке, как раз таких современных индивидуумов в России достаточно. Речь идет о развитом понимании мира, о свежей здоровой морали, чуждой любых предрассудков, о здравом понимании факта, что человек — временное воинственное животное, и, собравшись волею случая в храбрые и менее храбрые группы, он воюет на сцене Истории. Приблизительно так!
Что можно добавить к сказанному? Что парадоксально близко порою существуют бок о бок миры, разделенные и временем и качеством жизни, радикально противоположные друг другу. Так на 5-й авеню у 93-й стрит в Нью-Йорке закончила жизнь Жаклин Онассис — вдова президента Кеннеди. Уже через 17 коротких блоков домов, в каких-нибудь десяти минутах ходьбы, на уровне 110-й стрит, заканчивается Централ Парк и начинается Гарлем. Мир богатых сливок нью-йоркского общества (на 5-й авеню вплоть до 100-й улицы редкий дом обходится без швейцара с галунами) и мир негритянского гетто сосуществовали бок о бок. Говорят, жадные руки риэлтеров добрались сейчас и до Гарлема, и его, как сыр, подгрызают с краев новостройки, но уверен, подобная ситуация готова образоваться заново где угодно.
Что еще можно добавить? Всякая страна развивается, точнее лучше говорить не о развитии, а о метаморфозах — видоизменяется, преобразуется с разными внутренними скоростями. Иметь современное сознание стоит денег или предполагает наличие ясного понимания, потому первыми захватывают себе современное сознание имеющие знание и имеющие деньги — интеллектуалы и богачи. Все другие, бедные или провинциалы, отстают. Потому в одно и то же время в каждой отдельно взятой стране сосуществуют исторически разные общества. Одно, небольшое, малонаселенное, современное, и множество прошлых. Какую выгоду может извлечь из этого обстоятельства политик? Возможно предположить, что все или часть общественных противоречий происходит по вине столкновений этих различных сознаний между собой. Сколько сознаний столкнулось в России с февраля по октябрь 1917 года, вспомните! Победило самое современное сознание. Резонно предположить, что самое современное сознание побеждает всегда.
Портрет Мэри Шелли, написанный для Настеньки
Творения лорда Байрона сегодня читать невозможно. Тяжеловесные тома «Корсара», «Дон Жуана» или «Путешествия Чайльд-Гарольда» неизменно склоняют ко сну даже самых неуклонных пуристов, желающих претерпеть всевозможные муки ради того, чтобы бросить где-нибудь в «высшем» обществе: «А вот в песне 17-й в «Чайльд-Гарольде», которого я, кстати, читал в подлиннике, Байрон говорит…» Произведения лорда полны непонятных уже современникам намеков, местной полемики и нудного описания пейзажей, которые все средней цены видеокамера покажет за полминуты. Короче, произведения невыносимо устарели, а вот яркая биография лорда-бунтаря, честного плейбоя и мецената, развратника и гуляки, поехавшего в конце концов помогать восставшим против турок грекам и скончавшегося нелепо от малярии в городке Миссолунги,— биография блистает во всей красе, еще и подчеркнутая временем. В пестрой жизни Байрона есть эпизод, когда поэт Перси Биши Шелли гостит у Байрона вместе с женой Мэри. Согласно легенде, да и реальные факты не противоречат этой версии, именно во время совместного визита в Италию к Джорджу Гордону лорду Байрону Мэри Шелли и написала свое знаменитое произведение — книгу о монстре, собранном из частей человека, о Франкенстайне. Точнее, это ученого — творца монстра звали Виктор Франкенстайн, ну и логически, что собственное его, сшитое из кусков человека дитя его, взрослого монстра, стали называть по фамилии родителя — Франкенстайн. Последние по времени критические биографии Байрона утверждают, что Мэри создавала свой шедевр, а заодно создала и жанр романа о монстрах, в то самое время, как ее муж нежный поэт Шелли предавался греху мужеложества в объятиях Джорджа Гордона. Возможно, так и было, Байрон имел уже у современников славу разнузданного человека, с удовольствием предававшегося разнообразным грехам и находившего особое удовольствие в их разнообразии. Возможно, так не было. Но скорее всего было. Перси Биши Шелли прожил совсем недолго, вскоре утонул, и свидетельств о своей преступной связи не оставил. Мэри же употребила время, использованное двумя ловеласами для взаимного растления, не всуе, а создала книгу будущего. В то время как произведения двух подлых мужиков все более забываются, слава Мэри Шелли разгорается все ярче. Франкенстайн широко экранизирован, можно сказать во вселенских масштабах. Сюжет романа начала XIX века стал излюбленным сценарием кинематографистов-фантастов. Франкенстайн — это классика. Так что грех мужеложества в этом случае посрамлен историей, а женскому творчеству поется Аллилуйя и осанна с сотен целлулоидных фильмов.
Один из первых фильмов о Франкенстайне, тот самый, где актер Борис Карлофф, громоздкий, бродит в пиджачке не по росту с короткими рукавами, и трогательно свисают его здоровенные кисти рук как у второгодника, кажется мне самым оригинальным. Там есть кадр, когда наконец наступает ночь и ученый Виктор Франкенстайн отгибает всевозможные рубильники, дымятся всякие приборы, электрические зигзагообразные искры и молнии исходят и входят в тело и преступный мозг воскрешаемого. Ну, конечно, техника того времени была смешновата. И то, что избрана для отжатия рубильников классическая грозовая ночь — это наследие истертого романтизма, какого-нибудь замшелого Шиллера. И Виктор Франкенстайн, такой свеженький ученый с нарисованными глазками, корчит гримасы, привычные по немым фильмам. Но если остановиться и подумать… Если подумать — бедная Мэри нацелилась высоко, поставила планку черт знает как высоко. Воскрешение! Не больше не меньше, вот ее сюжет, взятый в работу. Воскрешение! Доказательство божественной природы! Воскрешение — сюжет сотен тысяч картин и икон сквозь века. Кстати, в романе Мэри Франкенстайн-монстр не такой уж и злодей и даже вовсе нет, он — жертва, скорее, этих неблагонадежных экспериментов тщеславного и безумного доктора. Но какая тема, каков выбор, браво, Мэри! Пока два романтических поэта трутся друг о друга, овечка Мэри решает такую задачу! Такую задачу! Воскрешение! Не больше не меньше! И это всего лишь навсего (точную дату создания романа не помню, но Байрон преставился к Престолу Господню, если не ошибаюсь, в 1821 году; то Мэри пишет своего Франкенстайна где-то в 1815 или 1817 году!) — всего лишь навсего начало XIX века. Еще даже нет романов Бальзака! Почти два века тому назад, 185 лет тому назад, скрестив девственные ножки в белых чулочках под домашним платьем, убрав свои волосы вверх, кроткая Мэри пишет гусиным пером о докторе, создавшем человека из мертвых запчастей и воскресившем его к жизни, пропустив зигзаг молнии через начинку его черепа. Большое окно приоткрыто. В большом окне колышутся лавровые парковые кусты Италии. Виден торс ложноклассической статуи в зарослях. Это дискобол. Собирается дождь. Пахнет лимоном, свежей цедрой зелени. Поскрипывает гусиное перо, черной сталью отливают застывшие на дорогой бумаге Байрона строки, Мэри трет ножку о ножку… Вдруг грохот наверху, это обрушился под двумя ловеласами диван! Они, упоенные собой, два мерзких англичанина, даже и тени предвидения не имеют по поводу того, что Мэри их обскачет, обскакивает сейчас… Пока они грешат, нервничая, поглядывая на потолок, легко касаясь живота и паха, покусывая рыжее перо, Мэри пишет именно сейчас бессмертное произведение, которое спустя века будет раздражать оболочки глазного яблока миллионов европейцев и миллиардов мексиканцев, индийцев, китайцев, египтян и жечь их души. Ибо ничего так не жаждет человек, ни на что так втайне не надеется, как на возможность воскрешения, через машины, да хоть через мясорубку, чтоб потом встать и пойти со швами на лбу. Тяжело, голые кисти как у второгодника или лапчатого гуся свисают…
Милая, кроткая жена гения встала и пошла пописать, так как начался дождь. В дождь всегда хочется писать. Голая плоть отвлекла ее на некоторое время. Недаром в женских монастырях послушниц обязывали одеваться чрезвычайно быстро, дабы не смущаться своей голой плотью и не смущать ею других. Некоторое время Мэри занималась собой. Вернулась в рабочую комнату и приняла ту же позу…
До появления кинематографа произведение, созданное Мэри Шелли в те тревожные для нее дни в Италии, числилось среди странных созданий человеческого гения, и только. Полное удовлетворение ее ревность получила во многочисленных экранизациях ее странного романа. Всякий раз приборы, которыми воспользовался доктор Виктор Франкенстайн для воскрешения сшитого им из кусков различных тел монстра, менялись в соответствии с эпохой, в которую создавался фильм. Простые сильные пружины с неведомыми никому набалдашниками (то есть неведомо, какую роль они играют, разве что дымятся), стеклянные банки с мотками толстой проволоки внутри превращались в высокие грозные трансформаторы. Модернизировались. Появились всяческие манометры, барометры и осциллографы с мечущимися стрелками. Стрелки — это было шикарно! Движение стрелок помогало нагнетать температуру чувств в зрителе. Напряженку подымали и тем, что стрелка долго подбиралась и затем изматывающе билась у красной черты или квадрата. И зал бился в пароксизме ожидания. Но монстр лежал и не оживал. Следовал наезд крупного плана на низкий лоб, грубо подшитый к скальпу железной проволокой. (Да, Настенька, нам бы такую проволоку на лбы!) Без молний, прямых, синих или фиолетовых, обойтись было нельзя. Они жужжали и зудели как граверные аппараты, как дикие бормашины: жжжзззжжж-ззз. И у монстра дрожали веки, и зал дрожал вместе с веками. И у зрителей рот наполнялся кислинкой электрического тока. Потому что электрический ток — кислый, кто пробовал — знает… Зал был в тревоге, о, в какой тревоге был всегда зал!..
Только еще один фильм вызывал столь же высокую тревогу. Речь идет о шедевре «Доктор Джекил и мистер Хайд». Момент, когда благородный профессор Джекил, звезда науки, булькая выпивает из пробирки смесь шипучую и превращается — вот ломаются кости, и кровь стынет в жилах — в полную и неблагородную свою противоположность, в мистера Хайда, ключевой в фильме. Он показан несколько раз, и всякий раз по-королевски впечатляет. Фрейдовская притча о сознании и подсознании — опять-таки сюжет о втором «я», достойный встать рядом с сюжетом о воскрешении. И во «Франкенстайне» и в «Докторе Джакиле и мистере Хайде», прошу заметить, взяты грандиозные сюжеты, просто колоссальной тяжести. И решены они очень успешно. В обоих случаях. Вес взят. Мэри Шелли слабенькими ручками подымает вес воскрешения. Она современнее и талантливее ловеласов наверху на два столетия. (Она похожа на тебя, Настенька!)
А приборы, как и мимика актеров, выполняют в фильмах функции актерские. Мне, признаюсь, всегда нравились научные и технические приборы. Стрелки, генераторы, аккумуляторы, оживляторы (те, что оживляют монстров), ускорители молний, гонятели зигзагов. Лучше всего и научнее всего смотрятся бесфутлярные приборы: скажем, массивные катушки очень толстого оголенного медного провода или старого типа шишкообразные фарфоровые изоляторы (когда-то такие можно было увидеть на телеграфных столбах всей России). Заря научного вторжения в мир выглядела более впечатляюще, приборы были громоздки, открыты, впечатляли весом, размерами, мощью. Компьютер в серой упаковке менее впечатляет, чем первые электрические приборы.
Вот что может совершить маленькая Мэри Шелли, беленькая, как ты,— видишь, Настенька…
Культура кладбищ
Я не видел профессора Ольгу Матич долгие годы. В середине 90-х она стала появляться в Москве. Приехала в 95-м в шляпе из твердой соломки, длинные волосы, разумеется не помолодевшая, так как она моего возраста; не помолодевшая, но твердо овладевшая плацдармом возраста. Что я имею в виду, поясню на образном примере. Тебя сбрасывают на гнусное плато, где холодно, сыро, мерзко, дует ветер. Над головой шныряют страшные птицы, и сорваться с плато легче легкого. Кроме этого, в открытую расхаживают там у тебя за плечами всякие болезни, несчастные случаи, свистят и пули. А плато это называется «последняя треть твоей жизни» — от 60 до 90. Ну, слабые там вообще цепенеют и вскоре вымирают от болезни сердца. Такие, как Ольга, ведут себя как десантники: закрепляются и начинают жить. В этих новых условиях. Овладевают обстановкой, изгоняют страшных птиц, держат в подчинении болезни, уворачиваются от пуль.
Мы всегда с Ольгой друг друга уважали. Когда я с ней познакомился, у нее был черный любовник, что свидетельствовало по меньшей мере о ее храбрости. Он ворвался в мексиканский ресторан, где мы с Ольгой ужинали, и устроил скандал. Стоило больших трудов убедить его, что мы с Ольгой — друзья. Да и трудно представить нас с Ольгой в постели, настолько мы два сапога пара. Это должно быть столь же противное и экстравагантное зрелище, как спаривание двух морских пехотинцев или нет, круче — двух талибов.
Первый визит Ольги застал меня не в лучшей форме. Летом 95-го я переживал разрыв с Натальей Медведевой, но я держался. Ольга Наташу знала по L.А., мы как-то даже провели с Наташей в ольгиной постели в Санта-Монике одну ночь. Обычно Ольга никому не доверяла свою постель — мне доверила. Во время происшествия с постелью Ольга уже жениховствовала с Аликом Жолковским, также профессором, моим приятелем еще с московских времен, он уже тогда изучал мое творчество. Выяснилось, что с Аликом Ольга рассталась. Мы сидели пили ее джин, его принесла в початой литровой бутыли Ольга. Мы вспомнили ее приезд ко мне в Paris с дочкой Асей, это было или в 1980-м или в 1981 году, вот не помню, скорее в 1980-м. Они тогда останавливались у меня: в моей первой квартире-студио на rue des Archives. Удобств в студио не было, но был камин, мы выпивали, сидя у камина, ночью гуляли у Нотре-Дам и бросили в Сену бутылку из-под шампанского с запиской. Ася была наглая, высокая, породистая девица 17 лет. Она мне нравилась. Увы, асина записка заплыла куда-то в плохие воды. Она страдает тяжелейшей редкой болезнью и еле уворачивается порой от ее ударов. Пока уворачивается.
Выпив 2/3 имеющегося джина, мы перешли из прошлого в настоящее. Я рассказал ей, что выпускаю уже год газету, основал политическую партию. Оказалось, что она занимается… кладбищами. Что она готовит к печати книгу о бандитских захоронениях в России. Что она ездила на бандитские кладбища по всей России, в том числе и в Екатеринбург. Что она серьезно изучает и фотографирует памятники бандитам. Что поначалу ей не доверяли, но постепенно родители, ухаживающие за могилами, смотрители кладбищ и могилокопатели стали относиться к ней как к своей, приглашают к столу и охотно рассказывают ей истории захоронений. Ольга остановилась и объяснила, что русская литература и русские писатели ее окончательно заебали.
— И Вася?— ехидно осведомился я, не преминув тем самым уколоть ее. В свое время у нее был роман с никогда не уважавшимся мною писателем Василием Аксеновым.
— И Вася,— согласилась она.— Вообще русские писатели.— Потому она решила освежить свою жизнь кладбищами.
— Да-а-а,— одобрил я.— Круто. Завидую. Вообще-то это моя тема.
— Вообще-то твоя, Эдик,— сказала она ехидно,— но тебе теперь меня не догнать. Я уже проделала значительную работу, а так как у меня есть профессиональные навыки работы с материалом…
Я стал смеяться.
— Помнишь, как Жолковский читал в Корнельском университете лекции с экзотическими сюжетами? «Тема окна в поэзии Пастернака…»
— А что? Я многому у Алика научилась. Например, мыслить нестандартно.
— На этой его лекции о теме окна я познакомился с Нобелевским лауреатом Роальдом Хоффманом. Помнишь, ученый, который сумел сжать молекулу угля до такой степени, что стало возможным по его методу производить промышленные алмазы. Хоффман позднее опекал меня, присылал книги, много раз приезжал в Париж…
— Кладбища — тема не хуже окон,— заметила Ольга.— Налей!
— Главное, всегда актуальная,— одобрил я.— А тебя, конечно, принимают за вдребезги отмороженную… Ты, кстати, говоришь им, что ты американка?
— Угу,— она закусила торт.— Ограбить не пытаются, но тем не менее, напоив, пытаются соблазнить.
— Захватывающая жизнь для внучки белого офицера, правнучки знаменитого Шульгина, американской профессорши…
— Я теперь в Беркли обитаю, ты знаешь, Эдик?
— Нет, откуда.
— В Беркли. Лос-Анджелес надоел. Там я была молодая, не хер мне там делать. Дружу в Беркли с Карлинским, он тебе привет передает…
— Еще жив?
— Такие, как он, вообще не умирают.
*
В 2000 году она приехала еще раз. Еще более крепкая. Вид у нее был как у женщины, охотящейся за скальпами. Деловая, с какой-то железной папкой, чтоб ударять по голове налетчиков. Еще она была похожа на немецкую исследовательницу, измеряющую и фотографирующую в Африке члены туземцев.
Я дал ей с собой подшивку «Лимонок», и она увезла газету в Беркли. Надеюсь, что она сдала их в Университет.
В 1998 году я таки увидел знаменитое екатеринбургское кладбище. Действительно впечатляет. Особенно гигантский горельеф стоящего в костюме братана. Сработан в отличном, оригинальном стиле. Небывалом доселе, я бы сказал, стиле. Не нужно думать, что только старое «великое» искусство имеет право на существование. Ежедневно рядом с нами формируются новые нравы и вкусы и новое искусство. И почему не на кладбище? Какой в задницу Эрнст Неизвестный сделал бы лучше, чем этот пробитый силуэт простого братана, погибшего в расцвете лет просто и с достоинством. Ученый скульптор сделал бы обыкновенный округлый памятник. Не было бы трагизма этих рваных углов костюма, этих тяжелых туфель, этого поразительного, точно ложащегося в 90-е годы, простого рисунка. Я уверен, что ремесленник-автор делал не мудрствуя лукаво, и сделал отлично. Если поместить эту тяжелую плиту стоять рядом с Лениными, Дзержинскими, Свердловыми туда к ЦДХ, на берег Москвы-реки, этот портрет братана останется сурово-грозным и оригинальным даже среди талантливых памятников, собранных там.
Наиболее ценно оригинальное искусство. Первый, кто посадил каменного всадника на каменную лошадь, был гениален. Все остальные — уже менее. Однако излишняя формалистичность может сделать работу смешной. А тут в скульптуре просто применен рисунок — за основу было взято искусство выцарапывания на штукатурке. Возможно, автор провел свое детство в разрушенных зданиях.
Что до бандитов, то их простая и суровая жизнь может вызывать уважение, если ты только не конченый мент. Кладбище ведь ожидает всех, исключая огнепоклонников. Так почему бы не приехать туда пораньше, после того как ты застрелен горячей пулей на перекрестке горячих улиц, а?
*
Я подумал, что мое небольшое эссе «Культура кладбищ» не может быть полным без напечатанного в газете «Лимонка» №185 письма из Барнаула, касающегося меня и кладбища, в данном случае Власихинского кладбища в городе Барнауле.
«В ночь с 1 на 2 ноября,— пишет руководитель барнаульского НБП Дмитрий Колесников,— меня разбудил звонок. Голос в телефонной трубке поведал мне, что «их» двое, и что «они» из московского отделения НБП, и что надо срочно встретиться. А также передали привет от Лесовика (то есть от Лимонова). Я, ничего не подозревая, как последний идиот оделся и вышел из дома в 2 часа ночи. К условленному месту встречи должны были подъехать «Жигули».
Когда подъехала машина, я сел в нее. «Партийцами» оказались старший уполномоченный ФСБ капитан Жданов А.В. и какой-то старый х… лет 50. Когда я просек ситуацию, машина уже ехала на полной скорости. Проделав длинный путь, мы оказались за городом на Власихинском кладбище. Начался разговор. Старец, который сидел на заднем сиденье, двинул мутную философскую телегу, а в конце сказал, что он давний друг Лимонова и прибыл на Алтай с «великой миссией». Товарищ Жданов (он допрашивал меня летом по делу Лимонова) стал объясняться в любви к НБП и сказал, что ФСБ не такие говнюки, какими их представляют в «Лимонке». Под конец он предложил помощь и «крышу» в лице ФСБ для отделения НБП в Барнауле. Взамен он потребовал ничтожную малость, а именно — подписать бумаги о сотрудничестве со спецслужбами… Я отказался. Тогда он вытащил меня из машины и повел в глубь кладбища. Пройдя метров 20–30, он вытащил ПМ и, подставив ствол к моей голове, спросил, не передумал ли я. Я сказал, что не передумал. Тогда он для убедительности выстрелил в сторону. Еще минут 15 он вертел пистолетом перед моим носом, но поняв, что все напрасно, сел в машину и уехал. А я остался ночью на кладбище.
Вот такое странное происшествие. И то вкратце. Врать не буду, было страшно. Я реально поверил, что мне пиздец. Зато в следующий раз не буду таким доверчивым идиотом.
Прокуратура неохотно взялась за дело. Жданова вызывали для дачи объяснений. Он все описывает по-другому. Мол, дружеский разговор со мной был, не планируем ли мы на 7 ноября какой-нибудь теракт. А я вроде как все это выдумал для саморекламы и опорочил в глазах общественности бедного эфэсбешника. Чего доброго, обвинят меня в клевете. Ну, ладно, поживем-увидим.
Дмитрий Колесников. Барнаул».
Вот точно, увидим еще. Но даже то, что уже увидели и узнали, впечатляет. Пока граждане спят, во какие вещи происходят на кладбищах! Жданов этот, капитан ФСБ, и его товарищ старик — просто маньяки и убийцы. Ведь до этого у нас погибли в Барнауле два товарища: 17 ноября 2000 года выброшен из окна Виктор Золотарев, сопровождавший меня на Алтае в августе-сентябре 2000 года. А когда прокуратура Алтайского края производила проверку смерти Золотарева с 15.10.2001 года до 13.11.2001 года, странным образом погиб Олег Михеев — национал-большевик, первым обнаруживший Золотарева в морге и затем пытавшийся расследовать обстоятельства его гибели самостоятельно. Его нашли у железнодорожной насыпи мертвым. Прокуратура же Алтайского края занималась расследованием гибели Золотарева не по своей, конечно, воле. Это я забросал Генеральную прокуратуру все новыми и новыми ходатайствами о возбуждении дела. В конце концов 13 ноября 2001 года дело по признакам преступления, предусмотренным ч.1 статьи 105, было возбуждено. А уже нужно возбуждать дело по убийству Михеева и угрозе убийством Колесникову.
Это, конечно, еще не значит, что капитан Жданов будет осужден — герой кладбища.
Ангелы Ада и Адам Смит
На «Серпе и Молоте» в литейке я работал в три смены. Когда шел на третью под тусклыми и редкими лампочками поселка вначале мелкой тропкой, потом выходил на тротуар, то ко мне из всех домов присоединялись спутники. Хлопали двери, стучали ботинки, безмолвная, все увеличивалась наша армия. Все новые мрачные солдаты выходили из-за старых дверей, все шумнее сотрясали поселок уже сотни ботинок. Дело было всегда около полуночи, потому разговаривали мало. Окраины провинциальных городов освещены слабо, так что были видны лишь силуэты работяг да огоньки цигарок в зубах. То были 60-е годы, курили тогда «Беломор».
Зимой было светлее — больше света от земли. В дождь было мрачнее. Впрочем, и без дождя было мрачно. Только самые молодые и хулиганистые переговаривались, воспринимая ночь как вызов — боясь ночи. Но их молодая спесь подавлялась мрачной косностью привычных и пожилых. Перейдя через трамвайные пути у остановки ДК «Стахановский», наш стучащий ботинками ручей вливался в большой поток. Рабочих сотнями спешно сгружали трамваи.
Мне было двадцать лет и потом двадцать один. Я был полон мрачной гордости за себя, за свой класс отверженных, класс третьей смены. Ближе к проходной завода нас была уже река. Завод был могучий. Проходных было несколько. Та, в которую входил я с Салтовки, не была центральной. Центральная располагалась за много километров на противоположном конце — на Сталинском проспекте. Мы угрожающе бурлили, шуршали, стучали ногами во мраке. Я же говорю, провинциальные города были и есть освещены слабо, а заводские проходные еще слабее, тем более те проходные, что не центральные. У проходной нас завихривало, заносило, и мы сурово, но без жалоб толкались, употребляя плечи и локти, чтобы добраться до желаемого горлышка бутылки, торопились на территорию, где нас станут эксплуатировать. Во мраке наши лица под кепками и шапками были мистичны, квадраты и прямоугольники лиц, туго обтянутых кожей, сложенные в гримасы, и в девяти случаях из десяти губы сжимают беломорину. Носы жадно ловят возбуждающий запах железных опилок, жареных в машинном масле,— характерный запах «Серпа», где был калильный термический цех. Авоська с завтраком обмотана округ запястья, руки в карманах старых пальто и бушлатов. Молчаливые рыцари труда и капитала пошатывались всей толпой с ноги на ногу в нетерпении войти в большие, грязные, вонючие помещения, чтобы крутить штурвалы, нажимать кнопки, опускать и поднимать рубильники, ездить на подъемниках. Я переваливался, чтобы загружать шихту, магнезию, породу, стальной лом. Я работал в комплексной бригаде сталеваров.
Наша мистическая толпа каждую ночь мрачно надвигалась на площадь перед проходной, откуда только что была исторгнута заводом другая многотысячная толпа. Каменные статуи командоров, воняющие табаком, закостенелые, полусонные, меланхоличные,— мы надвигались на завод Ангелами Ада. Неторопливо подымая и опуская негнущиеся ноги.
Город засыпал. Возвращались с танцев в «Стахановском» и «Бомбее» наши подружки — рабочие девочки, их грели в подъездах у батарей наши пацаны. Давно заснула страна. А мы, проникнув сквозь узкое горло проходной, потом долго растекались по огромному чреву завода, по узким тропам и аллеям. Я обычно проникал в свой цех сквозь грузовые ворота, мимо вагонеток с шихтой и по завалам шлака. Сквозь отворенные ворота в цеху видно было, как пылает адская масса расплавленного ковша, распространяя вокруг сияние, словно божество Ада. Цех дышал горячо. Мои товарищи, похожие на гладиаторов в брезентовых робах, бесстрашно окружали ковш, везли его в нужном направлении. Гладиаторы отбрасывали огромные тени. Я входил…
Безотрадная, страшная гордость и горечь теснились во мне. Я гордился принадлежностью к касте самых отверженных, работающих в ночи. Даже среди работяг — безропотных роботов существует иерархия. Работая в третьей смене, даже девушку было трудно при себе удержать, разве только она тоже работает в третьей смене. Люди ночи в брезентовых латах (каждая нить этого брезента казалась толщиной в прут. Эти латы не прожигали брызги металла!), мы находились в самом низу рабочей лестницы. Дальше опускаться было некуда. Впрочем, было — в шахтеры, уже под землей, в норах.
Рабочий — личность страшная. Работой, этим гнусным занятием, можно заниматься случайно, недолго. Извращенность современного общества в том, что оно предоставило сотням миллионов человеческих существ гнусное право быть навозными жуками навсегда. Но скатывая перед собой грязь, толкая застывающий шар грязи, навозный жук перекатывает в голове мрачные глыбы мыслей, перекатывает с места на место целые каменные горы мыслей. В основном он решает, страшен ли он. Он страшен, тяжел, недостоин, и если катит свой шар более пары лет подряд, он будет катить его далее всю свою трагичную жизнь. Рыцари труда — они же его жертвы, простодушные ангелы, пища для грозных заводов, хрипло дышащих в ночи.
Двадцатилетний, я понимал, что «Серп и Молот» переваривает нас всех, громко икая, каждую ночь. И выпускает, довольный, хриплые дымы из труб. Но я выходил из темного подъезда на темную улочку поселка и присоединялся к людям-теням. Хлопнула дверь, выпустив Ангела Ада. И в соседних домах хлопают двери. Каменными статуями командоров, цигарки у губ, мы движемся по направлению к нашему мучителю — заводу. Прямо к проходной, в его открытый рот. Вспоминается старая антикапиталистическая гравюра: Молох-капитал пожирает рабочих, поступающих к нему в рот на конвейерной ленте. Возможно так же, что такой гравюры не существует, и это образ из моего кошмарного липкого сна под утро. Каждую ночь мы проходим сквозь его внутренности, и стенки их высасывают наши силы. Молодые силы — у тех, кто молод; пожилые — у тех, кто пожил. Загипнотизированные, как зомби — персонажи гаитянского культа «вуду», живые мертвецы, мы тяжко движемся ко рту, к проходной. А вот кто это смеется истерично в безмолвии? А это бесовка, затесавшаяся среди нас, Ангелов Ада. У бесовки узкие глаза, грубые руки-лапы и горячий живот. Это знакомая бесовка. Она трудится на соседнем участке. «Здравствуй, Люба!»
Все плотнее ряды статуй-зомби. Все труднее дышать. Сотрясается земля под нашими ногами. Работать. Затем возвращаться в родную нору. Зачинать, сотрясаясь, роняя светлые капли в нечистую самку. Плодить себе подобных рабочих, Ангелов Ада с сильными челюстями и передними лапами. С неразвитыми задними лапами статуй. Ибо некуда бегать. Лапы нужны, чтобы только дотопать до проходной. Вот тебе и весь Адам Смит.
Я тогда не знал, кто он такой. Между тем этот тип написал труд «О богатстве народов», где впервые изложил основные принципы капитализма. Ассимилированный Англией шотландец. Шел XVIII век. В XVIII веке у них уже вовсю дымили в Англии и сосали человечину свои «Серпы и Молоты», хотя и не такие большие, как наш. По Адаму Смиту, таким образом, мы шли на ночную смену — железные когорты пролетариата, ангелы с мозолистыми руками, творцы всякой вещественности из железа и стали. Завод изготовлял моторы для тракторов и танков. Творцы индустриального могущества — Ангелы Ада, отлепившись от жен и подруг, мы гулко пересекали ночь, не зная, что всякий производительный труд создает стоимость.
Ангел — существо наивное, даже низвергнутый в Ад. Он невинен как барашек, пусть от адовой жары облетели белые перья и потрескалась морщинами и стала кирпичной плоть. Пусть он приземистый и квадратный, а в зубах «Беломор» и в тени козырька кепки — пустые глаза живого мертвеца-зомби.
Вначале они выходят на улицы Магадана и Камчатки. Затем, когда крыло ночи проходит по Сибири, то статуи командоров в сапогах, и ботинках, и валенках скрипят по ночному снегу Сибири. И ночь приближается к Красноярску, и быстро идет на Омск и Тюмень, и переваливает Уральский хребет, и неумолимо движется по европейской России. И выходят навстречу ей с молитвенно пустыми глазницами Ангелы Ада.
Так надо? Не шотландец же, ассимилированный англичанами, выводит на улицы железные когорты зомби. Он только записал то, что уже было. В два тома под общим названием
«Исследование о природе и причинах богатства народов. Сочинение Адама Смита, доктора прав, члена Королевского общества, ранее профессора нравственной философии в г.Глазго».
Впервые были изданы в 1776 году.
Среди прочих положений книги Смита главное и самое неприятное: «разделение труда увеличивает богатство». Неприятное для Ангелов Ада. В раннем, рукописном варианте «Богатства народов» есть мучительное признание, не вошедшее впоследствии в книгу:
«Бедный работник, который как бы тащит на своих плечах все здание человеческого общества, находится в самом низшем слое этого общества. Он придавлен его тяжестью и точно ушел в землю, так что его даже и не видно на поверхности».
(Вспомним, что уже в XX веке Герберт Уэллс сочинит «Машину времени», где таки поместит пролетариат будущего под землю. Там подземные уродцы работают с машинами и лишь по ночам выходят на поверхность, дабы похитить и съесть счастливых жителей счастливого общества будущего.) Придавлен и ушел в землю. То есть Смит знал, выхваляя свой модный тогда уже капитализм, знал, что будет. Знал. Сохранился конспект одного из его студентов в Глазго. За десяток лет до выхода первого издания «Богатства народов», в 1763 году, тот записывал за учителем:
«Развитие промышленности и торговли несет с собой и ряд отрицательных следствий. Во-первых, оно сужает умственный кругозор людей… Это очень сильно проявляется, когда все внимание человека устремлено на 1/17 часть булавки или на 1/80 часть пуговицы. Таково разделение труда в этих производствах. Другое неблагоприятное следствие состоит в сильном пренебрежении к образованию. В богатых и промышленных странах разделение труда, сводя все профессии к очень простым операциям, позволяет занимать детей работой в очень раннем возрасте. В Бирмингеме мальчик 6–7 лет может заработать свои три или шесть пенсов в день, и родители считают выгодным посылать таких детей на работу. Ясно, что они остаются без образования».
Что было тогда на месте завода «Серп и Молот», в 1763 году? Кажется, казаки гонялись за татарами, а татары — за казаками, а с севера медленно шли полки молодой Екатерины II, которая вскоре ликвидирует Запорожскую Сечь. Ковыли, степь была на месте завода «Серп и Молот», благородная синяя степь.
«Действительная цена каждого товара, то есть то, что каждый предмет стоит желающему приобрести его, есть труд и усилия, которые нужно затратить для изготовления. ⟨…⟩ Естественно, что предмет, обычно производимый в течение двух дней или двух часов труда, должен стоить в два раза больше, чем продукт одного дня или одного часа труда…»
Вот тебе и Адам Смит.
Мальчики
Недавно мясистый президент Македонии приезжал в Россию и во время пресс-конференции уверял всех, что македонцы — мирная нация. Возможно. Возможно, они изжили за два с лишним тысячелетия гены ребят, ходивших македонской фалангой за своим царем-полководцем Филиппом, а потом за сыном его Александром Великим, прозванным Македонцем. А может, это все сказки и ничего этого не было. Но факт однако, что первые анархисты высоко ценили бомбы-«македонки». Круглые такие, с хвостиком. Это был конец XIX — начало XX веков.
Поэт Ваня Каляев и его товарищ Егор Созонов, ребята из Боевой организации социалистов-революционеров, напрягаясь, тащили на дело целые пудовые сооружения, адские машины, где две гремучие субстанции были связаны между собой стеклянной трубкой с перегородкой. Любое падение снаряда оземь вызывало взрыв, даже если споткнулся. «Македонки» же были поменьше, от них отходил какой-то хвостик, очевидно бикфордов шнур или его прототип. Корпус был из чугуна. Удобнее в обращении, чем русские метательные снаряды,— «македонки» не всегда взрывались и уступали русским адским машинкам в убойной силе. Это с «македонками» ездили Блюмкин и Андреев к послу Мирбаху.
Анархистам и эсерам сочувствовала часть общества. Красивые женщины, если им удавалось встретиться, влюблялись в эсеров и анархистов. Взглянуть на Ваню Каляева в тюрьму пошла вдова убитого им Великого Князя и долго оставалась с ним наедине. Впоследствии каждый из них опровергал другого письменно, но они встречались. Богатые люди после серии удачных терактов натаскали в кассу Боевой организации эсеров столько денег, что проблем с финансированием у Савинкова и Азефа не было. Сами они жили на широкую ногу, и будущие герои «метальщики», чьими именами позже называли улицы советских городов, были приобщены к гостинично-ресторанной жизни. К современности то есть, если округлить все это. Герой должен перед подвигом жить достойно. Так?
Где-то в ту же эпоху, в те же годы чуткий поэт Игорь Северянин писал удивительные на самом деле стихи, поэтизировавшие прорезиненные плащи и бензиновые ландолеты, к которым можно добавить и бомбы-«македонки», и английские костюмы организатора терактов БО Савинкова.
И садясь, комфортабельно в ландолете бензиновом
Жизнь отдайте вы мальчику в макинтоше резиновом
И закройте глаза ему вашим платьем муаровым
Шумным платьем муаровым…
Резиновый макинтош носил и я где-то в конце 60-х XX века. Рукав реглан, заграничное изделие, он, увы, драматически сужал плечи, потому впоследствии я от макинтоша резинового отказался. Борис же Савинков был англоман и совсем мальчик лет 25, когда на него свалилось это бремя — организация терактов. В ландолете бензиновом каталась храбрая двадцатилетняя жена богача красотка Лена Щапова. Был 1971 год, и ландолетом был белый «мерседес». Рано было для «мерсов». Но как все absolute beginners я рано начал и проехался в ландолете несколько раз с богачом и его красоткой в 1971-м и 1972-м. А потом украл у богача его красотку, как и полагается романтическому герою. И после этого почувствовал себя всемогущим. Советую каждому пацану с амбициями попробовать совершить такой подвиг. Очень вырастаешь в собственных глазах. Однако двадцатилетних красоток в ландолетах не так много, хотя количество ландолетов возросло астрономически. Обыкновенно там сидят в платьях муаровых перезрелые тетки с толстыми ляжками, пошлые бабищи типа писательницы Татьяны Толстой. Если юная девочка закрывает глаза шумным платьем муаровым — голова кружится от страсти, если Татьяна Толстая или Валя Матвиенко — не дай бог, вспоминается кладбище, некрофилия, крыльцо отделения клинической психиатрии с чахлой сиренью, усики профессорши-психиатра… желтый цвет — короче, пошел.
Я помню в жару в 1999 году приехал в Москву из Самары поэт Сергей Соловей, руководитель самарской организации НБП. Оказывается, он приехал проситься в севастопольскую акцию. Я случайно узнал об этом и прогнал его в Самару — руководить организацией. Мы встретились тогда у Мосгорсуда. Я отметил про себя, что он явился в белом пиджаке, похожем на смокинг. Там впереди была верная тюрьма, ждала тюрьма. А он просился, умолял в этом пиджаке. Я его зауважал с тех пор. Сергей сделан из того же теста, что и Ваня Каляев. В России всегда существовал тип таких вот мальчиков. Ну, условно говоря, с гвоздикой в петлице и с бомбой в кармане. С «македонкой». Были и такие, что с морковкой в петлице и с бомбой в кармане. В России советская власть извела эту породу мальчиков с гвоздикой в петлице и с бомбой в кармане. А зачем? Сделали революцию, и хватит, больше такие не были нужны. В последний десяток лет они опять появились. Соловей родился в семидесятые. Их много среди родившихся в 80-е годы. Их будут толпы среди пацанов, родившихся в 90-е. Легкий бросок расчески по волосам… Взгляд на себя в зеркало. Русская жизнь, что при социализме, что при капитализме,— сплошная пошлость и свинство, потому хочется, конечно, макинтошей резиновых. Плюс «македонка».
Сергей своего добился. Приговорили к пятнадцати. Сидит в Рижском централе уже полтора года. Сидеть противно, но это аскеза, это инициация в герои, это муки на кресте. Это надо. В революционном деле поражение — это отказ от революции, уход в обыватели, в овощи. Смерть и тюрьма в революционном деле — это победы.
(Я счастливее моих следователей. Я иду под конвоем — руки назад, голова гордо поднята, в 18:00, после ознакомления с делом — в мою тюрьму, в камеру. Волосы мои отросли и гривой жестко лежат на шее. Я иду к моей святости, к моим мукам, к серьезной и страшной жизни, а следователь идет в свое свинство, к обывательским делам, к болтовне, к сауне, к ремонту автомашины. Это символично, что мой следователь плешив, а я густоволос. Это было, впрочем, отступление.)
Сергей Соловей не убил Великого Князя только потому, что партия ему этого не приказывала, партия дала ему другой приказ.
Так вот. Крупный план на этот самый ландолет. Юная бестия с физией Миледи (помните, ее играла Милен Демонжо) сидит комфортабельно и покрывает муаровым платьем лицо Сергея Соловья. У Сергея, я отметил, странная, избранническая форма ушей — они заостренные. Мистика революции, гнусная гулкость Рижского централа требуют таких ушей. Вдумываясь в смысл «лишение свободы», я в первую очередь слышу запах тюрьмы: запах «дальняка» — гнусная вонь + казенный запах баланды, «самой лучшей в мире» (так уверяют следователи), лефортовской. На самом деле воняет закисшая жирная кухонная тряпка, сваренная в кипятке. Американский шпион Эдмонд Поуп или же немецкий эксцентричный Матиас Руст, посадивший самолет на Красной площади, не помню, кто из них сказал, что отсидел срок в России «в общественном туалете». Это верно, камера российской тюрьмы, даже такой избранной как «Лефортово», есть не что иное, как общественный туалет. И все-таки в ландолете бензиновом, в макинтоше резиновом.
Есть фотографии Гаврилы Принципа, сербского пацана из националистической организации «Черная рука»,— темноволосый задумчивый мальчик в темном костюмчике, житель Сараева. Соловей — житель Самары. Подумать только, этот восемнадцатилетний пацан, застрелив эрцгерцога Фердинанда Габсбурга, столкнул столько держав в Первой мировой войне, а костюмчик не на что было приобрести. Мамка с папкой не купили. В летний день это случилось 1914 года, Гавриле было 18 лет, следовательно родился он в 1896-м, а умер он в тюрьме от туберкулеза уже через пару лет. Его намеренно поселили в самую сырую камеру, чтоб погубить. И не лечили. Говорят, он выхаркивал куски легких. Ну и что? Он бессмертен навсегда.
Утверждают, что Фердинанд, австрийский эрцгерцог и наследник престола, был сторонником славян и якобы даже по-своему отстаивал их права в Австрийской империи. Историки пеняют школярам из «Черной руки» (а они все еще учились в школе, эти ребята), что, мол, те неверно выбрали мишень, мол, возможно, их курировал сербский полковник — разведчик из мамки-Сербии. Называют фамилию, публикуют фотографию, однако точно полковник не доказан и остается колеблющейся возможностью. Представляется сомнительным, чтобы полковник связался со школярами. Хотя, возможно, это был исключительно умный полковник и понимал, что школяры — наилучший человеческий материал. Точно известно, что собиралась горстка школяров и пылко мечтала свергнуть австрийское владычество в Боснии. Какая отличная, значительная фамилия — Принцип! Человек принципиальный. Серьезный пацан, выросший из костюмчика. Возможно, когда он шел на покушение, руки у него были еще в чернилах. Название же организации, слишком черно-романтическое, отдает еще детством. Вот тебе и детство уже к концу года по всей Европе ухали бои.
Принцип! А какой аккуратный, красивый и талантливый мальчик был Александр Ильич Ульянов! В цареубийцах, как удачливых, так и неудачливых, есть нечто чарующее. Они близки к ангелам. Грубоватым вчера еще подростковым ангелам, сегодня уже мужчинам. У Гаврилы на той фотографии торчат из коротких рукавов голые костяшки рук, десяток жестких волосков пробили кожу кисти правой руки, той самой, что сжимала чуть позже смертоносное оружие, от которой свалился с плюмажем, то есть с перьями на шляпе, усатый немчура Фердинанд. В каске, похожей на пожарную, клепаной жести, укреплены были эти перья. Летом в Сараево сплошная жара, город лежит в котловине, не продуваемый ветрами, потому даже собаки там особенно ленивы. (Меня звали в еще мирный город в самом начале 92 года мои поклонники-сербы, а осенью 1992-го мне уже показывал свой сожженный дом с окружающих гор Радован Караджич.) И вот эти сербские мальчики, превозмогая жару, шли убивать оккупанта. Может, пили воду у разносчика, пальцами в пятнышках чернил разбирая стаканы. Больше всего подвигов совершено юношами. Юноша, еще вчера подросток, уже не мальчик и еще не мужчина. Мужчина же — это косный возраст, обыкновенно сломленный уже обществом, лишенный веры в сверхъестественные идеалы, но еще физически крепкий, чтобы не быть жалким, мужчина — это воинствующий циник и обыватель. Юноша еще верит во все, ко всему относится серьезно, идеальный мир для него реальнее материального. Ломающийся голос, первая щетина, оставшаяся от детства улыбка — юноша живет серьезно. Несправедливое устройство мира ранит его лично. Потому он идет и убивает наглого, вонючего немецкого офицера с усами и перьями на шляпе, в этой его дурной каске.
Постоянно забывают, что Гаврила Принцип убил немецкого оккупанта своей земли. Можно услышать суждение, что вот злодеи из националистической организации «Черная рука» разъярили Первую мировую войну. Нужно думать, что Первая мировая — лишь косвенное последствие убийства Фердинанда. Она могла быть, могла не быть, она случилась, потому что правители государств так прореагировали на убийство в Сараеве. А школьники убили оккупанта. И правильно сделали. Оккупантов следует убивать. Так же как и тиранов. На эту «террористическую работу» всегда найдутся мальчики. Привет вам, тираноборцы. Благословляю.
Бегущие эстетики современности
В самом начале жизненного пути я эстетически пристраивался к модным веяниям эпох, через которые жил, и менял свою эстетику в соответствии с требованиями времени.
Я родился давно. Когда еще был жив Адольф Гитлер. Правда, только что тогда случился сталинградский разгром армии Паулюса, на той стороне Волги виднелась немецким солдатам Азия. Вверх по Волге они летали нас бомбить, и мать помещала меня в ящик из-под снарядов и задвигала под стол, отец усилил стол досками. Так что колыбелью у меня был снарядный ящик в городе Дзержинске. Задвинув меня под стол, мать убегала на завод изготавливать бомбы и снаряды.
Под завязку Великой Эпохи в начале пятидесятых годов я был смазливый маленький мальчик в коротких штанишках на помочах, остриженный под ноль, как Zoldaten. Сохранилась фотография. Я похож на юного тощего еврейчика. Темноглазый какой-то. Стою в углу. Что до штанишек, то история умалчивает, были ли это оригинальные трофейные немецкие штанишки, снятые с гитлерюгендовца или уже сшитые моей матерью по выкройке, снятой с трофейных. Я был в этих штанишках сверхсовременен. Обычный детский послевоенный контингент носил длинные штаны мешками. Короткие придавали мне европейский лоск. Правда, эту эстетику гитлерюгенда выбрала мне мама. Мои сверстники Джордж Харрисон, с этим мы родились с разницей в два дня, Мик Джаггер или Дэйвид Боуи, я видел во французских книжках о них, в те послевоенные годы выглядели как я, или я выглядел как они. Так что мама соблюдала общеевропейскую мальчиковую моду своего времени.
В пятнадцать я был дерзким отроком. Я стригся коротко, выбривал пробор, носил широкое, короткое чешское пальто на трех пуговицах с рукавом реглан. Или желтую куртку. Я увековечил это сооружение из обивочной ткани в книге «Подросток Савенко». Вот эту эстетику выбирал уже я сам. Правда, когда я окончил школу, мне пришлось потеснить эту свою восточноевропейскую эстетику (пальто было чешское, а стриг меня парикмахер-поляк) русской пролетарской. Осенью 1960-го монтажником-высотником семнадцати лет я ездил на работу в морозных трамваях этаким тамплиером пролетариата: в солдатских сапогах и фуфайке, подобной той, в которой сейчас сижу в камере 22/23 и пишу эти строки. На голове у меня была отцовская военная шапка. Помню, однажды, спустившись с колбасы трамвая в таком виде, я столкнулся на одной из остановок с влюбленной в меня в школе красивой губастой девочкой Олей Олянич, в компании ее старшего брата. Я шокировал Олю и разочаровал. «Мы думали, ты в литературный институт поступишь… Ты же стихи писал»,— мямлила она. Хорошо еще, что трамвай наконец поехал дальше, и я занял место на колбасе. (Признаюсь здесь в слабости. Встреча эта не прошла для меня безнаказанной. Вскоре я уволился из строительно-монтажного треста и более не возводил новый цех харьковского танкового завода имени Малышева. Виновата Оля Олянич.)
Осень 1961-го обнаруживает меня в том же коротком модном пальто, куда я спасительно нырнул опять, в том же, в котором ходил в пятнадцать, уже в потертом. Я стал посещать в нем жаркие классы кулинарного училища. Пальто, я не сообщил, было темно-коричневое. Брюки мои были такие узкие, что нога с большим трудом протискивалась в штанину. Очевидно, я был тщеславен и хотел быть заметен. В осень 1961-го и весну 1962 года в городе Харькове таких, как я, было немного… В кулинарном училище был еще только один, с отделения официантов, но он был попроще. Собственно говоря, поступая в училище, я хотел стать официантом («Иди Эд, в халдеи, там всегда будешь с бабками»,— поощрял меня мясник Саня Красный, мой старший друг. Это была его идея). Но набор в официанты, оказалось, уже был закончен, пришлось идти на отделение, которое готовило поваров. Училище при всей своей социальной ничтожности располагалось в самом центре города на Сумской улице, напротив «Зеркальной» струи, в лабиринте одноэтажных флигельков, наискосок от театрального института. Что делал в это время в Ливерпуле Джордж Харрисон, возможно продавал мороженое или был учеником слесаря, я не помню, но он уже держал гитару, а я с 1958 года писал стихи.
Меня дергало в конвульсиях, я никак не мог выбрать стиль современности, то есть никак не мог выбрать, какой будет моя жизнь. Потому в течение следующих нескольких лет мне не раз еще пришлось совершать радикальные переодевания: то тамплиер пролетариата, то желтая куртка, а то и белые джинсы. Впоследствии подобные резкие скачки амплитуды колебаний стиля стали характерными для моей жизни.
В 1963–1964 годах я — работяга-литейщик, в три смены загружаю печи, пью соленую газировку, исповедую философию рабочего класса. Настроение — как у рекрута, едущего на войну. (Читатель, смотри «Ангелов Ада и Адама Смита».) К осени 1964 года у меня, однако, огромный гардероб: шесть костюмов, три пальто; каждую субботу молодые рабочие — мы посещаем ресторан «Кристалл» с нашими девушками. Короче, была этакая атмосфера американских фильмов о рабочем классе. Джордж Харрисон уже выступает в «Пирамиде», «Битлз» начинают становиться очень известными. В октябре 1964 года судьба закручивает меня в воронку и швыряет в харьковскую богему, я — молодой сожитель еврейской девушки старше меня на шесть лет. Вино, стихи, книги. Эстетика меняется и оформляется в соответствии с жанром bildungsroman, романа о воспитании, рабочий парень спешно переделывается в молодого интеллектуала и поэта.
Следующий этап bildungsromana, сцена 30 сентября 1967 года: молодой поэт приземляется на Курском вокзале в Москве с большим чемоданом. Одет он, правда, еще в обноски эстетики прошлого периода: на мне черное, длинное ратиновое пальто, черная кепка-аэродром (портной был армянин), американские сапоги, черные брюки и жилет. К Че Геваре в джунглях Боливии уже приближался в эти дни его смертный час. В Китае второй год по зову Мао вовсю бушевали хунвейбины — миллионы детей и старших школьников. В следующем году взорвется молодежь в Европе — в Праге и Париже. В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе уже бродят хиппи, возникли первые коммуны в Калифорнии и в Берлине. Популярны Тимоти Лири, пророк ЛСД, философ Герберт Маркузе, писатель-мистик Кастанеда. Парижский и берлинский молодежные бунты оставляют миру имена рыжего Даниэля Кон-Бендита и Руди Дучке.
В Москве я попал в среду художников нонконформистов. Пил вино у Соостера, похмелялся у Кабакова, спал у Бачурина, спорил с Ворошиловым, шил штаны Эрнсту Неизвестному. В 1971 году, когда у поэта Сапгира в доме я познакомился с будущей героиней книги «Это я, Эдичка», я представлял из себя двадцативосьмилетнего парня в красной рубахе и белых джинсах, очень загорелого, мускулистого, уже известного как автора своеобразных стихов. Она была тоненькой, еще 20-тилетней девочкой, стоящей на пороге 21 года, женой богатого московского художника и дельца. Она носила очень короткие платья, была как две капли воды похожа на девочку из западных модных журналов и более того — была значительно лучше девочек из таких журналов. Муж Виктор, старше ее на 27 лет, лыс, в очках в золотой оправе, носил клубный пиджак и серые брюки. Обожал девочку-жену. Елена писала стихи, какие пишут богатые девочки, любила бухать малиновый джин. И мы влюбились друг в друга. Оглядываясь назад, вижу, что при всей нашей оригинальности я и она были вполне современные молодые люди, правда в контексте России мы опередили общую современность лет на двадцать, я полагаю. С того времени и начинается мой сдвиг по фазе, с тех пор я неизменно тороплюсь, живу вперед и попадаю из-за этого в трагические ситуации, так как оказываюсь чужеродным своей эпохе. В 1974 году мы перемещаемся в Европу. В Италии разгар терроризма, левого и правого. «Красные бригады» и «Черный орден» — названия этих организаций не сходят со страниц газет. 18 февраля 1975 года Мара Кагуль с пятью вооруженными товарищами освобождает своего мужа Ренато Курчио (лидера «Красных бригад») из тюрьмы. В этот день мы с Еленой летим в Штаты. Багаж раскладывают на летном поле, опасаясь, что в самолете «Панам» — бомба. Осенью 1975 в Италии убивают Пазолини.
В 1976-м, в феврале, мрачно выглядящий эмигрант 33 лет, в тонком кожаном пальто, длинные запущенные волосы и некая усталая печаль во всем облике, я становлюсь добычей своей самки. Ужалив меня и обливаясь слезами, Елена уходит в мир. Вот в этот-то момент, подвергшись бесчисленным унижениям, весной 1976 года я и превращаюсь впервые в того человека, который сейчас, через четверть века, сидит в камере 22/23 и пишет. На самом деле унижения — это сильнейший стимул, шоковая терапия для людей высокого предназначения. Унижения выводят их из состояния отупления и бессмысленности или малосмысленности, в которой пребывают обычные экземпляры человечества, и вынуждают на подвиги. Унижения, которым подвергся бродяжка Гитлер в юные годы в Вене, пробудили его, его постигло озарение. Подобное же озарение испытал и я 4 марта 1976 года. Озарение — это момент, когда становится ясна природа человека и своя собственная судьба, когда открыто будущее. Только часть из знания и предвидения, данных мне озарением, я использовал в книгах «Это я, Эдичка» и «Дневник неудачника».
В 1980 году я — борющийся с нуждой писатель в Париже, Франция. Выходит моя первая книга по-французски. Меня ожидают все приятные романтические удовольствия покорения Парижа. И в последующие десять лет я буду с удовольствием исповедовать эстетику честолюбца, Растиньяка, покорителя города, в котором мечтают жить миллионы, а живу я один. Похожий на декорацию старой оперы Моцарта Париж захватывает. Мы каждый день любим друг друга, я и этот город. В добавление к эстетике истории в стиле ЖЗЛ: гений приезжает (по-французски monter a Paris, подняться в Париж, как в горы) в столицу мира и завоевывает ее. Появляется и обязательная в таких случаях женщина. Именно такая, как будто бы ее сделали на заказ для этой истории. В 1982 году появляется Наташа — мой злой гений, оппонент, прекрасная и неверная возлюбленная. Она певица и конечно, как же еще иначе, устраивается на работу в самый романтический в мире ресторан, в «Распутин». Происходят все события, которыми может быть расцвечена современная история высшей пробы. Мы дрались хуже и кровавей, чем Бодлер и его Жанн Дюваль, однажды она выкусила мне кусок руки. Измены, любовь, трагизм — все это венчается нападением на Наташу в ресторане «Балалайка» рядом с Пантеоном, ей нанесены шесть чудовищных ран отверткой в лицо. Но достигшая заоблачных высот любви и ужаса история переживает самое себя.
Я все чаще убегаю от Парижа и Наташи в тем временем разбушевавшийся мир. Второй спокойный период в моей жизни заканчивается (первый был в 1964–1967 годах, ему посвящена книга «Молодой негодяй»), оставив после себя красивую книжку «Укрощение тигра в Париже». Вначале я убегаю на международные литературные конференции: в Вену, в Будапешт, в Белград, в Лос-Анджелес или Лондон, в какой-нибудь Антверпен. Я наработал себе литературную репутацию, мое имя начинают склонять среди лучших. Но меня неумолимо тянет прочь из литературного мира. Еще в Соединенных Штатах я начал роман с радикальной политикой, об этом есть в «Дневнике неудачника», я работал с Социалистической рабочей партией, заглядывал к анархистам. Во Франции меня приветила Французская коммунистическая партия. Я много пишу с 1982 года для журнала «Революсьен». Когда в 1986 году умирает Жан Жене, это мне поручают написать некролог. В 1988 году «Юманите» хочет напечатать мою статью «Мазохизм как государственная политика СССР при Горбачеве». Для принятия решения, печатать или нет, собирается все политбюро. Решают — не печатать. Боятся обидеть русских. Я разочарован и начинаю сотрудничать с беспредельщиками из «L'Idiot International» и крайне правыми, близкими к Ле Пену, с «Choc du Mois». В те годы я одет в темно-синий старомодный костюм и цветную рубашку с синим галстуком. У меня роман с немецкой девочкой-журналисткой, и меня охотно публикуют немецкие журналы.
С 1988-го какое-то количество лет (1988 — начало конфликта в Нагорном Карабахе, в первой горячей точке Европы) сверхсовременным феноменом становятся многолюдные народные шествия и локальные войны, горячие точки. Слава богу, я не просидел эти годы на заднице. Теперь целью моих поездок становятся сражающиеся молодые республики, а не старые города. Резко меняются пейзажи, в основном это горы: это Балканы, это Кавказ, это Приднестровье. Я упоенно исследовал войны и мятежи, карабкался по горам и долам, попадал под обстрелы. Современность воняла гниющими трупами города Вуковара, извлеченными из-под развалин. Признаками современности были перебитые осколками стволы уличных фонарей в Борове Селе. Горящее Сараево, мусульманские флаги с лилиями в грязи, по ним шагает сербская пехота. Я пил эту современность и ел ее, мне сносило башню от удовольствия лежать под обстрелом в мандариновой роще в Абхазии, идти по оголенному мосту через Днестр у Дубоссарской ГЭС, каждую секунду ожидая выстрела. Современным феноменом были многолюдные народные шествия в городах, снежинки, стучащие о красные флаги в Москве.
Мои сонные собратья-писатели не поняли и не почувствовали той современности. Потому что нет о том времени 1988–1993-го красивых книг, с этим шелестом снежинок о красные флаги. А эпоха, только придя, быстро уходила. Казалось, только что были шествия народа под красными и любыми другими флагами протеста: 23 февраля и 17 марта 1992 года и 9 мая 1993 собрались полумиллионные массы в Москве. Только по незнанию тогда не была совершена революция. Рык народа на улицах заставлял трястись кремлевские башни, некрепкие тогда. 3 октября 1993 года был последним днем, когда народ массивно вышел на улицы Москвы, не менее 300 тысяч человек прошли тогда по Москве от Крымского вала до Белого дома и прорвали кольцо правительственных войск, окружавшее его. Российская революция продлилась, увы, лишь сутки. Ледяной ветер реакции снес массы народные с улиц. Заговорили танковые орудия. «И товарищей расстреливали во дворах», как предсказал я в 1977 году в «Дневнике неудачника». Народ испугался и исчез, разбрелся по квартирам.
Мне кажется, я один понял современную эстетику бунтов и народных демонстраций, услышал шорох снежинок о красные флаги, увидел некрасивые и родные народные лица, благородно разъяренные. В то время как мои коллеги — карлики от искусства — вяло спорили о постмодернизме. Запах гари, мочи и трупов, сожженные дома, рваные кроссовки солдат, передергиваемые затворы, запах оружейного масла, корейское лицо подполковника Костенко, которого через неделю убьют свои, вскрытый как консервная банка БТР, это была современность. У Останкина я отполз из-под огня трассирующих синих и алых пулеметных очередей. Я был в бушлате французского военного моряка со споротыми красными лентами. В последующие годы я раздарил камуфлированное обмундирование нескольких республик, прекративших свое существование. Оставив себе лишь нарукавные нашивки… Гербы исчезнувших республик, не поддержанных Россией.
Тем временем мир становился иным. В мире стал популярным конформизм, переименованный в «политкорректность» (российский похуизм — тоже форма политкорректности). Одновременно мир стихает, становится тихим. В мир приходит новое измерение — Интернет.
Компьютер и интернетовская виртуальная реальность — конечно же важный феномен современности. А с ними и очкастый пройдоха Билл Гейтс — бесформенный человек-мешок. Глобальная мировая бухгалтерия, глобальная мировая переписка, глобальные мировые воры, когда можно, сидя в Калуге, украсть деньги в Бостоне, штат Массачусетс, или военные секреты Пентагона — это Интернет. И столько неисчерпаемых возможностей для ленивых модников угробить время. «До вас не дозвониться, Пелагея Петровна…» «А мой опять в Интернете сидит»,— гордо отвечает толстуха. В моем уголовном деле №171 фигурируют дискеты, найденные в моей квартире. Содержимого этих дискет я никогда не видел (возможно, мне кто-то присылал их как редактору газеты), компьютера у меня никогда не было. Одна из дискет содержит целую книгу в 262 страницы «Действие в военное время». Кажется, меня собираются обвинить в чтении этой книги. Распечатка ее с дискеты занимает целый том уголовного дела, один из тридцати. Так что современность преследует меня, хочу я этого или нет. Посмотрим еще, как я выпутаюсь из этой современности. В виртуальном мире вот можно выудить такую, в общем, полезную книгу. Одновременно виртуальный мир используют для распространения слухов, сплетен, для того чтобы задавать друг другу часто с противоположных точек земного шара вполне дебильные вопросы. В виртуальном мире обосновались, как клопы в шкафу, ленивые мальчики, девочки с козявками и жирные дяди, любящие потрепаться, сидящие на «тухесах».
Тихий мир, сонный, как ночник, экран, чуть шуршащая «мышь». Мир больного, больных. Обезжиренный и обезжизненный, где лишь пошуршивают каучуковые подошвы тапочек медсестер. Не-а, это не для меня.
С ноября 94 года я упорно делал газету и партию, учился тому, чего никогда ранее не делал,— работать с людьми. И вновь шуршали снежинки о флаги, кричали юные глотки, ударяли об асфальт массивные башмаки. Вырабатывалась идеология, притирались друг к другу люди, пацаны ходили во главе со мной вначале на пикеты и демонстрации, потом на акции, потом пошли в тюрьмы и лагеря. Во главе со мной. И это есть современность — ожоговая, кипяток, страшная, наглая, справедливая, современность реальности. Мои коллеги в испуге называли меня экстремистом, ходили на презентации и избегали современности. Нескольких моих ребят убили спецслужбы, в Риге двоим героям дали по 15 лет, обвинив в терроризме. В момент их приговора я уже сам сидел в следственном изоляторе ФСБ в екатерининской постройки крепости «Лефортово». Я современный человек.
Тем временем скончался от какой-то херни мой сверстник Джордж Харрисон. Весь в морщинах еще притопывает на сцене Мик Джаггер. Очень выцвел и слился с фоном мира когда-то экстравагантный английский мальчик Дэйвид Боуи. Сидя на железной шконке, я пришел к выводу, что я много круче вышеперечисленных товарищей.
Тринадцать тезисов о выгодах революции
Молодой человек обязан мечтать о революции по следующим причинам:
1) Ибо революция — это мгновенное изменение состояния жизни. Революция — это чудо, более или менее мгновенное исполнение всех желаний. Ибо для человека, существа временного, очень важна скорость исполнения желаний. Если скорость — шестьдесят лет, это не чудо, это рутинная скука и убийство жизни. А вот если шесть недель или хотя бы шесть месяцев — это чудо. Шесть месяцев революции, и ты командир полка, а то и армии, если в тебе есть талант, герой, историческая личность. Конечно, можно закончить военное училище, долго и трудно ползти через жизнь и звания, но это малоинтересно, и мало у кого хватает терпения на такой занудный процесс. А в революцию — бац, и готово! Твои таланты немедленно пригождаются, время уплотняется. Упраздняется тупая работа карабканья вверх на брюхе, остается чистое наслаждение.
2) Революция — такой же законный, натуральный (природный) способ изменения социального климата, как и эволюция. Более того, революция на самом деле более экономный способ изменения общества. Ведь при слишком медленной эволюции человеческие жизни могут быть загублены целыми поколениями. Например, когда слаборазвитое общество медленно набирает силы, повышает жизненный уровень, тем временем два, три поколения вынуждены жить в нищете и невежестве. Лучше быстрее, пусть ценою в сотни или тысячи жертв, но быстрее. Но зато через полгода, год — уже другое общество, народный энтузиазм открывает шлюзы народных талантов, страна стремительно и радостно набирает высоту. В распространении ложного утверждения, что эволюция — это нормально и хорошо, а революция — зло, заинтересованы только те лица, у кого власть лежит в кармане, кто держит ее в руках. То есть прославляют эволюцию именно те, кто лично страшится революции. Кому есть что терять.
3) Молодому человеку невозможно произвести своими личными только силами такие чудесные (и главное, быстрые) изменения в своей судьбе, оказаться в ситуации неограниченных возможностей, которые представляет революция. Это выше его сил. Один человек не может изменить причинно-следственные связи целого общества. Ситуация революции предоставляет эти возможности целому поколению.
4) Революция предоставляет возможность жить больше чем хорошо, она предоставляет возможность жить необыкновенно интересно, небанально, празднично, экстремально. Такого удовольствия не даст никакая эволюция.
5) Революция действительно чудо и сказка, ибо практически мгновенна для основной массы ее участников. А скорость времени и есть чудо. Только те, кто готовил революцию, знают, что революция приготавливалась. Для остальных — она чудо, «бог из машины».
6) Революция крайне выгодна народу и стране. Поскольку это мгновенный сброс, уничтожение, отстранение, смена отработанных людей. Освобождаются миллионы мест, места руководителей. Приходят новые, не иссякшие, полные сил люди. Без революции они не вытолкались бы вперед.
7) Жизнь удлиняется политикой и революцией. В партии ты всегда мужчина (как в тюрьме до семидесяти ты — пацан), тогда как обыватель перестает быть мужчиной довольно скоро. Как писал о «пролах» (пролетариях) в своем бестселлере «1984» Джордж Оруэлл: «Пока они молоды, они бывают даже красивы. Но они очень недолго остаются молодыми». В революции ты молод, пока ты хочешь этого, ибо она измеряет тебя не свежестью твоей физиономии или величиной мускулов, а степенью полезности для народа и партии.
8) Идеология революции куда менее важна, чем сама революция. Важно, чтоб она предлагала (и была) новой формой общественной жизни на земле. А уж энергия людей все сделает как надо. Будут желаемые эксцессы. Потому что именно их не хватало в жизни до революции. Революция — это еще и поиск эксцессов.
9) Ну да, революция есть и месть за то, что было до революции, и за то, чего не было. Скажем, не было опыта вхождения в дорогой магазин во главе толпы бедняков. Смотришь, с каким наслаждением люди берут товары и не платят: старухи, пенсионеры, бомжи. Хорошо сделать людей счастливыми.
10) Революция — это феерия, празднество на открытом воздухе, когда все вековые законы нарушены. И от этого — от нарушения законов — наступает великолепный катарсис, иными словами, чувственное, этическое и эстетическое наслаждение.
11) Те, кто приводит в качестве доводов против революции революционный террор (обыкновенно более всего говорят о якобинском терроре в период Французской революции после 1789 года и после Русской революции 1917 года), поступают бесчестно или недобросовестно. Террор есть всего лишь видимая степень жестокости общества. Какой-нибудь римский император-самодур, Калигула или Нерон, массово уничтожал, бывало, своих подданных безо всякой революции. В царствование английской королевы Елизаветы I казнили 83 тысячи человек безо всякой революции, самым законным образом. Исторические события, оцениваемые как безусловно положительные, приводят порой к большим жертвам. Скажем, независимость индийских колоний стоила им одного миллиона убитых и 13 миллионов беженцев междоусобной войны индусов и мусульман. Для сравнения: французский революционный террор унес жизни пяти тысяч человек на гильотине. Наполеоновские войны стоили Франции миллион жизней. Вообще, пугать человека смертью, его профессиональной болезнью — бесчестно. Смерть и так и так задана в проекте под названием «человек».
12) Революции должны быть. Это санитарные меры по оздоровлению нации, страны и общества. Сухие и гнилые деревья, упавшие, забившие тайгу, часто горят сами. Территория таким образом освобождается, и на этом месте уже следующей весной всходит молодой лес. Революция — средство освобождения от гнусных Михалковых, от их династий.
13) Все население любой страны, любой народ делится на тех, кого власть устраивает, таких меньшинство, и тех, кого она в высшей степени не устраивает, в себя не включает или даже противоборствует их деятельности. Первые — это социально удовлетворенные Михалковы, вторые — это социально неудовлетворенные Лимоновы и Аксеновы. Потому ясно, что любые радикальные изменения невыгодны Михалковым, и любые изменения в сторону расширения круга людей у власти или изменения состава этого круга выгодны Лимоновым и Аксеновым.
О государстве (Читая П. Кропоткина)
В «Записках революционера» князь Петр Кропоткин пишет интереснейшие вещи:
«Распадение социалистического движения на две ветви определилось тотчас же после франко-германской войны. Как я уже упомянул, Интернационал создал себе центральное правление в лице Генерального совета, пребывавшего в Лондоне. И так как душой Совета были два немца Энгельс и Маркс, то он вскоре стал главной крепостью нового социал-демократического движения. Вдохновителями же и умственными вождями латинских федераций стали Бакунин и его друзья. Разлад между марксистами и бакунистами отнюдь не был делом личного самолюбия. Он представлял собой неизбежное столкновение между принципами федерализма и централизации, между свободной коммуной и отеческим управлением государства, между свободным творческим действием народных масс и законодательным улучшением существующих условий, созданных капиталистическим строем».
То есть разногласия возникли по вопросу государства. Каким должно быть государство, и должно ли оно существовать вообще. Маркс и Энгельс выступали, как подобает социал-демократам, за традиционное патерналистское (Кропоткин называет его отеческим) государство, революционерам лишь следует улучшить его после победы. Бакунин же высказывался исчерпывающе, заявляя, что изыскивать заранее форму послереволюционного общественного устройства вообще не есть задача революционера.
«Наука, самая рациональная и глубокая, не может угадать формы будущей общественной жизни. Она может определить только отрицательные условия, логически вытекающие из строгой критики существующего общества».
Поэтому, считал Бакунин,
«никакой ученый не в состоянии определить даже для себя, как народ будет и должен жить на другой день социальной революции».
Всякие попытки в этом направлении Бакунин объявлял вредными, отвлекающими от подлинно революционных, разрушительных задач борцов с существующим строем, на развалинах которого новое общество сложится само собой, соответственно идеалам, живущим в народе.
«На Гаагском конгрессе в 1872 году лондонский Генеральный совет путем фиктивного большинства исключил из Международного совета рабочих Бакунина, его друга Гильома и всю Юрскую (Швейцарскую) федерацию. Но так как было несомненно, это испанская, итальянская и бельгийская федерации примут сторону юрцев, то конгресс попытался распустить Интернационал,— пишет далее Кропоткин.— Конгресс постановил, что новый Генеральный совет, состоящий из нескольких социал-демократов, будет заседать в Нью-Йорке, где не существовало рабочих организаций, которые могли бы контролировать Совет. И с тех пор так о нем и не слыхали, тогда как Испанская, Итальянская, Бельгийская и Юрская федерации продолжали еще существовать лет пять или шесть. И ежегодно собирались на обычные конгрессы».
Таким образом, эта распря по поводу государства расколола Международный союз рабочих, иными словами Интернационал.
«Бакунин умер в Берне 1 июля 1876 года»,—
продолжает Кропоткин. Через месяц после смерти Бакунина в Берне собрался конгресс Интернационала. Решено было на могиле Бакунина сделать попытку примирения между марксистами и бакунистами.
«Примирение было отчасти налажено. Каждой стране предоставлялось придавать социалистической деятельности тот характер, который найдут нужным. Если Германии больше всего подходит парламентская социал-демократическая деятельность — пусть так и будет. Анархисты не станут нападать за это на немцев. Но зато пусть и немцы предоставят Италии, Испании, Швейцарии и Бельгии идти своим путем, не прибегая к таким гнусностям, как, например, обвинение Бакунина в шпионстве, в котором обвиняли Бакунина марксисты в пятидесятые годы. Либкнехт с Бебелем, приехавшие на Бернский конгресс, ругались за это от имени партии».
Из вышеприведенного свидетельства Кропоткина становится очевидно, что корни событий XX века следует искать в веке XIX. Тогда становится понятным, почему в испанской партии анархистов в период гражданской войны в Испании мы видим просто огромную массу людей — более миллиона человек. И становится понятным, почему значительная партия анархистской направленности никогда не возникла в Германии. Широко известно, что анархисты были самой значительной вместе с футуристами по численности группой на учредительном съезде Фашистской партии Италии в марте 1921 года. Очевидно, что выбор характера социалистической деятельности совершали сами нации бессознательно, в соответствии с их национальным характером каждая. Видно, что южные католические европейские нации предпочитали более свободные формы государственности, были склонны к «бакунизму», как тогда называли анархизм, термин «анархизм» пришел на смену бакунизму позже. В то время как северные, протестантские, склонялись к социал-демократии, к модели отеческого государства. Несомненно, что сыграла здесь роль и разница северного и южного темпераментов.
Распря бакунистов и социал-демократов не закончилась ни со смертью Бакунина, ни со смертью Маркса и успешно перекочевала в XX век и продолжилась на фронтах испанской Гражданской войны, когда коммунисты (наследники Маркса) выступили против анархистов с оружием в руках. Братоубийство происходило и в солнечной Украине, вольная анархо-республика батьки Махно в Гуляй-Поле пала под ударами войск ВКП(б), еще недавно называвшейся Социал-Демократическая Рабочая Партия.
Отеческое государство социал-демократов (на нем настаивали Маркс и Энгельс) сумело просуществовать в России около 70 лет. Бакунистские же государства просуществовали в Испании и на Украине островками во враждебном море, каждое не более года.
За вполне почтенный 70-тилетний возраст марксистский эксперимент был осуществлен полностью, нельзя сказать, что он не закончен. Закончен полностью. На основании эксперимента можно говорить о сильных и слабых сторонах государства, сделанного (точнее улучшенного) согласно Марксу. Государство Ленина-Сталина было репрессивным для выдающихся индивидуумов, но отечески благодушным и благотворным для нации в целом. Совсем маленький, послушный человек чувствовал себя в том государстве наилучшим образом. Властное репрессивное государство оказалось наилучшим образом приспособлено и к войне за выживание с мощным государством германского национал-социализма. Оба были надстроены и переделаны из модели капиталистического государства отеческого типа, были лишь его модернизированными версиями.
Однако оба типа государства — и марксистское социал-демократическое (коммунистическое) и национал-социалистическое — оказались сконструированы для постоянной войны (расовой и войны пролетариата). Простой длительный мир был для них опаснее холеры и чумы и любой новой сокрушительной эпидемии. Если бы не гибель национал-социалистического государства от рук государства коммунистического, Рейх ждала бы судьба СССР — он погиб бы от длительного мира. Государства, задуманные для войны (расовой или угнетенного пролетариата, не имеет значения), не выносят мира. Что успешно доказал Союз Советских Социалистических Республик, загнувшись от сорока лет мира, от покоя.
Уже открывшему рот оппоненту могу сказать: «Закрой обратно!» Нет, Афганистан тут не катит. Нужно было напряжение всех сил всей нации, а не вялотекущая война где-то в далекой Азии, где за девять лет погибло вполовину меньшее количество людей, чем погибало за год в автокатастрофах внутри страны.
То, что государство Ленина-Сталина самоуничтожилось,— уже довод против такой модели государства. Собственно, это была не модель Маркса, но классическое государство патерналистского типа, лишь его модернизированная модель. В нем роль самодержца играл избранный Генсек, а роль дворянства — партия. Ну конечно, профитировали от такого государства массы маленьких людей, а тяготы репрессий несли на себе неординарные граждане. Семьдесят лет опробовали. Можно произнести вердикт, приговор. Нет, такое государство, такая организация общества (помимо того, что она не выдержала испытание временем) еще и несправедлива, неинтересна и аморальна, так как уничтожала лучших, срезала выдающихся, сохранила полностью отвратительные обычаи предков: русский адат, постыдные традиции крепостного права, когда начальник угнетает подчиненного, отец — семью, командир — солдата. Мы, ныне живущие в России, не хотим, чтобы над нами стоял старомодный советский отец-деспот, и сами не хотим быть такими отцами. Осудить модель патерналистского государства тем более необходимо, что оно временно возвратилось на земли России после краткого перерыва. Реставрация Совдепа произошла во главе с подполковником Путиным.
До чего достукалось классическое капиталистическое государство, против которого выступали и Маркс и Бакунин, лучше всего обозримо на примере Соединенных Штатов Америки. Успешно выстояв в XX веке против модернизированных государств Германии и затем СССР, американское государство успешно включило некоторые элементы их идеологии и инфраструктур в структуру своей государственности (например, профсоюзы, допустило существование политических партий рабочего движения, допустило некоторые свободы). Однако, лишившись идеологически сильных государств-врагов, американское государство стало быстро деградировать и возвращаться к тем ленивым и наглым формам государственной гегемонии, которые были характерны для него в XIX веке, до появления фашизма и коммунизма. Последние, оказывается, сдерживали агрессивность Соединенных Штатов, заставляли эту страну вести себя в мире более «цивилизованным» образом. Сейчас, когда фашизм и коммунизм и порожденные ими империи Третий рейх и Союз Советских Республик почили в бозе, США опять проводят политику дредноутов и канонерок, только теперь на территории некоторых стран американцы прибывают не по морям, как в XIX веке, а по воздуху. Агрессивность этого классически аррогантного, заносчивого капиталистического государства, впрочем, довольно быстро вызвала к жизни невероятный феномен — а именно заговор самоубийц. 11 сентября группа граждан арабского происхождения, захватив четыре самолета гражданской авиации США, ударила воздушной атакой типа «таран» по важнейшим символическим объектам государственности Соединенных Штатов. Три таранных удара, два по двум башням Мирового торгового центра и один по Пентагону, оказались успешными. Оказалось, что группе граждан вполне по силам нанести чудовищное поражение самому сильному государству мира. Если же задуматься о причинах удара группы арабских граждан по США, ясно становится, что причина — несправедливое, дикое поведение Соединенных Штатов как государства. Соединенные Штаты самовольно выбомбили государство Ирак, выбомбили и заставили подчиниться себе государство Югославию, они без зазрения совести наметили себе еще ряд жертв, назвав их «государствами-изгоями». Подобный возврат к дичайшим нравам периода колониализма XIX века и, более того, возврат к дикости пещерной, где основным постулатом поведения являлась физическая сила, заставляет задуматься. Если так себя ведет в благоприятных условиях безнаказанности государство, еще вчера громче всех кричавшее о правах человека, то дело тут, должно быть, в государстве как таковом. Эта общественная структура порочна изначально. Эта форма существования общества архаична, дика, античеловечна, она изжила себя. Так? Да, так.
Особо следует остановиться на российском государстве. Разумеется, в прошлом у нас есть военные победы, мы блистательно выиграли историческую борьбу с соседями — с Польшей, Турцией, Швецией — за жизненное пространство. Мы сумели создать вдалеке от посягательств врагов отстойник русской нации в бассейне Волги и там вывели, выносили самую крупную на сегодняшний день европейскую нацию — русскую. Уже с XVII века враги были удалены на безопасное расстояние от этого нашего русского инкубатора. Затем мы медленно стали заглатывать соседние страны на юг и на восток от Волги, благо и в культуре и в военном искусстве они были много слабее нас. Уже в XVIII веке русское государство вмешивалось в дела Европы. Правда, Первая мировая война отбросила нас на уровень Индии. Там бы нам и оставаться среди медленных стран Востока, но большевики гальванизировали страну новой идеологией. Кульминацией истории Российского государства стала битва за Берлин в апреле 1945-го. После нее мы владели половиной Европы и Германии. В дальнейшем мирная жизнь уничтожила СССР. Но некоторое время мы были великой нацией.
Но какой ценой досталось нам историческое величие государства! Ценой отвратительного рабства над человеком. Нет ни одного исторического периода, когда бы гражданам у нас жилось хорошо. До 1861 года у нас существовало крепостное право.
«Вся русская жизнь — в семье, в отношениях начальника к подчиненному, офицера к солдату, хозяина к работнику — проникнута им. Создался целый мир привычек, обычаев, способов мышления, предрассудков и нравственной трусости, выросший на почве бесправия»,—
так комментирует крепостное право тот же князь Кропоткин. Насадило крепостное право, культивировало его и надзирало за ним российское государство во главе с самодержцем всея Руси. Сколько было восстаний, сколько было попыток народа сбросить это иго и в XVII и в XVIII веках. Достаточно вспомнить только народные восстания Разина и Пугачева. Восстание Разина, собственно, и началось с того, что московская власть выслала в верховья Дона, в нынешние Белгородскую и Воронежскую области, в вольные казачьи городки, являвшиеся тогда пограничными крепостцами — защитниками Руси от набегов со стороны Великой Степи — Дикого Поля,— выслала отряды для поимки бежавших сюда во множестве крепостных. Так называемых реестровых, числившихся законными, казаков было в верховьях Дона ничтожно мало, все остальные защитники Отечества были беглые. И вот является отряд с пушками, во главе с воеводой, заковывает «беглых», уже вольных, уже казаков, защитников Родины в колодки, сажает на подводы и везет в Московию. Ясно, что в казачьих городках начались волнения, часть беглых отбили… Так именно началась крестьянская война, во главе которой позднее встал Разин. Увы, освободиться не удалось ни тогда, ни через столетие в восстание Пугачева. Когда в 1917 году большевики заговорили с народом языком, в котором были слова «рабочий класс», «угнетенные», «весь мир насилья мы разрушим», в этих словах слышались отзвуки словаря прелестных писем предводителей народных восстаний, пользовавшихся схожим словарем, где были «черные люди», «большие люди». Казалось, пришла свобода. Оказалось просто сменились угнетатели.
Через без малого полтора столетия после отмены крепостного права мир привычек и обычаев, созданных рабством, сохранился, без видимого ущерба для себя. Советская власть, разумеется, не учила своих полковников и генералов использовать дармовой труд солдат на строительстве собственных дач или сдавать солдат внаем коммерсантам нерусской национальности. Такие импульсы пришли к полковникам и генералам из времен, когда крепостных можно было обменивать на борзых щенков. Почему же не использовать солдат на строительстве? Начальник в российской действительности куда более, чем просто организатор коллективного труда для пользы и преуспеяния всего коллектива работников, это еще и государь в миниатюре, отец-помещик, требующий бытового преклонения. Всякая власть в России абсолютна, независимо от ее величины. Потому так невыносимо абсурдно строги наши вахтеры, зачастую не охраняющие ничего, кроме двери. Потому так нахально важны пожарники. Потому наши чиновники выпендриваются, подламываясь под фатум-судьбу. Даже ничтожный, только что приехавший из какой-нибудь Мордовии мент устанавливает у метро, где расположен его пост, нечто вроде самодержавия и изощряется в абсолютизме. Единственно, что чуть ослабла власть семьи отцов, да и то по причинам деградации самих отцов, пьяных и слабых, их не уважают дети.
Вглядитесь в современность пристальней. Каждую неделю, а то и чаще, бегут куда-то из армии, раньше бежали безоружные, ныне — вооруженные автоматами солдаты. Побеги эти приобретают все более кровавый финал. Трудно понять, куда они бегут. Одни якобы собирались примкнуть к криминальному сообществу, другие якобы выбить какой-то долг. На самом деле, как и в XVII веке, они бегут от невыносимой жизни в Московии — от проверок документов, контролей, облав, прописок и регистрации, созданных режимом. Так их далекие предки бежали на Дон. А сейчас Дона нет, куда не побеги — все та же злобная, унылая Русь. Возникает твердое убеждение, что российское государство вообще не может быть хорошим к своим собственным гражданам. Его агрессия направлена в отличие от капиталистического, американского государства не вовне (не outside), но внутрь, на граждан своей нации. (Для этого достаточно проанализировать российскую историю.) Тогда возникает вопрос: если российское государство со времен, когда оно справилось с задачей создания и защиты отстойника нации в бассейне Волги, всячески тиранит и угнетает своих граждан, то зачем сохранять такое государство? Только лишь из опасения, что вдруг без него будет еще хуже?
Патриот на манифестации у американского посольства с гордостью говорит: «Я государственник». Патриот плохо одет, его избила милиция, и у партии, которую он поддерживает, нет ни одного депутата даже в местных органах власти. Можно ли быть патриотом и не быть государственником? А был ли государственником Степан Тимофеевич Разин? А Емельян Пугачев? Вопросов много, и страшно, конечно, поставить самый радикальный: а что, если российское государство выродилось в слепую машину для угнетения граждан? А за этим, конечно, еще страшнее поставить вопрос: а нужно ли вообще Российское государство? В том, что государство американское следует уничтожить, я не сомневаюсь.
Вернемся к спору Маркса и Бакунина. Свободные коммуны Бакунина, объединенные в союз, настолько недолго просуществовали, что эксперимент можно считать несостоявшимся по техническим причинам. Потому он и вызывает интерес. Централизованное государство, зародившееся в Европе всего лишь в XVI–XVII вв., достигло апогея своего развития еще в начале XX века, и дальнейшее существование этой модели общественного существования причиняет неудобства гражданам. Две мировые бойни могут быть вполне и всецело отнесены именно на счет государств. Эта форма общественного существования вызвала войны. Столкновение государств — вот что такое были две Мировые войны.
Повсеместное неудовлетворение старым классическим государством вызвало в последние годы к жизни движение антиглобализма. Собственно, составляющие антиглобализм силы — не новые силы. Это все те же группы анархистов, социалистов, троцкистов, зеленых. В старом споре Маркса и Бакунина уже проиграл Маркс, хотя еще и не победил Бакунин.
«Россия — щедрая душа…»
Есть реклама конфет: «Россия — щедрая душа!» Это неправда. Люди у нас жадные. Знаю по опыту редактора газеты и лидера политической партии. Богачи предпочитают выбрасывать в дорогих ресторанах тысячу долларов за вечер, чем дать денег на молодежную газету. Ну ладно газета — в ней их может стеснять политическое направление. А вот как с состраданием? Нет, не раскошеливаются они на узников. Покойный фабрикант трикотажа Паникин, помню, дал на восьмерых ребят, арестованных в Латвии (еще переспросил: «Сколько их?»), четыре билета по пятьсот рублей, то есть две тысячи! Опубликовав в нескольких газетах обращение с просьбой о помощи узникам, получили унизительный результат — всего несколько тысяч рублей. Есть честные бедные — шлют последнее, ну а богатые и средние… Вам что, пацаны, посаженные в Латвии за то, что заступились за русских стариков-партизан в латвийских застенках, не свои? Им что, помочь не надо? В тюрьме я наблюдаю ту же прижимистую жадность, «Тут у меня чая килограмма два»,— показывал мне прозрачный мешок, набитый чаем, бандит-сокамерник. И никогда не открывал. Мы пили мой. Когда он кончился, я купил чаю в ларьке. «Ну зачем было покупать,— сказал бандит и похлопал по своему мешку.— У меня же тут есть чай». Он, кажется, даже открыл его в тот раз. Но на следующий день мешок опять оказался на месте складирования, на самой верхней полке. Сокамерник — крутой и был на Матроске кем-то вроде смотрящего.
Русский щедр на свой собственный выебон: на заметный автомобиль, например, может оставить в кабаке много денег, но это не щедрость, это тщеславие. По «ящику» я услышал вчера о спонсоре юного одиннадцатилетнего вундеркинда-музыканта. Спонсор, оказывается, выплачивает пацану 250 рублей в месяц! С сокамерником Иваном мы смеялись: ну щедрый спонсор, и на канифоль, наверное, для скрипки на месяц не хватит.
Кто внушил русским, что они добрые и широкие? Фильмы — подделки под XIX век, где патлатые и бородатые купцы спьяну приклеивают ко лбу полового ассигнации Государственного банка? Но в российских газетах постоянно натыкаешься на слезные просьбы о помощи: речь идет о сборе средств на хирургические операции, или ребенка, или беспомощного инвалида. И то, что требуется, порой достаточно скромная относительно сумма, редко превышающая 10 тысяч долларов, заставляет верить, скорее, что русские — безграничные жмоты. При наличии такого количества богатых и очень богатых людей в стране, откуда такие мольбы? Я имел случай наблюдать в конце 70-х гулявшего в Париже и в Нью-Йорке в кабаках Шемякина, обыкновенно он поил и кормил весь вечер каких-то случайных людей, измываясь над несколькими и лобызая других. Иногда оказывалось, что у него не хватало денег: частично он платил, а на оставшуюся сумму писал расписку. (Причем его безбожно, нахально обманывали официанты.) Расплатившись, он уезжал, и только тогда его гости расслаблялись и тщательно доедали и допивали оставшееся на столе. У меня тогда были большие трудности с деньгами. Я с горечью думал, что, если бы даже он дал мне половину той суммы, которую бесцельно подарил в этот вечер прощелыгам-официантам и случайным людям, «голи кабацкой», я мог бы заплатить за квартиру за полгода вперед и спокойно писал бы свои книги. Но Мишке надо было выебнуться на публике, посорить деньгами публично. А если бы он дал мне денег, об этом узнали бы немногие.
В мои тяжелые годы в Нью-Йорке мне порой совали то 10, то 20 долларов сами небогатые фотограф Ленька Лубяницкий, покойный ныне Генка Шмаков. «Пойдите пожрите, поэт, вы бледный, как весенняя муха»,— говорил Ленька. Кажется, оба были евреи. Был русский дядька Леня Комогор, я о нем в книгах своих писал, хороший был человек, царствие ему небесное. Но один.
Все щедрые девки в моей жизни были нерусские девки. Джули Карпентер — американка, Бетси Карлсон — американка, Жаклин де Гито — французская контесса, ну ладно, у контессы деньги были, Джули и Бетси зарабатывали свои доллары в поте лица своего. И на меня тратили, потому что у меня не было, потому что я был бедный эмигрант. А русским девкам, так оказывалось, что им всегда были нужны деньги на себя. Сколько я их знал и в начале жизни, до отъезда за границу, и приехав сюда, нашел их такими же: смотрят на мужика как паук на муху. Для американки мужик — партнер-напарник, с которым делятся, если у него нет; для русской — мужика надо обмануть, выставить, раскрутить. Русской мужик — враг!
Русский классик Лев Толстой (вспоминаю книгу о нем Шкловского) в юности проигрывал в карты деревеньки, леса, несколько усадеб проиграл, ну и крепостных слуг с ними. В карты. Русский классик в юности, на самом деле ему было лет за тридцать. Такие шалости, знаете. Шкловский пишет, что к проигрышам Толстой относился равнодушно, лишь жалел какой-то усадебный дом, в котором, если не ошибаюсь, родился. Русские сами себе все прощают…
Никита Сергеевич Михалков ногой в лицо моего пацана Димку Бахура бил, когда его, деятеля киноискусства, за руки держали. Распечатку с видеокассеты потом газеты перепечатали, в том числе «Новая газета». Пацана четыре месяца в Бутырке держали, где он туберкулез заработал. Что, где-нибудь покаялся толстый боров Михалков, посожалел, извинения принес, что за два яйца, брошенных в него, так пацан пострадал? Ничего подобного. Продолжает вещать с экранов телевидения о России, нравственности, государственности. Мой первый сокамерник «наседка» Леха с упоением рассказывал, как совершал квартирные кражи в квартирах лучших своих друзей, делая слепки с их ключей. Ну этот, что с него взять, работает на эфэсбэшную шпану. Проигрывать в карты деревеньки — гнусно, бить пацана ногой в лицо, в то время как его схватили и держат четыре бугая,— гнусно, воровать ключи у друзей и обворовывать их квартиры — гнусно. Возможно, и другие народы творят свои гнусности, но они и помалкивают большей частью в тряпочку, какие есть, мол, молчим. А русский любит поразглагольствовать о своей бескорыстности, о своих духовных качествах, о своей щедрости, о последней рубахе, о широкой, очень широкой русской душе, о святой Руси. Русский высокомерно считает, что у американца нет души, что он сух и скуп. То же самое он думает о французах. Когда начинаешь ему рассказывать о Джиме Хайнце, скромном преподавателе английского языка и литературы, сорок лет он живет в Париже в мастерской на Монмартре и кормит все эти годы сотни людей в своей мастерской, или о том, что француз как грузин ведет тебя, приятеля, в ресторан, даже если он беднее тебя, русский высокомерно улыбнется. Он не верит, а вообще убежден в русском превосходстве: наши «братья» №2 и №3 круче всех бандитов мира, наши женщины красивее всех, наши мошенники самые изобретательные… наши подлецы самые подлые.
Русским надо долго смотреть на себя и свои поступки в зеркало. Как бывшая красавица по привычке считает себя красивой, так и Россия на самом деле давно не красива, стара, плохо пахнет, плохо ходит, скаредна, немилосердна, полна предрассудков. Русские давно не щедры, они давно не лучшие солдаты, они давно не добры, они далеко не самые лучшие спортсмены (что отлично показала Зимняя олимпиада, а почему, уже другой вопрос, плохому танцору, говорят, яйца мешают), и как криминалы все братья — 2 и 3 и более,— скорее, проявили себя в бессмысленных преступлениях.
Зачем я разоблачаю русский народ? Затем, чтобы он осознал, в каком он сейчас состоянии, и предпринял меры, для того чтобы воистину быть щедрым, добрым, храбрым, героическим, солдатским, умным и веселым народом. Похабные мессианские заклинания о нашей святости, беспорочности, жертвенности, особо тяжкой и особо великой судьбе следует прекратить. Замолчать. Нужно стать великим, а не болтать о былом величии.
Надо стать добрыми. Те же старухи, те же пенсионеры, что стенают о святой и несчастной Руси, без жалости доносят на бежавших из тюрем или колоний несчастных зэков. Стукачество на Святой Руси ныне культивируется на телевидении, есть передача «Внимание, розыск!». И граждане охотненько стучат. И за смертную казнь высказываются, руки тянут добряки с русской душой. Никакой доброты нет в русском народе. Скорее, я констатирую определенную душевную жестокость в русском народе. Скорее, наши традиции палачества (достаточно побывать в любом отделении милиции одну ночь) сильнее, чем традиции доброты.
Русские не любят иностранцев, критически писавших о России, особенно ненавистен им де Кюстин, однако Гоголь еще страшнее изобразил русских. Ко всему к этому нужно прислушаться и приглядеться. Некоторые человеческие типы хорошо бы исчезли из набора российских типажей. Не хер тащить всех Ноздревых и Коробочек через века!!
Иностранцы часто замечают, что русские «тяжелые». Действительно, сядет такой, поддаст и загружает собой всех до упора. Люди хотят общаться, а он всех загрузил. Навязчивой болтливостью и свинцовой тяжестью бездельной души у нас обладают многие. Многие — это еще не народ, конечно, но уже многие. Такие люди — как бездонные бочки. Они охотно общаются, поглощая ночи напролет энергию других. Знаменитые достоевские разговоры русских ведь не что иное, как демагогия праздных болтунов и позеров.
Я — органичная часть русского народа, другого у меня нет. Меня угораздило родиться из русского лона, из русской спермы я зачат. Никем другим я быть не могу и не хочу. Тем более ответственности я испытываю за свой народ. Я хочу, чтобы он был иным, здоровым, умным, добрым, честным, справедливым и милосердным. Я ненавижу тех, кто сдает зэков, бедных и затравленных. «Ну-ка, положи трубку телефона, старая сука!»
Интересно, что, когда мой защитник обратился с просьбой написать поручительство за меня, русские патриоты Солженицын, Зиновьев и Говорухин отказались. Охотно подписал, пришел ко мне в тюрьму (добился разрешения), прислал мне телевизор депутат Госдумы латыш Виктор Имантович Алкснис. Самым спокойным, достойным и дружелюбным сокамерником из тех, с кем я до сих пор сидел, оказался чеченский боевик, подельник Радуева Аслан Алхазуров. Самым выносимым и, как бы это выразиться, ну, человечным, что ли, в бригаде следователей оказался дагестанец майор Юсуфов, русские же подполковники Баранов и Шишкин — просто подлейшие, мелочные исчадия ада.
Новый русский народ нужен, только и всего. Старый выродился. Это мой вывод. «Русские — в жопе узкие»… вот что.
Ну ясно, не все так мрачно. Есть Толя Быков — народный олигарх,— щедрый человек. Есть молодой Сергей Шаргунов, отдавший мне свою государственную премию «Дебют» за лучшее прозаическое произведение, это около двух тысяч долларов, спасибо, Сергей, но я говорю не о людях исключительных, такие есть.
Нормальные русские невыносимы. Однако есть еще Россия — тайная душа. Это солдаты с автоматами, бегущие в кровавую самоволку. Это девочки, взявшись за руки падающие с крыш. Это заключенные, бегущие из тюрем. Мне близки эти братишки и сестренки, потому что они страдают. И я страдаю. Мы — это Россия, тайная душа.
«Мы страна великой культуры…»
Некто Лукин, известный депутат Госдумы от фракции «Яблоко», во время телепередачи «Свобода слова» сообщил собравшимся, что Россия — «страна Великой Культуры». Предполагается верить на слово этому утверждению, широко распространенному и никем не оспариваемому.
На самом деле Россия пришла в культуру довольно поздно, позднее многих европейских стран. У нас существовала религиозная живопись — искусство иконописи, завезенное из Византии. И это неоспоримо. Целью иконописи было изготовление предмета культа, культовых изображений, так что это было скорее ремесло, чем искусство. Что касается светской живописи, то она появилась у нас очень поздно. Где-то в позднем XVIII веке появились наши первые портретисты, изготовлявшие портреты знатных людей. Вспомним, что в Италии уже в ранние Средние века, а в Северной Европе в XV и XVI веках существовали Великие Школы живописи и Великие живописцы. Джотто, Пьетро де ла Франческо, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Рубенс, Босх, Брейгель и сотни других имен, каждое ярче всех российских живописцев, вместе взятых. Позднее в XIX веке Иванов, Брюллов, Репин или Серов, Айвазовский или Левитан так и не поднялись с колен, это вполне третьеразрядные дарования. Приходится признать, что наша живопись ничтожна. Правда, по части эксцентричности репутацию России на живописном фронте несколько спасают сразу за порогом XX века авангардисты 10-х и 20-х годов — во главе с Кандинским, Малевичем, Шагалом. Ну и конечно такие фигуры, примыкающие к живописи, как Татлин, Мельников или Родченко.
Может быть, наша литература — Великая литература? Я считаю, что литература у нас очень бедненькая. Неяркая, как среднерусский пейзаж. Первый русский поэт Василий Васильевич Тредиаковский в XVIII веке бывал порою бит при дворе палками. Ни русского Вольтера, ни русского Руссо, ни Свифта, ни Гете, ни де Сада у нас не было. Ну, скажем, из Ломоносова мог был бы в других условиях получиться энциклопедист Дидро. А вообще-то ничего выдающегося в нашей литературе не наблюдается до середины XIX века. Хваленый Пушкин — банален, Пушкиных во Франции было в его времена завались — штуки три или пять… вот тычу наугад: Проспер Мериме, Альфред де Мюссе, Альфред де Виньи… Потом появился уникальный загадочный Гоголь, и после него дело поправилось. С 1850-го по 1920-е годы мы стали поставлять если не уникальных мэтров литературы, то поставили все же несколько тяжеловесов хорошего уровня. (Пока при Советах не образовалась опять мерзость запустения.) Мыслители появились, несколько оригинальных, во второй половине XIX века (но думать всегда русские могли плохо, русский писатель — это большей частью дурак. Редко кто у нас умеет думать). А если кто умел думать, как Герцен, или Константин Леонтьев, или Бакунин, то их мало читают и читали.
Надо смирить свой гонор и согласиться, что в общем литература у нас бедненькая. Может, помимо европейской традиции у нас все наши века существовала рядом другая? Нет никакой другой. Разве что протопопа Аввакума с его «черви в душах кипят», но он такой один в русской литературе.
Крылов перекатал свои басни у Лафонтена, а тот — из европейской традиции. «Горе от ума» — трескучая, но посредственная вещь. Пушкин нравится всем за свою банальность,— короче, неприглядненькая такая заунывная равнина, где вдруг мощный «Тарас Бульба», да и тот украинский, яркий, с юга. Лев Толстой крайне зануден. Популярный Достоевский… если первые страницы «Преступления и наказания» великолепны, то дальнейшие сотни страниц — просто глумливая грязь религиозного позерства, сопли и слезы провинциальных актеров, искусственная повышенная скорость истерики… Пьянь юродивая из «Рюмочной». Россия — страна третьестепенной литературы XIX века, и только. А литература XX века у нас плохо состоялась. Конечно, у нас есть бесспорно гениальный Хлебников, но, как и в случае с Леонтьевым, Герценом и Бакуниным, его мало читают. Есть Гумилев и Маяковский, но ни одного мощного прозаика.
Но то, что у нас была бедненькая культура, еще полбеды. Настоящее нашей культуры и вовсе ничтожно. Из-за диктаторской руки советской власти у нас отсутствуют целые два-три поколения творцов, которые поместили бы нашу нацию в современность. Я уже писал об этом подробно в лекции «Трупный яд XIX века», здесь же остановлюсь лишь в связи с необоснованными мессианскими претензиями наших публичных представителей и обывателя. У России не было ни Селина, ни Жида, ни Миллера, ни Оруэлла, ни Пазолини, ни Юнгера, ни Жана Жене, ни сюрреалистов, ни Камю, ни Сартра — того, что есть современная, что было современной литературой XX века, вместо них кинокомедии безнадежно изломали российскую душу. Вытеснив из этой души все героическое и наполнив ее только обывательским. Ибо кино, к сожалению,— тоже культура.
«Страна великой культуры» — видите ли. Вранье! Страна с посредственным историческим багажом культуры. И с полным отсутствием современной культуры. Можно по-своему понять всяких наших опрашиваемых «политиков» или «элиту», когда они на вопрос «Ваш любимый писатель?» вдруг объявляют: «Пушкин» или «Толстой». Потому что ничего более современного и бесспорного каталог российской культуры им предложить не может. Не Бубеннов же какой-нибудь, не советские же литераторы с испитыми лицами парторгов? «Деревенщики» — не литература, а вопли Руси уходящей. Нет, ушедшей…
А без современной литературы страна себя понимать не может. Без типажей каких-нибудь, без «разночинцев», «отцов и детей» тургеневских (или семеновских, если б были таковые), без героя нашего времени или антигероя людям не понятно, что происходит, кто они сами есть. А кино с изготовлением типажей для подражания не справляется. А в 60-е и 70-е оно (кино) вообще совершило негативную, преступную работу, очаровав русского человека подлейшей какой-нибудь троицей алкашей — Вицына, Моргунова и Никулина,— внедрив тем самым (я совершено серьезно так считаю!) социальную моду на упадочный тип дегенерата. Не Базаров, не Рахметов, но дегенераты Никулин, Вицын, Моргунов — вот кто был героями нашего времени. И еще остались. И сколько нужно будет потратить сил нации, чтобы устранить ущерб, нанесенный этими ублюдками — экранными типажами. Потому мы превратились в нацию «Колянов» и «Наташ», не уважаемую никем. Это все к вопросу о «Великой Культуре». Что мы можем противопоставить архаичной, примитивной, но благородной строгости Корана, мы — нация, где алкоголик не вызывает осуждения, а дружелюбные ухмылки узнавания и понимания? У России нет интеллектуальных вождей (возможно, их время прошло). Это слепая хмурая толпа — русская нация, потому что ее книжные шкафы бездарны. Живя в чужих квартирах, я сталкивался с чужими книжными шкафами. Великой литературы в них нет. Жалкие, в основном, книжечки. Так что мы страна культуры поздней, небогатой и провинциальной. Мы поздно явились в мировую семью народов и стоим в сторонке, сжимая небогатый наш багаж.
(Сожалительно, что даже в этом скромном багаже русские тупицы чтут не лучших. Наши лучшие мыслители — К.Леонтьев, М.Бакунин, А.Герцен, а ни в коем случае не блеклые В.Соловьев, или ничтожный Бердяев, или тусклый Ильин. Наш единственный Великий писатель — это драматический Гоголь, а никак не Чехов — этот Довлатов своего времени, и уж не тяжелый запорный Толстой. Наш великий поэт XX века — Хлебников. Вот от этих ребят надо работать. А XX век нам таки угробили члены КПСС.)
Свидетель
По-сербски смерть будет СМРТ. Без гласных. Это как короткий удар сабли: СМРТ. Я хотел бы умереть сербской короткой, без гласных, гибелью, а не размазнистой, с гласными, русской смертью. Как часто родственный язык обнажает суть явления. По-сербски жизнь будет «живот». А когда водку пьют говорят: «Живели!»
По-сербски писатель будет «писец». Писец — всего лишь умеющий писать, профессия — пишущий. Быть писателем учат всех на планете еще в школе. Каждый есть в какой-то степени писатель. Но далеко не каждому есть что записать. Не каждый умеет смотреть и записать свое время. Лучшие писатели были свидетелями. «Silvia shits!»— записал однажды о своей подружке Великий Англичанин Джонатан Свифт. Это свидетельство. И такое грандиозно-шокирующее даже сегодня. Писатель открыл, что его подружка — неземное создание — какает, гадит, испражняется, выделяет дерьмо. Эта трогательная, потрясающая фраза менее известна миру, чем изумительные приключения Гулливера, однако она убивает наповал. В начале XX века русский поэт-декадент Брюсов написал однострочное стихотворение, скандализировавшее тогдашнее общество: «О закрой свои бледные ноги!» В сравнении с простым, как удар топором по черепу, наблюдением Свифта, бледные ноги — жидкий кисель. (Боже, сколько подростков и юношей через столетия совершали это ужасное открытие. Кроме крестьян, конечно, те не держали девушек за некакающих ангелов никогда.) Что такое бледные ноги, если обожаемая Сильвия сидит и shits! Миры падают, с грохотом рушатся миры, в то время как эта полудевчонка, обнажив полушария, натужит свою утробу и выделяет из себя котяхи, приличествующие большой собаке. Действо происходит в укромном уголке английского подстриженного парка, из-за кустов наблюдает в ужасе молодой джентльмен в панталонах до колен, в камзоле и в рубашке с жабо. Он, бедняга, даже взмок от потрясения, физиономия искажена страхом, наблюдая, как из Сильвии показался очередной котях…
Только что описанная мною натуралистическая сцена — лучшая иллюстрация к лубку «Свидетель». Бледный юный мужчина с искаженным ужасом лицом.
А наблюдать он может что угодно: как отрезают голову, как менты надели пластиковый пакет на голову обвиняемому в гуманном городе Москве, как сотрясаемый приступами астмы изможденный герой Че Гевара скорчился на муле, пробираясь сквозь джунгли Боливии, и его страдальческий вид деморализует кучку вооруженных людей — его отряд. Таким его увидел в Боливии журналист Реджис Дэбрэ. (В свою очередь Дэбрэ фигурирует в дневнике самого Че как Франсэ, то есть Француз.) Наличие Свидетеля — непременное условие Исторического происшествия. Без Свидетеля — Событие всегда останется лишь слухом. Че Гевара прибыл в джунгли Боливии уже известным миру человеком, одним из лидеров Кубинской революции, автором нескольких книг. Однако без Свидетеля Француза Че никогда бы не получил той поистине планетарной известности, которой сегодня обладает, его имя — брэнд. Без Француза он не стал бы Herilliero Heroico — Героическим воином, архетипом партизана и революционера. Когда в кроссворде по вертикали или горизонтали задан вопрос «Знаменитый революционер ХХ-го века?» будьте уверены — это только Че. И никто иной. На самом деле опыт Че Гевары в Боливии был неудачей. Куда более удачливые и талантливые партизанские вожди годами вели сильные партизанские войны в Латинской Америке. Но их помнят лишь старые специалисты ЦРУ по партизанским движениям. Потому что возле этих вождей не было Свидетеля. Разумеется, Свидетелем был не только Француз, но и сам Че, он писал дневник, и офицеры, которые его ловили, поймали и убили, и шпионы, которых к Че засылали; но Француз был Старший Свидетель. Он раскрутил миф Че в Европе. Мне привелось встречать несколько раз Француза в 80-е годы. Он произвел на меня впечатление человека вполне заурядного, серого скорее. Несмотря на то что ему в юности привелось участвовать в такой Истории с большой буквы. В память этой Истории, очевидно, Миттеран сделал его тогда своим советником. Но, видно, он плохо советовал или не советовал вообще, его быстро убрали. Свидетелями выступают сплошь и рядом ординарные люди. Главное, оказаться в нужное время в нужном месте.
Я вот был великолепным свидетелем для моих женщин. Я умел их видеть и умел рассказать о них. Я сделал их бессмертными, хотя бы на то время, пока будут читать мои книги. А мои книги будут читать, пока существует русский язык, ибо это крайне оригинальные книги исключительного человека. (Конечно, мои женщины уверены в своих собственных дарованиях, но на этих слабых плотиках дарований, о бывшие красотки, вам бы самим не переплыть вечность!) Я любил их и сумел написать о них. Я рассказал миру о них, о блистательных, неотразимых, страстных, злых и чарующих, когда они были молоды. Главное, в чем им повезло,— они встретили во мне лучший из возможных типов мужчин, а именно мужчину-свидетеля, мужчину — зеркало для них юных, безумных, красивых. А то, что я отомстил им потом, старым… Ну что ж, все в этом мире цветет, а потом вянет, усыхает, стареет, умирает. Им посчастливилось, что я был свидетелем их лучших дней, и не повезло с моим долголетием. Им бы хорошо было, чтоб я скончался быстро. Блок вот воспел Любу Менделееву Прекрасной Дамой и не дожил до того, как неопрятная толстушка с папиросой служила в каком-то наркомате секретарем-машинисткой.
Да, встречая их сорокалетних и более, я безжалостно констатировал их уродство, бил своих прежних возлюбленных, что называется, ниже пояса, крича, как мальчик о короле: «Я видел, я видел ее, она теперь старая, испитая, безвкусная, пошлая тетка!» Я ничего не простил, я оказался злопамятным, я мстил им спустя годы за те удары, которые они нанесли мне, красивые и молодые! А как вы думаете, так и должно быть, борьба до последнего вздоха! Ведь мне было когда-то очень больно. Потому что я принимал и принимаю свою жизнь и ее персонажей всерьез, их любовь и нелюбовь. Чего же я вдруг ласково стану дружить с этими престарелыми чудовищами? Вот тебе, вот, ты давно не девочка-маргаритка! И я протягиваю им свое страшное зеркало!
Не надо было показываться мне на глаза. Умные Дитрих и Гарбо так и сделали. А не надо было показываться мне на глаза старыми, я же Свидетель, я же разболтаю! Надо было умереть молодыми.
В известном смысле того, чему нет Свидетеля,— не существует. А значение произошедшего часто зависит от степени убедительности Свидетеля. Французская и мировая общественность вытащили Реджиса Дэбрэ из боливийской тюрьмы, и он приехал в Европу и стал писать и говорить о боливийской истории Че Гевары. В результате этот неудачный военный поход превратился в гомеровскую эпопею, а сам Че — в Ахилла в сияющих доспехах. Другое дело, что Че уже был значительным человеком, третьим или четвертым по значению кубинским вождем к моменту, когда он ступил на землю Боливии. Он уже был историческим персонажем, только не первым еще, как бы героем местного масштаба, но уже полуфабрикатом героя универсального. Затея была безумная. Боливийский отряд должен был послужить первым отрядом континентальной южноамериканской Революции, в его состав входили перуанцы, кубинцы и боливийцы. После первых успехов Че намеревался отправить отряды в соседние Перу и Аргентину. В Аргентине уже находился с отрядом его приятель журналист Виктор (фамилии в тюрьме не помню), но с ним быстро расправилась аргентинская армия. У Че тоже все пошло наперекосяк. Советские суки из Политбюро надавили на компартию Боливии, чтобы она не помогала «авантюристу» Че, потому он был лишен подпитки в живой силе. Крестьяне не шли к нему, ибо боливийская власть отбирала землю у тех, кто будет помогать партизанам. (Эффективное, да, средство…) А компартия Боливии не дала ему рабочих и шахтеров с медных рудников и лишила его студентов. Он не мог передислоцироваться в район медных рудников сам, потому что там были голые плато, по которым ветер гонял красную пыль, негде было укрыться отряду. Так вот херово все складывалось в плане человеческом. А в плане вечности происходила высокая трагедия и все развивалось наилучшим образом.
Французы умеют преподнести, осознать и подать историю и личность в истории. Они умны в этом до чертиков. Дэбрэ отлично преподнес героя Че в Европе. Издатель Дэбрэ Франсуа Масперо также ездил в Боливию защищать Дэбрэ, ездили его адвокаты и журналисты. Это они, как консилиум из Ватикана едет освидетельствовать только что произошедшее чудо, и этот консилиум уполномочен совершать «бьютификэйшан» (если не ошибаюсь, так это называется, когда выдают акт святости): «Аргентинец Че, застреленный в классе сельской школы в городке Фигеройя, провозглашаем тебя святым!» Отвратительно выглядят в этой истории советские старцы из Политбюро: мерзкие семейные трусы, Леня Брежнев, обыватель в кальсонах, суки, короче, медлительные, дрябложопые. Такая же погань той же породы держит меня сегодня в тюрьме. Их наследники.
Читаю мое уголовное дело, узнаю, кто меня предал и оболгал. Непременные персонажи героической истории — предатели. У них свои кумиры. Иуда, наверное, да? Предатель ведь, кстати, тоже свидетель. Только работает на врагов. Что ими движет, этими обмылками людей? Желание прославиться таким образом? Только трусость? Кубинская разведка потом хорошо поработала: множество десятков людей, принимавших участие в поимке и убийстве Че, погибли насильственным образом — кто выпал из окна, кто неуклюже застрелился. Это хороший обычай — мстить, я его поощряю. Месть — благородная акция. Кастро сказал: «Пойдите и убейте их!» И пошли и вырезали поголовно. Учитесь, пацаны!
Послесловие
Поль Леото — мудрейший старикан французской литературы — как-то заметил где-то в начале 50-х годов, что не любит Большую Литературу, а любит записанные разговоры. Под «Большой Литературой» он подразумевал все эти Большие Берты литературы — эпохальные романы. В России Большая Литература — это кирпичи Толстого и пузатые шкафы романов Достоевского. Поль Леото был непревзойденным автором «Дневников».) Я разделяю нелюбовь Леото к Большой Литературе, в ней есть нечто вульгарное, но разговоры я тоже не очень люблю. Я люблю думать. Не обязательно о вещах Великих. Но и о вещах скромных. Ребенок или зэк лежит лицом к грязной стенке и видит на ней принцев, сражения и чудовищ и изобретательно-изящно думает.
Мне нравится думать черт знает о чем. Мой очередной сокамерник, большой всклокоченный еврей, вчера с осуждением назвал меня «взбалмошным».
Этим он во мне что-то верно подметил. Потому что мысли мои, с которыми читатель уже ознакомился,— взбалмошные. Они о ногтях, о мясе, о деньгах, о железной дороге… Это ряд простых, поганых, убойных, как контрольный выстрел в голову, размышлений. Это ни в коем случае не Большая Литература. Но когда случится Великая Революция, то, крепко сжимая в руках свой прут арматуры или обрезок трубы, вы будете вспоминать, мальчики и девочки, только меня, только меня…
Почему именно «контрольный выстрел»? Потому что мнения крайние — по голове свинцом, в голову. Кто же согласится, что мать-Родина — пост-климаксового возраста старуха или что русские — жадные. Это убойные мнения, я же говорю, как контрольный выстрел. На! И только носами туфель взбрыкнул клиент.