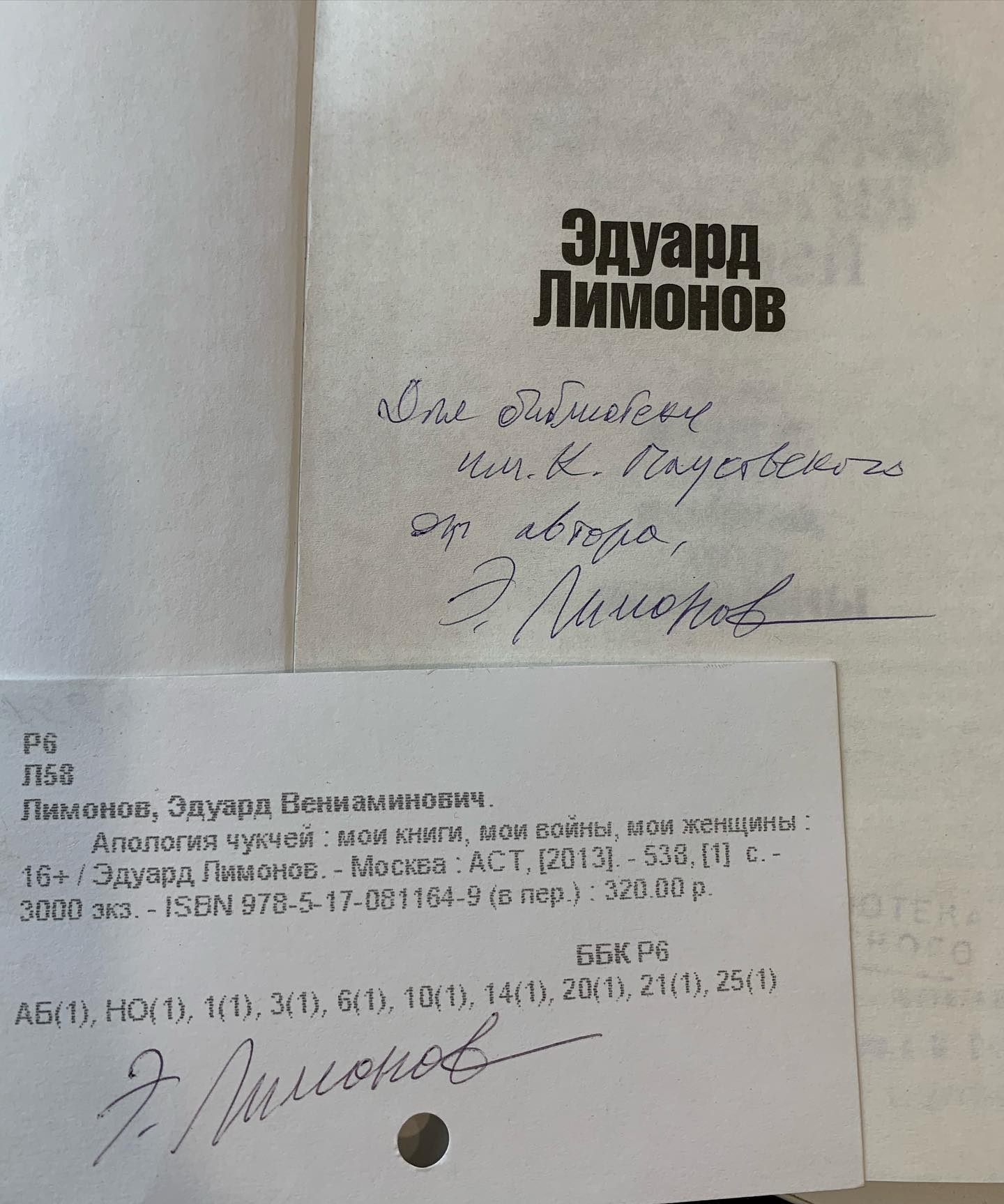Приключения
«Добро пожаловать в ад!»
В моей биографии есть малоизвестный эпизод 1997 года, достойный создания на его основе захватывающего приключенческого фильма-сериала. Судите сами: весна, отряд нацболов, девять человек, во главе с Лимоновым едет участвовать в… назовем целью участие в отделении Кокчетавской области от Республики Казахстан. Областной Совет, так случилось в тот год, маслихат насчитывал в своем составе 22 русских и только двоих казахов. Второго мая в Кокчетаве должен был состояться казачий круг, на котором будет провозглашена независимость Кокчетавской области. Затем за независимость должен был проголосовать маслихат. В случае неудачи мирного пути планировалось вооруженное восстание. Каков сюжет, а?
В марте семиреченские казаки приехали в Москву и попросили нас о помощи. Либо деньгами, либо людьми. Денег у нас не было, мы сформировали отряд и поехали.
Что из этого вышло, я вижу, оглядываясь за мое плечо, в ярких сценах. Предлагаю обернуться со мной.
*
Плацкартный вагон. Заняли два с лишним плацкартных, открытых взглядам купе. Пацаны и молодые мужики. В составе отряда: майор-пограничник, старший лейтенант — оперативник милиции, рок-музыкант, студент-геолог, мент из муниципальной милиции, художник, юный татуированный панк, беглый студент с Украины. Ну и я, председатель Партии.
В районе станции Белинской, не доезжая Пензы, подверглись обыску московских оперативников. «Пулеметы везете?» Стало ясно, что наш отряд «ведут» спецслужбы. Еще один обыск за городом Уфа.
И еще один, ночной, где-то между Петропавловском и Кокчетавом, уже на территории Республики Казахстан. Обыскивали хмурые казахи в черных кожаных куртках.
*
Следующая сцена. Перрон ж/д вокзала в городе Кокчетав. Утро. Перрон весь залит людской жижей, милицией и военными. Гляжу из открытых для высадки дверей вагона, стою за проводником. Ругаю себя матом за неопытность, нужно было сойти с поезда на какой-нибудь станции до Кокчетава. Но теперь уже не поправишься. Первым выхожу из вагона, отряд за мной, решительно шагаем куда-то. По пути меня узнает Галина Морозова, она встречала людей ЛДПР. Должны были приехать, обещали, но никогда не приехали.
Далеко мы не продвигаемся. На том же перроне нас берут в плен всех, вместе с Морозовой. Ведут в местный отдел милиции при вокзале. Сажают в железные клетки. Проводят обыск наших рюкзаков. Называют «боевиками».
Появляется хмурый человек в плаще и кепке. Подполковник Гарт. Приглашает меня к себе в кабинет. Там уже в наличии четыре казаха с видеокамерами и множество милицейских начальников. Гарт (ясно, что потомок ссыльных немцев) читает: «Я подполковник Гарт, начальник линейной милиции г. Кокчетава. Я уполномочен довести до вашего сведения постановление Генпрокуратуры Республики Казахстан по поводу проведения казачьего круга в городе Кокчетав. Проведение данного мероприятия запрещено».
Гарт предлагает мне ознакомиться с бумагой и подписать на обороте, что я ознакомлен. Я подписываю. Далее следует неожиданное заявление Гарта: «Вы можете вернуться в Россию, но можете оставаться на территории Республики Казахстан при условии, что не будете участвовать в политических акциях». Я: «Мы остаемся, подполковник». Гарт потрясен.
*
В квартире Морозовой. Три комнаты, первый этаж. Эту зиму в Кокчетаве было тяжело. Отказали и канализационная система города, и электроснабжение. Жители высоток вырыли во дворах землянки. Там готовили пищу на открытом огне. Все леса и рощи вокруг города вырублены. Мы ждем установления связи с казаками. По нашим сведениям, не все арестованы. Между тем власти Казахстана серьезно подготовились к русскому казачьему восстанию. Все дороги в город блокированы, ж/д и аэропорт — тоже.
У дома Морозовой нас стерегут и охраняют военные и казахская милиция. Каждое утро к нам приходит майор Казахской национальной безопасности Карибаев, рыжеватый, спокойный и умный мужик лет сорока, проводит у нас весь день. Беседует со мной до потери сознания, желая меня к себе расположить. Цитируем обильно казахского акына Абая и Омара Хайяма. Спрашиваю: почему вы нас не арестовали на ж/д станции? Смеется: «Еще успеем. А если серьезно, вопрос о вашем аресте обсуждался на уровне премьер-министра. Решили, что арест такого известного человека повредит Казахстану». Карибаев сообщает мне, что 4 мая специальным указом Совета министров Кокчетавская область ликвидирована, слита с Северо-Казахстанской, маслихат распущен, так что никакого русского большинства более.
Неделя проходит в квартире Морозовой. В город не выпускают. Майор Карибаев приносит водку и пьет со мной, явно желая, чтоб я разговорился. Я пью, но не рассказываю, рассказывает Карибаев. Ребята ходят злые, матерят казаков: и где они?
На девятый либо на десятый день в квартиру Морозовой пробирается связной казак. В полной темноте я подымаюсь с ним на лестничную клетку третьего этажа, он закуривает что-то вонючее и нашептывает мне в ухо нерадостные вести. Когда затягивается, видно, что на руке отсутствуют два пальца. Проведена совместная операция российских и казахстанских спецслужб по подавлению русского восстания в Кокчетаве. Российские спецслужбы разгромили две базы восстания по ту сторону границы, в Курганской и Омской областях. Арестованы: он перечисляет фамилии руководителей восстания… «А что делать нам?» — задаю вопрос. «Спасайтесь, хлопцы, как можете… — молчит.— Есть сведения, что вас в России арестуют, как только вы пересечете границу». И казак уходит в темноте вниз по лестнице.
Ужинаем. Кашу с тушенкой. Встаю, говорю о ситуации. Восстание подавлено. Надежд, что вдруг вспыхнет, нет. Русское восстание подавлено с помощью России, что ни в какие ворота не лезет. Есть сведения, что в России нас арестуют. Нужно принять решение. Какие есть мнения?
Мнения они высказали. Потом я сказал мое. Предлагаю не возвращаться в Россию, но попытаться пробиться к нашим в Таджикистан, там стоит 201-я Гатчинская дважды краснознаменная дивизия.
Мои слова тонут в крике «Ура!»
*
Следующая сцена. Поезд катит сквозь синюю весеннюю степь в город Алма-Ату. До него 1700 км. Майору Карибаеву я сказал, что мы желаем посмотреть столицу республики. Карибаев помог нам взять ж/д билеты, а вечером перед отъездом (о, Восток — дело тонкое!) приготовил нам бешбармак. Сам. За поеданием бешбармака и прощальными пузырями водки я сказал майору: «Не в службу, а в дружбу. Позвоните в Алма-Ату, предупредите о нашем прибытии свою службу КНБ. Всё равно они будут за нашей спиной. Лучше предупредите, пусть нас встретят на вокзале». Майор соглашается, он и так бы предупредил.
Поезд катит. Вагон плацкартный. Степь синяя. Со всех полок, даже с третьей, для багажа, свешиваются ноги в шароварах. Торговки едут в Алма-Ату. Разговор: «Что же вы, русские, нас бросили!» До Алма-Аты 1700 км.
Великая степь в окнах. На телеграфных проводах висят обрезки телеграфных столбов. Те, что короче, спилены кочевниками с верблюда, те, что длиннее,— с лошади. Деревьев-то в степи нет, а на чем мясо жарить?
*
Далее блистательная сцена на перроне Алма-Аты. Солнце, снежные горы, телекамеры (чуть не десяток), человек в темных очках, сопровождаемый однотипными агентами тоже в темных очках. Человек отрекомендовывается: подполковник Бектасов Алейхан Жилкодарович, КНБ. Его агенты вежливо наклоняют головы. Кадры из фильма, из бондианы. Джеймс Бонд в Центральной Азии. Спецслужбы предлагают отвезти нас в гостиницу. Не очень хочется.
Государственная телекомпания «Хабар» вовсю снимает нас во всех ракурсах и просит у меня большое студийное интервью. Обещаю очень большое интервью, если они помогут нам с жильем, мы неприхотливые, нам бы только устроиться всем вместе. Предлагают поехать к ним в телекомпанию, поговорить с их начальством. Садимся в микроавтобус с надписью «Хабар» и мчимся. Офис компании помещается на центральной площади, рядом с домом правительства и дворцом президента. Солнце, южный город, за нами, в кофейного цвета автомобиле, все в черных очках, едут подполковник Бектасов и его агенты. Супер! Чудо! Шпионская сказка! Бондиана!
*
Квартира в центре Алма-Аты принадлежит матери журналиста Гриши Беденко. Рюкзаки, котелки, спальники — как военный лагерь. Между тем мы сочинили себе легенду. Мы — московские журналисты, едем в Таджикистан на поиски пропавшего товарища. Беденко дает нам контакты, он как раз и работал в Таджикистане. Там и потерял ногу.
Отряд играет в карты, пьет чай, стирает в ожидании отправки.
*
Спустя еще несколько дней.
Офис телекомпании «Хабар». День рождения директрисы Дариги Нурсултановны Назарбаевой, дочери президента. Пока журналисты и приглашенные гости угощаются алкоголем и поют под музыку (караоке, оказалось,— популярнейшее местное времяпрепровождение), меня ведут в кабинет Дариги. Перед дверью — очередь с букетами, но меня проводят вне очереди. Из-за стола встает высокая молодая женщина в черном брючном костюме, элегантная восточная молодая леди, училась, возможно, в Оксфорде, а в элитной школе в Москве — так уж точно. Светский разговор, жалуется на недостаток телеведущих, в советское время казахский язык зачах. Пробую использовать ее в своих целях:
— Помогите, Дарига, у вас ведь в Таджикистане находится миротворческий батальон…
Она соглашается, что да, находится.
— Перебросьте нас в Душанбе, у вас же военные борты наверняка туда летают?
Она отвечает, что для переброски солдат и снаряжения казахский миротворческий батальон пользуется услугами российского авиаотряда. Предлагает принять участие в скромном «семейном» торжестве по поводу ее дня рождения.
Черт! Придется искать другой путь в Таджикистан. Пьяный казахский журналист, завидев меня, издает крик: Лимонов! Лимонов здесь, в сердце Азии. Протрите мне глаза!
*
В плацкартном вагоне поезда «Алма-Ата — Ташкент». Последний перегон перед последней станцией на казахской территории. Нас, как подушки, потрошат казахские таможенники. Даже две банки с тушенкой открыли, тыкают в них вилкой. Не найдя ничего, меня отзывает в купе проводника длинный мент с желтым кантом на голубом погоне.
— Куда едешь, знаешь?
— Ну, в Ташкент пока…
— Там страшно,— казах смотрит мимо меня.— Там люди пропадают. Потом в арыке тела находят.— Он молчит некоторое время.— Когда будут обыскивать, в глаза не смотри, смотри на руки. Ну, бывай, может свидимся, если тебе повезет.
Я возвращаюсь к своим ребятам. Но молчу про то, что там страшно.
Вспоминаю последний разговор с подполковником Бектасовым во дворе Алма-Аты. «Что там происходит, мы не знаем. Честное слово офицера, не знаем. С тех пор как их спецслужбы на нашей территории напали на узбекских оппозиционеров и увезли их, окровавленных, мы прекратили с ними отношения». На встрече с Бектасовым настоял я. Хотел провернуть тот же трюк, что и с майором Карибаевым,— дескать позвоните в Ташкент, пусть нас встретят на вокзале. Предупредите соседские спецслужбы.
*
На вокзале в Ташкенте нас все-таки встретили. Мы не успели пройти и полсотни метров, как нас окружили хорошо вооруженные менты. «Наемники?» — «Нет».— «Да».
В линейном отделении нас стали оформлять. Я отметил, что почти все менты имели во рту золотые зубы. Дежурный капитан выслушал от меня нашу легенду: «Едем в Душанбе, коллектив газеты «Лимонка». Хотим отыскать нашего журналиста, Егорова Игоря Александровича, пропавшего в Таджикистане в конце марта».
«Вы наемники»,— уверенно говорит капитан. И улыбается. Целый ряд золотых зубов во рту.
«Нет, мы журналисты».
«Нет, вы наемники. И плохи ваши дела».
Во время этого пререкания я заметил, что капитан разглядывает меня всё пристальнее. Поразмышляв, он сказал уверенно: «Ты Лимонов. Я видел тебя по телевизору. Тебя казахи показывали».
*
Поезд «Ташкент — Самарканд». Капитан буквально впихнул нас в уже отходивший поезд. Я полагаю, он решил избавиться от меня как можно быстрее, поскольку я, шляющийся с отрядом здесь, в сердце Азии, представляю проблему. Пусть эту проблему решают другие, решил капитан.
В поезде тоже были менты. Они медленно приближались к нам, методично проверяя всё живое. Однако и тут нам повезло. За пару купе до нас ими был обнаружен бедолага без паспорта. И менты вплотную занялись им. Стали избивать его в купе проводников. А он орал. «Узбекистан не для слабонервных»,— сказал я Лёхе, муниципальному менту. Он исполнял функции моего охранника. «Да, Эдуард,— покорно согласился Лёха.— Да».
*
Вокзал в Самарканде, три часа ночи.
Я рассредоточил моих людей, рассадив их среди местных. Рядом со мной уселся человек с несколькими мешками свежего чеснока. Вокзал благоухает, видимо, узбеки из деревень привезли на городской рынок дары природы. Моя тактика рассредоточения, разбрасывания славянских рож среди аборигенов пока работает. Менты контролируют зал, но нас еще не обнаружили. В шесть утра в открывшейся кассе покупаем билеты до станции под «немецким» названием Денау. (Ну как «Дахау»). Денау на узбекской территории, но совсем рядом с таджикской границей. От Денау, нам сказали в кассе, можно автобусом добраться до Сары Асия, оттуда идет поезд в Душанбе.
*
В Самарканде. Поезд у нас к самой ночи. Покидаем вокзал, поскольку здесь опасно. Отряды ментов проходят через зал во всех направлениях. Кого-то ищут. Может, нас, может, не нас, но нужно отсюда сматываться. Сдаем вещи в камеру хранения. Осторожно, по двое.
Разделяю людей на группы, идем в Старый город. Идем по голому, фактически, пространству, по желтокрасной земле древней Согдианы, открытые взорам. Какое-то шоссе, пропоровшее частный сектор. На шоссе почти нет автомобилей, прохожих тоже нет. Мимо нас медленно проезжают несколько милицейских автомобилей, но чудесным образом не останавливаются. Почему не останавливаются, выясняется к вечеру. Пока же я жутко ругаюсь, потому что мой отряд норовит сбиться в единое целое, а девять славянских парней в тяжелых ботинках таки смахивают на воинское подразделение.
Женщин вообще не видать. Всё чаще встречаются красивые стройные старики в халатах и в головных уборах, называемых «чалма». Запомнился высокий старик в зеленом халате, красный кушак. Чалма розовая плюс седая борода. Просто древняя благородная фреска.
В Старом городе, слава Аллаху, есть толпа. Невероятный запах базара: благоухают мешки с изюмом, сушеными абрикосами, какими-то корнями. Продается разноцветный рис. В чистейших мясных лавках горит трава, отпугивающая мух.
Русских лиц не видать. Только в закоулках базара меня узнает пожилая пара. Почти на ходу он роняет: «Тут очень сложно»,— и удаляется.
Знаменитые голубые купола дворца Биби Ханум, жены Тимура. Она построила всё за пять лет, пока Тимур был в походе на Китай. Возвратившись, он подумал, что видит мираж.
У старой мечети потрясающие нищие в черных халатах. Перед ними, застывшими в древних позах,— коврики. На ковриках зеленоватые обтрепанные бумажные деньги — сомы, и монеты. Такое впечатление, что этим сомам тысяча лет. Яростный какой-то оборванец начинает, оскалив зубы, орать на нас. Понятно лишь «Америк». До меня доходит, что он принимает нас за американцев. Он курит, и он курит гашиш, этот оборванец.
Пробираемся на старое мусульманское кладбище, через пролом в стене за мечетью. Теряемся в его холмах и деревьях так, чтобы нас ниоткуда не было видно. И никому не было видно, разве что птицам сверху.
*
В Самарканде. Вторая половина дня в отличие от первой была зловещей драмой. Нас задерживали, арестовывали и обыскивали ВОСЕМЬ раз! Каждый раз я был уверен, что мы никогда не выберемся из этой страны и что наши трупы всплывут в арыках. Золотозубый, как все они, увешанный оружием старший сержант упоенно показывал мне в здании вокзала, в каких местах он застрелил здесь четверых человек. «Один вот прошлой осенью здесь упал,— указывал он носком сапога.— Я его дострелил. А мы вас за американцев весь день принимали».
После седьмого по счету задержания людьми в штатском, отрекомендовавшимися как «иммиграционная служба», мы, полностью деморализованные, взяли наши вещи из камеры хранения. Шел азиатский монотонный дождь. Мы прошли контроль при выходе на перрон. Медленно подполз поезд. Толпа с мешками, в количестве, как мне показалось, многих тысяч человек, пошла к поезду. И мы пошли.
Из темноты возник человек с рацией, в аккуратном черном костюме. «Таможенная служба. Пройдемте!» За ним стояли еще трое. И к нему шли еще двое.
*
Поезд «Ташкент — Денау» был забит человеческим мясом. Женщины в национальных костюмах — расшитые штаны и платье поверх, сидели на всех полках, свесив ноги. У меня в ногах устроились туркменка и ее мать. От таможенников мы ушли за пять минут до отхода поезда, когда уже потеряли надежду. Появился большой начальник в тюбетейке, узнал меня, велел отпустить. Я пожал ему руку, и мы убежали.
От Самарканда до Душанбе, если по прямой,— рукой подать, но мешают горы. Поэтому поезд идет петлей целую ночь через Карши, Аму-Дарьинскую и Термез, забираясь на несколько часов на территорию Туркмении.
*
Денау. Я заранее прикрепил ребят к нескольким узбекским женщинам, к тем, у кого было всех больше ребятишек и мешков. Так, чтобы они, нахлобучив кепки, тащили ребятишек и мешки. Маневр удался. Правда, их командир, я, совершил перед самой высадкой дисциплинарный проступок — сунул перед высадкой под язык щепоть зеленой гадости, «нос» или «начхе», меня угостил таджик, поросший щетиной. У меня тут же вспыхнуло лицо и загудело в голове. Пот залил лицо. Захотелось блевать. И вот в таком состоянии я вынужден был командовать. Но Бог любит дерзких! Мы прошли мимо внимательно озирающих толпу ментов, загрузились в автобус с выбитыми стеклами и под жаркий ветер, вдувающийся в автобус, зажатые как селедки в бочке, под какую-то индийскую музыку покатили в Сары Асия. Просто восхитительно было, вокруг одни прекрасные азиатские рожи.
*
Сары Асия. Мне было известно, что там нет никакого досмотра, и если удастся влезть в поезд, то можно пересечь границу.
У водителя автобуса не было боковых зеркал, и он спрашивал, что там сзади, у пассажиров, но доехали. Стало весело. Не то «начхе» повлиял, не то судьба перевернулась с решки на орла.
Сары Асия — захолустная станция. Жара. Пахнет азиатской весной и разогревшейся смолой на шпалах. На шпалах расселись цыгане — целый табор. В голубых шелках. Когда прибыл состав на Душанбе, его окружила сотня солдат с дубинками, как эсэсовцы новый эшелон, прибывший в Треблинку. Таможенники впрыгнули туда, как в барак с заключенными. По прошествии часа они стали выходить. Все в черных куртках, эти таможенники, кто доволен, кто нет.
Мы всё стояли, а перед нами солдаты с дубинками. И вдруг, как по сигналу, толпа ринулась к вагону, игнорируя и дубинки, и солдат. Самые опытные кидали вещи в открытые окна и потом карабкались сами. Всё это напоминало мексиканскую революцию. На некоторых цыганах были разорваны голубые шелка. Со многих текла кровь. Нас не преследовали. Солдаты с дубинками снялись и ушли. Поезд тронулся. На окнах были железные сетки. Когда через некоторое время поезд по пути следования стали забрасывать камнями, мы поняли, зачем сетки.
Я пошел отлить. Со мной мент Леха. В тамбуре мы увидели гроб. От гроба сладко воняло мертвечиной. Оказалось, из Москвы везут труп двадцатитрехлетнего таджика, застреленного в Москве.
*
Душанбе. Прикрываясь русской старухой, таща ее вещи, мы выбрались на перрон, потом из вокзала. Город весь был в цветах, тропических запахах, яркий, розовый и красный. Город был в гроздьях цветов.
Мы сели в троллейбус. Там был троллейбус, о Господи! Я знал, что в гостинице «Таджикистан» живут русские журналисты. Вот туда мы и покатили.
Когда мы ввалились, грязные, пыльные, топоча сапогами, в холле все притихли. Я прошел к женщине, сидевшей под табличкой «менеджер».
— Сколько у вас стоит номер?
Она назвала цену. Цена была невысокой, но я присвистнул.
— Тогда я хочу позвонить.
Она назвала цену. Я попросил ее набрать номер министра культуры и информации. «Вас беспокоит Эдуард Лимонов». «Министра нет в настоящее время»,— ответил его помощник.
Я продиктовал номер газеты 201-й дивизии «Солдат России».
Ответил подполковник Рамазанов.
— Нам бы разместиться,— сказал я, назвав себя.— В гостинице дорого.
— Сколько вас, Эдуард Вениаминович?
— Девятеро.
Рамазанов в трубке лишь на секунду замешкался.
— Что-нибудь придумаем. За вами сейчас придут офицеры.
— Как вас сюда занесло, Эдуард Лимонов?— спросила менеджер.
— На поезде приехал.
— На поезде!— воскликнула менеджер.
Все присутствовавшие в холле, включая двух японских журналистов, по-особенному посмотрели на нас. Как на воскресших Лазарей.
Уже через двадцать минут прибыли офицеры. А еще через четверть часа мы уже входили через КПП на территорию 201-й.
*
На следующее утро случилось землетрясение. Я спал в вагончике редакции. Так там попадали со стен все фотографии в рамках. Некоторые стекла разбились. Солдаты во дворе сказали, что здесь это обычное дело, да и трясет несильно, хотя балла четыре будет. И солдаты занялись своими делами. Потом оказалось, что было выше пяти баллов.
Накануне вечером я допоздна пил водку с полковником Крюковым, начальником штаба дивизии. Он приехал к ночи, прослышав про свежего человека. Вот что я от него узнал.
В 1992-м в разгар межтаджикской резни между «вовчиками» и «юрчиками» дивизия могла стать хозяевами Центральной Азии. Семь тысяч «штыков», два артиллерийских полка, ракетный дивизион — они могли бы государство основать! К ним приходили делегациями таджики. Возьмите власть, русские! Но среди офицеров не оказалось Эдуарда Лимонова. Я бы взял ее, власть.
А «вовчики» — это муджахеды, мусульмане-националисты. «Юрчики» — те под красными знаменами, СССР, потому «ю». ВырезАли они друг друга усердно, при этом ухитрившись достойно не трогать русских. А друг друга они уничтожили, по разным источникам, от 160 до 250 тысяч человек.
Мы прибыли в перемирие. По городу носились джипы с бородачами, увешанными оружием. Чуть ли не каждую ночь убивали русских офицеров, обычно вблизи места жительства, из засады в кустах стреляли в спину. Всего уже застрелили двадцать шесть офицеров к нашему прибытию.
Спросил Крюкова: а почему не выдать всем оружие на руки?
Москва не позволяет. На каждый чих требуется разрешение из Москвы.
*
Добрались! Убежали! У моего отряда отличное настроение. Так продолжается несколько дней, пока не вмешиваются особисты. Вероятнее всего, они получили инструкции из Москвы. Моих ребят вдруг арестовывают на полигоне, куда я их устроил стрелять. С помощью Крюкова вызволяю их, но становится понятно, что будут чинить препятствия.
«Что дальше?» — думаю я, глядя в небольшой пруд, где шевелятся в тине огромные красные рыбы. Хотелось бы закрепиться тут, но как? Поступить на службу в дивизию? Контрактниками?
Что там еще я думал и какие предпринимал шаги, я вам не скажу. В таких приключенческих историях за тканью прямого повествования обыкновенно скрываются наказуемые по закону тайны, которые нельзя поведать бумаге, ибо наступят неприятные последствия.
*
Курган-Тюбе. Здесь расквартирован 191-й полк. Чистый зеленый двор. Портреты полководцев: Суворова, Кутузова, Жукова. Полководцы все смахивают на таджиков, глаза черные, рты пунцовые. Казармы. Я люблю казарму.
Под вечер мне устроили встречу с полевым командиром Махмудом Худойбердыевым, фактическим хозяином Курган-Тюбе. Это в колхозе имени Чапаева. Мы вышли из военного газика на невзрачной улочке и через дворы под конвоем дюжины автоматчиков прошли к полковнику. Терраса, на которой он нас принял,— фактически мост через арык. Под террасой шипит, устремляясь с гор, ледяная вода. Махмуд вышел к нам в спортивном костюме.
У него бригада. Все комбаты русские. Сам он — член компартии Таджикистана. «Пока я жив, не будет в Таджикистане ваххабитов». Он платит бригаде жалованье деньгами, которые получает от эксплуатации завода по производству алюминия.
Я уединяюсь с ним буквально на несколько минут. Нужно бы не спеша, не так, не на ходу, но я спрашиваю, о чем хотел спросить. Получаю ответ, который меня огорчает.
Прибыв на территорию полка, узнаю, что напился наш Влад, тот, который опер, старший лейтенант. Вне себя от ярости, я сам везу его на гауптвахту и сдаю дежурным. Сука, позорит нас.
На следующее утро имею из-за него проблему с особистами. Нет, не потому, что он напился, а потому, что я не имел права сажать его на гауптвахту дивизии. Но я же его командир! И он же напился! Мне выводят его. А мы направляемся на двух БТР-ах на границу с Афганистаном. Приказываю загрузить его на самое дно БТР-а, чтоб и носа не было видно, и пятки.
*
Пяндж. Стоим у контрольно-следовой полосы. Всё как полагается, два раза колючки, а между ними тщательно причесанная граблями полоса. Как в лучшие времена эсэсэсэра. Начальник заставы полковник Ушаков дает мне бинокль. Внизу река Пяндж. На Пяндже острова. Видны хижины беженцев. Чуть левее сдвинешь линзы бинокля — горит город. Это Мазари-Шариф, город, в котором родился Гельбутдин Хекматьяр, один из вождей гражданской войны, некоторое время президент Афганистана. В то время он жил уже в изгнании в Ираке.
«Талибы вот-вот возьмут город»,— поясняет Ушаков. Запах дыма то ли от Мазари-Шарифа долетает, то ли от костров беженцев на Пяндже. Вот как пахнет Азия. Так же она пахла воинам Александра Великого. Если самаркандские земли — это Согдиана, то тут, где мы стоим и куда смотрим — в Афганистан,— это Бактрия. История происходит ежеминутно, она никогда не останавливается. Бактрия… Согдиана.
Ушаков говорит, что беженцев по Пянджу сотни тысяч, а то и свыше миллиона. Если талибы возьмут север Афгана, то беженцев не остановит никто. Летом тут доходит до +70 на солнце, сейчас еще комфортно, хотя уже жарко. Здесь полно шакалов, лис, огромных черепах, водятся все адские змеи: кобра, гадюка, гюрза. Нет, через их заставу наркоторговцы не проникают, через таджиков — ходят…
Пропал наш алкоголик Влад. Я готов его бросить здесь, но Ушаков говорит, что нельзя. Привезли — заберите. Есть подозрение, что он уполз в Афганистан. Ищут. А мы пошли к соседям — таджикам.
Таджиков мобилизуют в армию, отлавливая их на базарах. Отловленные, они и ведут себя соответственно. Что интересно, банды наркоторговцев спокойно ходят на таджикских участках через границу. Проходят поверху, только погрозив кулаком. Но если есть на заставе хоть один русский мальчишка,— он стреляет.
Влада находят. Спит под танком. Приказываю посадить его на дно БТР-а. Неприятный момент. Дорога к Халкаяру, куда мы направляемся, врезана между гор, и, если засада, отбиться трудно. А мы мчимся без сопровождения. К тому же быстро темнеет, и, самое гнусное, у нас вдруг лопается огромное колесо. Останавливаемся, бойцы занимают круговую оборону. Появляется таджик на ослике с мальчиком. Показывает нам с ослика латинскую букву V. Ставим запаску.
*
В Курган-Тюбе. Узнаем, что вчера вечером солдат дивизии ранен ножом на базаре. Повезло. Капитан 201-й убит выстрелом в спину. Всё как обычно. Я ночую с офицерами в «гостинице» ракетного дивизиона. Перед этим ужинаем с подполковником Князевым. Накачанный крепыш. Прошел афганскую войну. Говорит, что «Град» больше не выпускают, зато 21 страна имеет лицензию на его производство. Лучшая система между крупными, неповоротливыми, и слишком мелкими. Ключ от зажигания «Града» называется «ключ от рая».
Еще несколько недель мы переживаем всякие приключения в Таджикистане. На древней желто-красной земле. На начштаба Крюкова всё это время неумолимо давят особисты, а их давят из Москвы. Сидя в кабинете Крюкова, за серебряной стопкой водки, прокурор дивизии объясняет мне виновато, что Москва в бешенстве. Уходите от нас. Уходите!
*
Поезд «Душанбе — Москва» отходит в 13:20. На окнах сетки, в тамбуре выцарапано: «Добро пожаловать в ад!» Капитан Игорь Макаров пожимает нам руки и соскакивает с поезда уже на ходу. Нам предстоит преодолеть таджикскую, узбекскую, казахскую и русскую границы. Проехать четыре тысячи километров, промчаться у Аральского моря. Увы, иначе не получилось. Все мои попытки устроить отряд на военный борт, чтобы пролететь над Азией, не увенчались успехом. Только военнослужащие 201-й дивизии, а вы — не военнослужащие.
Мы преодолеваем эти четыре тысячи. Нас раздевали догола, заглядывали под стельки, щупали. А всё это время в купе проводника спокойно ехали торговцы наркотиками. «Наркомафия!» — сказал мне шепотом проводник. Под лавками у нас и у других пассажиров ехали мешки с головками опиумного мака. Наркоторговцы стали выбрасывать их из окон уже на российской территории. Мешки подбирали, мы видели, ожидавшие их цыгане. В купе несколько раз врывались ночью рэкетиры. Когда наш устрашающий поезд вкатился под своды Казанского вокзала, мы не обрадовались. Некоторое время сидели молча. И вышли из вагона последними.
Двое из того отряда успели погибнуть за эти годы.
Учитель географии
Я люблю ездить в поездах. Всегда неотрывно смотрю в окно, а на станциях выхожу и стараюсь что-нибудь купить из еды, местное: картошку там, укропом обсыпанную, или курицу. Иногда спросишь у бабок: «Самогон есть?» Они переглянутся, посмотрят пристальней — и неохотно: «Да есть тут у одной». Подведут к старушке. Старушка из ватника, из глубины бутылку достает. В последний раз такой отличный самогон оказался, мягкий, еще теплый от бабки и ее ватника. Ну, понятно, что можно и скончаться от иного самогончика, но большинство нашего народа всё же не сумасшедшие. Я всегда торгуюсь, не от жадности, но для удовольствия. И бабки любят торговаться. Потому на платформе весело всегда.
Из окон интересные вещи можно увидеть. Как-то ехал я из Северодвинска зимой, а зима была бесснежная, смотрю, соболь бежит, ярко-белый, по лесной просеке, по черной земле, стремительный такой. Или вот ехал я в прошлом году в Харьков на сороковой день смерти матери. Поезд к границе подошел и ход сбавил, а потом и вовсе встал. Рядом с поездом длинная металлическая ограда. За оградой уже Украина. И идет пара: старик и старуха, ясно, что муж и жена. Старик просто неотразим: в кепке, в зубах сигаретка, пиджак расстегнут, руки в карманах брюк. Дородный такой, на французского гениального актера Жана Габена похож, тот здорово упрямых стариков играл. Старик вдоль ограды невозмутимый, в одном ритме идет. Бабка же, в нитяных чулках, ноги худые, сама худая, платье висит, идет неровно. То вперед его забежит, жестикулирует, говорит ему что-то, то рядом идет, в лицо ему заглядывая. А он, злодей, хоть бы хны, окурок даже не сплевывает. Я понял их ситуацию. Было воскресенье, магазин в их селе, следовательно, был закрыт. А старику выпить хочется. То, что было у него спрятано, уже выпил. Потому он идет в поселок, где магазин в воскресенье открыт. Бабка не хочет, чтоб он пил, и увязалась за ним, и его словесно атакует. А ему как об стенку горох. Невозмутим. Они такие великолепные были! У старушки платье в горох.
А как-то раз я в такой поезд сел, что любые приключения мексиканской революции отдыхают. Поезд «Иркутск — Ташкент». Не так уж давно это было, зимой 2000 года, не то ноябрь, не то декабрь. Из Красноярска мне нужно было добраться в Барнаул. Тот, кто карту помнит, знает, что нужно по Транссибу доехать до Новосибирска, а в Новосибирске нужно пересесть на Турксиб, то есть Туркестано-Сибирскую магистраль, она перпендикулярна Транссибу. Барнаул на юге. Можно было выйти в Новосибирске, сесть в автобус и доехать до Барнаула. Но я был в тот раз один, без охранников, мне хотелось, чтоб друзья посадили меня в поезд в Красноярске, а в Барнауле чтоб встретили охранники. И вот что из этого вышло.
Мои красноярские дружки поручили заказать билет своей, их секретарше. Секретарша позвонила мне и сказала, что есть билеты только на поезд «Иркутск — Ташкент» и только плацкартные места. «Брать?» Я сказал брать. Мне надо было срочно в Барнаул.
За полчаса до отбытия поезда мы приехали на вокзал. Там я увидел несметную толпу азиатов, по виду узбеков. Оказалось, что все они ждут этого поезда. Мои друзья помрачнели. Когда поезд подали, толпа ринулась к нему. «Может, не поедете?» — спросили друзья. «Надо»,— сказал я и стал проталкиваться в вагон.
Мое место оказалось в самом начале вагона. Рядом с купе проводника. Вторая полка. На моей полке сидели трое, свесив ноги вниз,— две женщины в шароварах и один узбек в тренировочных. Я сказал, что у меня билет на эту полку. Не протестуя, они послушно спрыгнули, взяли свои вещи и ушли куда-то. За моим прибытием следили много десятков черных очей. Я снял свой простонародный, из клееной парусины, тулупчик на крашеном меху, постелил его на полку, влез и улегся на тулупчик. Борода и усы мои были не стрижены, на лице у меня был застарелый горный загар, очки были подклеены лентой, шапка старая. Я подумал, что, если станут спрашивать, кто я, скажу — школьный учитель из поселка Усть-Кокса на Алтае, возвращаюсь к себе в поселок.
Пришли два огромных толстых злодея, больше похожие на китайцев, чем на узбеков. С бритыми бошками. Сели на нижнюю полку напротив моей верхней. Один из близнецов подмигнул мне, улыбнулся. Сказал: «Слезай, знакомиться будем»,— и похлопал по лавке рядом с собой. Я слез и сел. Близнецы с неискренним, преувеличенным старанием пожали мне руку. «Юша»,— сказал один. «Селим»,— сказал другой. «Эдуард»,— сказал я.
— Что делаешь в жизни, Эдуард?— спросил Юша. («Ну и противная же и опасная морда»,— подумал я.)
— Детей учу в сельской школе. Историю и географию преподаю. В поселке Усть-Кокса на Алтае. Домой еду. Мать хоронил,— соврал я.
— Учитель, хорошо,— сказал Юша.
— Эй!— крикнул он тощему проводнику в засаленном кителе.— Принеси нам чаю. И учителю чаю.
Проводник скрылся. Почти тотчас появился еще один злодей и что-то отбарабанил близнецам по-узбекски.
— Извини, Эдуард,— нам нужно идти, дела. Если кто тебя обидит, обращайся к нам. Мы в середине вагона.
Подняв огромные тела в олимпийских синих трениках, близнецы ушли. На их место уселся парнишка в светлой кожаной куртке. Наклонившись, он прошептал на ухо: «Бандиты. Вчера отобрали у меня все деньги, и куртку, но куртку потом отдали. Вывели в тамбур, нож к горлу…».
Парень в куртке оказался полутаджиком-полуузбеком. Он работал в Иркутске и ехал в Ташкент к матери. Мы решили держаться вместе. Впрочем, ему я тоже назвался учителем географии из поселка Усть-Кокса. Он стал называть меня «дядя Эдуард».
Вагон жил своей жизнью. Вместо пятидесяти четырех пассажиров в нем находилось, думаю, втрое больше. Они продавали друг другу ткани, платки, дыни, китайский ширпотреб. На каждой остановке близнецы выгоняли всех на платформу, где они быстро пытались реализовать свой товар местному населению. Парня в куртке Юша выхватил и заставил идти продавать дыни… Меня также пытались пристроить к торговле, но я заявил, что я полный идиот в том, что касается торговли. Юша посмотрел на меня долгим взглядом и ушел.
К ночи бандиты стали готовить плов на живом огне. Развели огонь они в тамбуре. Вонь стояла неимоверная. Среди этого бедлама (была включена еще дикая музыка) проводник сумел пробраться ко мне и предложил мне взять серое белье. Я заподозрил неладное и сказал, что у меня нет денег на белье. Он ушел.
Ночью бандиты ссорились. Кто-то кричал, бежал, кто-то упал. Кого-то били. Орала музыка. Один раз, внезапно открыв глаза, я обнаружил над собой близнеца № 2, Селима. Он внимательно разглядывал меня, спящего. Я закрыл глаза.
Утром мой таджик сообщил, что ночью бандиты нажрались опиатов (выжимок из сырого опиумного мака, так я понял) и потому скандалили и ссорились.
Когда я после полудня вышел из поезда «Иркутск — Барнаул», я был измучен, как после тяжелой болезни. Дело в том, что ко всему прочему в джинсах у меня были спрятаны одиннадцать тысяч долларов.
На перроне стояли мои охранники. Веселые.
Посланные знаки
Мне были внятные знаки перед арестом, чтоб не ходил в ту сторону, в Алтай. Но я их неправильно интерпретировал.
Мы ехали вшестером на купленном подержанном УАЗе. Кончалось лето 2000 года. Проводником взяли в Барнауле Виктора Золотарева и по дороге в Усть-Коксинский район решили заехать в селение Боочи, что в сторону от Чуйского тракта, к друзьям Виктора, алтайцам Тохтоновым, Марине и Артуру. На самом деле у них свои алтайские сокровенные имена, но алтайцы предпочитают не открывать свои настоящие имена посторонним, чтобы на них не повлияли злые силы.
И вот там, в горах, в селении Боочи, было мне видение. Глубокой ночью я проснулся от рокотания тибетских деревянных труб. В окне стояла огромная, светлой меди с прожилками, полная луна. Я вначале было подумал, что, может быть, этой ночью происходит неизвестный мне буддистский праздник, поэтому некоторое время слушал с удовольствием. Алтайцы ведь буддисты, во всяком случае, многие из них. Более того, мы находились здесь, в Боочи, в самом настоящем Центре Мира. Я знал, что он находится на родовой земле Тохтоновых, в нескольких километрах, в горах. Там установлена ступа, освящать которую, говорят, приезжал сам далай-лама с высшими сановниками. Центр Мира на самом деле является центром Евразийского континента. От ступы равноудалены Атлантический и Тихий океаны, а также равноудалены Ледовитый и Индийский.
Я некоторое время лежал, прислушиваясь к буддистскому празднику. Понял вдруг, что совсем не слышно людей и что звучит, скорее, музыка сфер, причем трагичная и гнетущая. Как музыкальная иллюстрация к Тибетской Книге Мертвых.
Второе объяснение было еще более простым. Я предположил, что кто-то из Тохтоновых включил кассету с тибетской музыкой. Перед тем как пойти спать, я слышал, что Тохтоновы говорили, что ждут еще гостей на автомобиле.
Музыка сфер и демонстрация медной ветхой луны продолжались, может быть, в общей сложности часа два. Я не спал. Я видел сквозь открытые двери, как в комнате через коридор (в нее тоже были открыты двери) спит мой охранник Михаил. Затем я, видимо, уснул. Поутру мне сказали, что ночью никто, кроме меня, никаких труб не слышал. Что, действительно, приехали гости, но никаких кассет не прослушивали, сразу легли спать.
Тогда я воспринял мое видение как благоприятный знак победы для меня в том начинании, которое я собирался предпринять. Я трагически ошибся: уже в октябре погиб (был выброшен из окна) в Барнауле мой проводник Виктор Золотарев. В ночь с 30 на 31 марта погиб (умер от побоев) еще один мой товарищ, ступивший со мной на землю Алтая,— Александр Бурыгин, а 7 апреля 2001 года арестованы были я и еще несколько товарищей. Перед арестом, вечером, я читал сцену смерти Франца Лефорта в случайно обнаруженной в избушке в горах книге Алексея Толстого «Петр I».
(Через двое суток я оказался в тюрьме «Лефортово»! Много ли в литературе русской или иностранной книг, имеющих упоминания о Лефорте?!)
Из неволи я вышел через два с половиной года. Перед приговором ночью мне приснились два топора и бусы. Тогда сон показался мне бессмысленным, ибо мне дали четыре года. И только когда я вышел на свободу из лагеря, условно-досрочно освобожденный через два с половиной года, я понял нехитрый символизм вещего сна перед приговором.
Пока я сидел, стало широко известным написанное мною в 1969 году стихотворение обо мне, замученном в Саратове, где я никогда не был до 2002 года, когда через тридцать три года после вещего стихотворения меня привезли сюда судить.
Были ли после тюрьмы предвидения и посланные знаки? Новый год мы праздновали с Настей одни. Она купила две петарды с конфетти, с тем чтобы взорвать их за праздничным столом. Нужно было только дернуть за нитку. За столом мы их и взорвали, стараясь одновременно. Моя шумно взорвалась, красиво осыпав нас, ее не взорвалась, сколько мы ни бились над нею. Настя была очень расстроена. В результате мы, очень ссорясь, с трудом протянули еще год, но новый, 2005-й я уже встречал с партийцами, без нее. И на мой день рождения в феврале она не явилась. Зато явился вестник, порученец с новой судьбой.
22.02.2005 пришел среди других гостей также мой совсем свежий знакомый Эдуард Бояков, театральный продюсер и режиссер. С ним меня познакомил Борис Бергер, издатель («Запасной выход»), незадолго до этого. Эдуард Бояков подарил мне африканскую скульптуру из черного дерева. Наголо обритая женщина с торчащими сосцами, суровое узкое лицо, торчащий беременный живот с острым пупком. Сантиметров шестьдесят высотой.
Пятнадцатого апреля того же года я познакомился на выставке с актрисой Катей Волковой. Уже в мае я по ее просьбе остриг ей волосы машинкой «Филипс». Тогда же я узнал, что Катя была подругой Эдуарда Боякова целых четыре года. И любила его. Только когда в марте 2006-го мы узнали, что Катя беременна от меня, я связал подаренную мне африканскую скульптуру с беременной Катей. Я уверен, что Эдуард Бояков послужил лишь орудием высших сил, он, разумеется, сделал мне такой подарок не по своей воле.
Получилось, однако, что Бояков подарил мне свою подружку в виде африканской скульптуры. Согласно ритуалам религии вуду. Скульптура стоит у меня в изголовье кровати. А Катя забеременела опять. (Да, да!) Вероятнее всего, это скульптура богини плодородия. Кажется, придется закрыть сильную скульптуру (она очень напоминает Катю) тканью, что ли. Чтобы снизить градус плодородия, источаемый ею. А то мы захлебнемся детьми.
Мир приключений
Приключения начинаются просто. Нужно решиться на приключения, и тогда они последуют цепью, одно за другим. Далеко, в толще годов, вижу стоящую в тени деревьев повозку. Без лошади, но не пустую, полную, как нам показалось, сена. Впоследствии мы поняли, что это редкие травы и корни Алтая.
Повозка стояла, обнаруженная в стране, где мы никого не знали, на земле, где мы оказались намеренно, но которую до сих пор знали по картам. На картах были обозначены хребты, их вершины, синие почеркушки рек и точки проживания человеков. Там были села, но также и скромные точки под названиями «заимка» или «зимовье». Повозка, мы к ней подошли на свою голову, не зная, что уже выбрали судьбу и тюрьмы, и лагеря, выбирая эту повозку; выглядела она как обнаруженная белыми повозка каких-нибудь гуронов в первозданной Северной Америке. Алтай тех лет, а прошло уже чуть ли не полтора десятилетия, выглядел как земля гуронов. Очень редко, но мимо нас проезжали вдруг, на маленьких лошадках, темнолицые, коротконогие и скуластые гуроны, в данном случае алтайцы, они же калмыки, те, что не откочевали несколько веков назад из этих мест в те места, что стали современной Калмыкией. За плечами гуронов поблескивали ружья.
Повозку мы тогда обнюхали и обсмотрели, как осторожные псы. Пройдя чуть дальше, обнаружили два вырубленных причудливых столба, символизирующих вход в чьи-то владения. За столбы мы сходили на следующий день, а в тот день вернулись в наш лагерь у реки.
За столбами располагалась пасека Пирогова, маленького мужичка-мечтателя, собирателя трав и корней, врачевателя и гражданского мужа девки-калмычки. Менее чем через год нас будут брать на пасеке Пирогова две роты спецназа ФСБ, а тогда мы, загадочная для местных группа, шастали в той части Республики Алтай, рядом с границей с Казахстаном, подозрительные, как иностранные дьяволы.
Некоторое время мы жили у реки. В доме, построенном для пастухов, правда, в нем еще не было оконных рам и стекол, но печка-буржуйка была. Были и деревянные нары. Нам разрешил жить в этом доме хозяин тех мест, директор «маральника», в прошлом он назывался «совхоз», по фамилии Кетрарь. У всех молдаван фамилии заканчиваются либо на «арь» — Кетрарь, Морарь, либо на «ена» — Кучерена. Алтай весь состоит из «маральников». Это отгороженные металлическими или любыми другими заборами территории гор, холмов, лугов и ущелий, где живут олени-маралы. Алтайцы вылавливают их, когда нужно пилить им рога. Вылавливают, как гаучо, с помощью лассо. Рога отпиливают и продают, а маралов отпускают. Ну, время от времени они закалывают одного — двух — трех для своих нужд, конечно. Рога продают на Дальний Восток, в Китай, в Южную Корею, в Японию. Очень дорого — бывало, в лучшие времена, до трех тысяч долларов за килограмм. Хозяева «маральников» настоящие феодальные князья этих мест, каждый имеет под началом десятки спаянных годами мужиков в камуфляже, то есть свои личные армии.
Кетрарь первое время встречался с нами пару раз, но позднее ему, видимо, донесли на нас из Управления ФСБ по Республике Алтай, он встречаться перестал. Он мог легко вышвырнуть нас из своих владений, приехав с армией, но он этого не сделал, ему не велели в ФСБ, им нужно было нас наблюдать, чтобы потом арестовать.
Мы жили у реки, потом, когда отбыл в Барнаул Пирогов, переехали на пасеку, где было, конечно, теплее и удобнее. Мы ловили рыбу, ставя сеть на ночь поперек горных рек, собирали огромные дождевые грибы и черемшу для салата, вечерами и ночами к нам прискакивали любопытные, как правило, пьяные гуроны, привязывали лошадь, клянчили водки и до хрипоты и драки воспевали своего, как они считают, Чингиз-хана, покорившего когда-то и обратившего в рабство вас, русских. Желтолицые не простили нам Русскую империю и СССР, они мечтают о мести. Сидя с ними у ночных костров, лицезрея их потные монгольские лица захиревших завоевателей, мы, городские жители, окунались в мир, которого мы не знаем, а он есть, вокруг нас.
Алтаец Леха (на самом деле у него есть его странное имя аборигена, но он хранит его от чужих), возчик, рассказывает о своей лошади, как о сестре прямо. Однажды Леха приехал пьяный и не распряг лошадь. Утром вспомнил, пошел к лошади. Лошадь стала к нему задом, толкнула и вдруг треснула его копытом. Леха возмутился и ударил лошадь кулаком в челюсть. Она опять ударила его копытом. «Легонько, если бы она хотела, она бы меня убила копытом. Злая была. Я ее распряг, зерна дал, успокоилась, простила. Мы с ней часто деремся, если что не по ней, она — копытом. Но столько раз меня пьяного домой привозила. Умная».
Вторым после Чингиз-хана по популярности у алтайцев служит волк. «Волки есть?» — спрашиваю я, поселившись на заимке глубоко в горах, рядом с летним пастбищем. Там до государственной границы километров пять всего. Удобное место для государственных преступников. «А как же, есть, есть волчишки»,— подтверждает кривоногий милиционер со ржавым автоматом. Он приехал на лошади, послан посмотреть (нас в тот год разглядывали даже с вертолета и не раз). Милиционер расхваливает волка, как он пристально следит за человеком, насколько волк умнее человека. Алтайцы восхищены волком. Уважают его безмерно.
Заяц у них проходит по низшей категории как самое глупое животное. На зайцев алтайцы с огнестрельным оружием не охотятся. Зайцев ловят силками дети. Мы пытались поймать силками зайцев, их следов было огромное количество вокруг. Но не умеем, не поймали, потому что мы не алтайцы.
«А медведь есть тут?» — спрашиваю я. «Есть, есть медведь. Вон там живет»,— показывает милиционер на дальнюю лесистую гору. Я ходил на эту гору вчера, безоружный. «Хороший медведь»,— заключает милиционер.
«Что значит — хороший?»
«Смирно живет. Коров не дерет, хороший медведь». Внезапно милиционер спрашивает: «Оружие огнестрельное имеешь, академик?» Из-за очков и бороды, я знаю, алтайцы называют меня академиком.
«Какое там оружие, нет никакого».
«Э, тут без ружья нельзя жить»,— говорит милиционер, садится на лошадь, обхватывает кривыми ногами бока лошади, и оба животных скоро скрываются за поворотом.
Приключения начинаются просто. Вначале ты разглядываешь карту. И вот ты уже на земле гуронов. Ловишь рыбу сетью, собираешь дождевые грибы и черемшу. Набрел с товарищами на повозку. Познакомился с хозяином. В апреле тебя арестовывают две роты спецназа ФСБ. И вот ты уже в тюрьме «Лефортово», потом в тюрьме в Саратове. Приключения, они такие, одно цепляется за другое.
Воды жизни
Меня арестовали седьмого апреля. Первого апреля в номере гостиницы в Барнауле я еще видел на экране телеарест Слободана Милошевича: ночь, толпа, выводят из дома… Я подумал: «А почему он не отстреливается?», вспомнил, как он меня принимал в Белграде в 1992-м, и вздохнул. Дело в том, что я чувствовал, что меня самого вот-вот арестуют.
Барнаул был весь засыпан снегом. Апрель, но я видел, как барнаульцы толкают свой трамвай, сошедший с рельс из-за снегопада, а нашу «буханку» — УАЗик модели «скорой помощи» — мы выкопали из снега в элитном поселке лишь через несколько часов. Выкопав, обнаружили, что он нуждается в ремонте. Я спешил в горы, навстречу югу, Казахстану и весне, но водитель настаивал на ремонте. Пришлось задержаться. По городу, не скрываясь, за нами вначале следовали группы наружного наблюдения, потом внезапно исчезли. И хотя меня к тому времени еще ни разу не арестовывали, опыта у меня не было, инстинкт подсказал мне, что «будут брать». С начала марта в Саратове при покупке оружия у агентов ФСБ были арестованы четверо членов моей партии. Они все сидели теперь где-то в глубинах «Лефортово», их допрашивали, и логично было предположить, что они могут дать показания на меня.
В последнюю ночь в гостинице в Барнауле выключили свет. Трудно сказать, было ли это дело рук Чубайса или могущественной организации, которая следовала за мной по пятам, но это было неприятно. Мы встали засветло, выволокли наши рюкзаки и сумки в полной темноте, загрузились в «буханку», стали прогревать мотор. На стоянке у гостиницы в полной темноте прогревали моторы еще несколько машин.
Из Барнаула более или менее сносная дорога идет на Бийск. (Именно на этой дороге разбился позднее губернатор Евдокимов.) После Бийска глубоко в горы, в Усть-Коксинский район, можно ехать двумя путями: либо через единственный город Республики Горный Алтай — Горно-Алтайск, сливающийся с поселком Майма, либо взять вправо и ехать через село Ново-Алтайское, там несколько перевалов, но они низкие. Мы устремились через Ново-Алтайское. Там я съел в столовой свой последний мирный борщ. А потом вспоминал его вкус несколько лет.
С этим ремонтом мы потеряли время. Снега начали таять, а вопреки всеобщему мнению тают они снизу, от земли, а не сверху. Мы проехали в белом безмолвии через последний населенный пункт — Банное, никто нас ни о чем не спросил, да мы и не останавливались, проехали мимо «маральника» и крепко провалились всеми колесами в стоявшую под снегом воду. До нашей пасеки нам оставалось менее двадцати километров. Мы стали рыть снег перед колесами «буханки» и за колесами. Стемнело, и мы зажгли фары. Порой нам удавалось продвинуться метров на двадцать либо на два метра. Но и только. «Буханка» — наша верная подруга, весело разматывающая обыкновенно горные пейзажи за окнами, ничего не могла сделать против начавшегося весеннего таянья. Мы опоздали всего на какую-нибудь неделю, но опоздали. Нас остановили воды.
Нам нужен был трактор, но с этим следовало подождать до утра. Продрогшие, мы выпили бутылку водки, поели второпях какой-то сухой еды и улеглись в спальных мешках. Спали скверно. Я думал о том, где они, наши преследователи.
Утром Миша Шилин пошел в деревню за трактором. Артем Акопян пошел в «маральник». Я и водитель Голубович остались в «буханке», с большим трудом на весеннем резком ветру сумели заварить чай… Артем Акопян вернулся быстро и сообщил, что «маральник» пуст, все мараловоды уехали на охоту. Впоследствии, уже в тюрьме «Лефортово», знакомясь с показаниями Акопяна, я понял, что он еще с лета 2000 года был завербован ими. В «маральнике» в те дни располагался оперативный штаб сводного воинства из нескольких областей. Акопян сходил туда, доложил, что знал, и вернулся.
Я и Акопян решили не ждать трактора и пошли на пасеку, надев на ноги столько пластиковых пакетов, сколько могли. Поверху над нами кружила метель, а ноги проваливались в ледяное море, плескавшееся под снегом. Шли мы около шести часов, и несколько раз мой предатель перенес меня на спине через ручьи, потому что у меня были на ногах ботинки, а у него — резиновые сапоги.
На пасеке нас приветствовал первым пес по кличке Грозный. Потом мы увидели наших товарищей, выходящих из бани. Они нам страшно обрадовались. Это была вторая половина дня шестого апреля 2001 года. Затем трактор приволок нам нашу «буханку» и, получив за работу неслыханную для тех мест 500-рублевую бумажку, упыхтел «Беларусь» в Банное.
Потом начались обыкновенные чудеса и предзнаменования. Я снял мокрые ботинки и носки и сел в тесной избе спиной к печи. Товарищи разожгли печь и стали готовить ужин. Вновь прибывшие рассказывали зимовавшим на пасеке Бахуру, Балуеву, Аксенову и Сереге Гребневу московские новости: то, что тридцатого марта в штабе партии был обыск, и то, что нас задержали и тщательно обыскали на вокзале в Новосибирске. Слушая их, я меланхолично думал о том, что отказываюсь верить, что наши проблемы кончились, мне было всё равно тревожно. Ребята хохотали, а я перебирал немногие имевшиеся в избе книжки. Наткнулся на брошюрку «Рыбы». Заглянул в нее. Обнаружил, что у меня, родившегося в первой декаде Рыб, тяжелые годы 58-й и 72-й. Так как мне полтора месяца назад исполнилось пятьдесят восемь лет, мне это обстоятельство не понравилось. На одной из железных кроватей в избе лежала пухлая книга Алексея Толстого «Петр I». Я открыл ее наугад и попал на сцену смерти Франца Лефорта и его похорон.
Потом мы ели маралье мясо, пили привезенную нами водку. Ребята радовались, что избежали опасности. Ведь в Новосибирске нас даже сфотографировали уже в отделении милиции на вокзале с номерами в руках, как преступников.
— Погодите радоваться,— сказал я. Еще неизвестно, что может произойти.
— Что? Мы не смогли проехать в горах. Как они смогут?— возразил Голубович.
— Ну, вертолетом, например,— сказал я.
Все рассмеялись. После ужина ребята ходили курить. Принесли еще две кровати из другой избы. Постелили поверх кроватей доски. Печь хорошо разогрела избу. Все уснули.
Проснулись мы от лая Грозного на рассвете. В избу вбежал выходивший со сна отлить Бахур.
— Там тьма вооруженных людей идут!
— Может, охотники?— спросил я. И увидел сразу в два окна, что не охотники.
Через несколько мгновений спецназ ФСБ ворвался в избу. Перепуганные больше, чем мы, они кричали разное: «Стоять!», «Лечь!», «Руки за голову!», «Выходи!».
Выполнить все их команды не представлялось возможным, но всё же было крайне желательно. Ведь в руках каждого было мощное боевое оружие не слабого калибра. Полуодетых и совсем не одетых, нас выволокли из избы и бросили в снег. И сняли нас на видео, гордые собой.
Потом они вспороли и перевернули всё, что могли перевернуть. Спецсобаки обнюхали всё, что можно обнюхать. С металлоискателями в руках они обследовали все строения. И помрачнели, так как ничего не нашли. Позволив нам одеться, всех нас бросили в баню, кроме Акопяна. И стали выдергивать на допросы. Главным у них был тощий высокий офицер подполковник Кузнецов. На нем были темные очки. Четыре офицера были из Москвы. На всех были черные вязаные шапочки.
К вечеру нас доставили в изолятор временного содержания в поселке Усть-Кокса. Ночью ребят опять выдергивали на допрос, убеждая дать на меня показания. На меня и на Сергея Аксенова. Меня не беспокоили. Я лежал на деревянных нарах и сквозь сон диктовал молодому конокраду с монгольским лицом слова песни «Окурочек». Второй молодой конокрад, тоже с монгольским лицом, спал на верхних нарах. В углу стояло ведро, накрытое тряпкой,— наш туалет. Он, как полагается, вонял.
Потом была база УФСБ где-то в районе поселка Майма. А девятого апреля меня и Аксенова на самолете доставили в Москву. Везли в железных ящиках внутри «Газели». Сквозь щели я видел первую зелень и ощущал теплый воздух. Было дико обидно. «Свои» своих схватили по обвинению в попытке отторгнуть от Казахстана и присоединить к России земли близ Усть-Каменогорска. «Свои» своих сдали в тюрьму «Лефортово». И потекли дни заключения.
Я выпутался из их недружелюбных объятий. Отсидел срок. Как-то ночью в Москве увидел предателя Акопяна в компании офицера, бравшего нас на Алтае. В 2005 году был арестован Балуев, один из ребят, ожидавших нас на пасеке. Он под следствием сидит в тюрьме Новосибирска. Сергей Аксенов вышел из колонии и родил сына Ивана: крепкий красивый пацан. Недавно меня предал Голубович — выступил в составе антипартийной группы против меня. Вместе с ним выступил против меня Шаргунов — другой водитель, побывавший со мной на Алтае. Еще двое алтайских ветеранов погибли раньше странными смертями. Золотарев выброшен из окна в Барнауле в 2000 году, Бурыгин погиб в ночь обыска в Москве тридцатого марта 2001 года. Мир их праху. Над ними сомкнулись воды жизни.
Хобби
Хобби — это не центральное занятие в жизни, а побочное. Я вот люблю до сердцебиения странных немецких поэтов и гностиков-еретиков. Когда мне было двадцать восемь лет, я жил на Погодинской улице, неподалеку от Новодевичьего монастыря, в девятиметровой комнате. Ко мне приходил худой, носатый парень-австриец, служивший в посольстве Австрии переводчиком, и вместе мы переводили на русский стихи поэта-мистика Тракля. Я уже не помню ни имени, ни фамилии австрийца, не сохранились и мои переводы, сделанные по его подстрочникам. Я случайно вспомнил сегодня о лейтенанте Тракле, он покончил с собой в 1914-м в военном госпитале. Вспомнил и подумал, что я совсем не тот человек, который известен всем. Из этой желтой девятиметровой комнаты я каждый день ходил прогуливаться на Новодевичье кладбище. Незадолго до описываемого мной времени туда перенесли останки великого поэта Хлебникова. Я покупал на рынке большие красные яблоки и клал всегда одно яблоко на могилу Хлебникова. Когда его склевывали птицы, я клал следующее яблоко… Большую часть времени я проводил в одиночестве.
До Георга Тракля меня интересовал другой немец-лейтенант, фон Клейст. Лет с пятнадцати меня увлекала и кружила голову история двойного самоубийства лейтенанта фон Клейста и Маргариты Фогель. Он застрелил ее, потом себя. Фон Клейст — великий национальный поэт и драматург немецкого народа. Эти лейтенанты, и Клейст, и Тракль, были совсем молодые люди, чуть за тридцать, чуть старше нашего Лермонтова.
О существовании Симона-мага я знал с начала шестидесятых годов, то есть лет с двадцати от роду. Соперник Христа, летавший над Иерусалимом на закате (его «сбил», согласно легенде, апостол Петр), волновал меня несказанно. Когда я томился в лагере заключенным, еще шесть лет тому назад, Симон-маг являлся мне там в своем ослепительном облике то ли птеродактиля, то ли несостоявшегося Бога. Он летал над промзоной. Недавно я обнаружил в интернете книгу известного адвоката Паршутина о Симоне-маге. Автор высказывает предположение, что христианство украло биографию Симона, дабы приписать некоторые эпизоды истории Христа. Самого Симона, как водится, очернили, назвав его именем не только ересь: «симонианство», но и коррупционное преступление — «симония». Будто бы Симон-маг пытался купить себе епископскую кафедру за деньги. Эти их кафедры, чего они стоили! Историк Ренан пишет, что христианские епископства первых веков христианства, как правило, объединяли в общину всего-то шесть — пятнадцать верующих. Так что «епископ Антиохийский» или «епископ Иерусалимский» всего лишь обращались к группке странных полубомжей, полухиппи в рваных плащах. Правда, говорят, что встречались там и богатые чудаки. Несколько апокрифических текстов утверждают, что Мария Магдалина была женой богатого землевладельца, которому принадлежал, среди прочего, и Гефсиманский сад, где схватили Христа. Она говорила на нескольких языках и, разумеется, никогда не была проституткой. Проституткой ее сделали враги христиан — ортодоксальные иудеи, Синедрион и активисты вокруг. А христиане в свою очередь очернили Симона-мага и гностиков.
У меня есть книг семьдесят на все эти темы, не популярных, но профессиональных, то есть академических. Я их читаю постоянно, все эти «Апокрифические Апокалипсисы» или рукописи из Наг-Хаммади, найденные в Египте в 1945 году. Я вам признаюсь, что я большой знаток гностиков, ну как знаток — ересь Карпократа я не спутаю с учением Маркиона. Вот сейчас в июле в провинции Синьцзян в Китае взбунтовались уйгуры в городе Урумчи и в других городах. Были столкновения на улицах, уйгуры, я немедленно вспомнил, в VIII и IX веках сделали своей государственной религией манихейство. Манихейство же было основано пророком Мани в III веке. Мани гремел от Рима до Китая. Религия его соперничала с христианством, и успешно. Мир наш, учил Мани, это смесь Света и Тьмы, а мир сотворил благой демиург, именуемый Духом Жизни. Манихейство признает ряд пророков, в том числе Иисуса, ряд завершается Мани. Сам Мани мученически погиб, как подобает пророку, в Персии, а манихейство подготовило мир к пришествию ислама. Именно в тех странах, где было распространено манихейство, восторжествовало учение пророка Мохаммеда. И уйгуры сейчас, и уже давно,— мусульмане.
Занимаясь гностиками, я открыл для себя следующее: ересь катаров, исторически относящаяся к XII и XIII векам, похожа до полного смешения на гностические ереси II и III веков, в частности на ересь Маркиона. Катары — жители предгорий с французской стороны Пиренеев,— сумели захватить эти южные земли, где и большая часть епископов и аристократов (так, граф Тулузский покровительствовал им и, по слухам, сам был тайным катаром) были обращены катарами. Римское папство провозгласило Крестовый поход против катаров. Не сразу, но они были разбиты или бежали. Их основная крепость Монсегюр пала в 1244 году. Но не сама история катаров остановила мое внимание. Мой очень здравый смысл отказался верить в то, что ересь катаров могла повторить через тысячу лет с большой точностью идеи Маркиона и Оригена (величайший христианский мыслитель III века, считается также и еретиком), то есть гностиков. Не живут тысячу лет ни идеи, ни религии! Ну правда, не живут! И тем более не живут ереси.
Мое умозаключение: и Ориген, и Мани, и гностики (Маркион, Карпократ, Валентин и другие), и катары — все они жили в одно время, а именно в XII–XIII веках, если считать по христианской эре, а Христос был распят где-то за год до первого Крестового похода, то есть в 1095 году. Поскольку представить себе, что крестоносцы из возбужденной вдруг через тысячу лет после смерти Христа (!) Европы бросились освобождать вдруг Гроб Господень, через тысячу лет!— это благоглупость. Никакие религиозные чувства не смогут сохранить свою пылкость через тысячу лет. Это я вам говорю, отец Эдуард.
В самом конце восьмидесятых годов судьба занесла меня во французские Пиренеи, в деревушку Кампрафо близ города Сент-Шиньян. Неподалеку расположен более крупный городок Безье. Это оказались солнечные, знойные горы, старинные дома, забытые богом и туристами мосты, виноградники, овчарни. «Земля катаров!» — сообщил мне приятель, у него был старой постройки, времен французской революции, дом в Кампрафо. «Земля катаров» — непокоренных еретиков. Десятки тысяч из них погибли во время Крестовых походов (или «альбигойских войн», как их еще называли по имени городка Альбигуа). Впрочем, катары считали смерть освобождением от плена материи. Эти суровые люди верили, что материальный мир создан отпавшим от Бога его старшим сыном Люцифером. Они верили, что враждебность двух начал — материи и духа — не допускает никакого смешения. Поэтому они отрицали и телесное воплощение Христа (считая, что тело его было духовным, лишь имевшим видимость материальности), и воскрешение мертвых во плоти. Что касается людей, то их тела считали созданием злого начала. Души у большей части человечества, верили они, также — порождения зла. Но души избранных людей сотворены благим Богом — это ангелы, заключенные в телесные темницы. В результате смены ряда тел (катары верили в переселение душ) они должны попасть в их секту и там получить освобождение от плена материи. Для всего человечества идеалом и окончательной целью, в принципе, было бы всеобщее самоубийство. Оно мыслилось самым непосредственным образом или через прекращение деторождения.
Звенели сильные южные цикады, горячий ветер шуршал в виноградниках, южные созвездия живыми пульсировали в ночном небе. Я сидел на крыше дома в Кампрафо и представлял себе этих страннейших катаров, добродетельных, вегетарианцев, воздерживающихся от брака и деторождения на этой плодороднейшей жаркой земле, где вино и мясо побуждают к похоти как нигде еще. Около тридцати лет они доблестно противостояли резне и чужеземным военным.
Понятно, что в долгие зимние, и осенние, и весенние, и летние вечера я думаю не о том, о чем думаете вы и что вы воображаете. У меня другие «хобби».
Маркион из Синопа, тот отрицал Ветхий Завет и три Евангелия, за исключением части Евангелия от Луки и посланий апостола Павла. Тело Христа Маркион считал обманчивым призраком… Другие гностики верили, что распят был Симон Кириенянин, а настоящий Спаситель, смеясь, стоял за крестом.
Old colonial hands
Ален прислал мне e-mail следующего содержания: «Хай, Эдвард! Приветствую тебя из Кабула, я нахожусь здесь и в Киргизии с самого апреля и собираюсь to get the fuck out завтра. Я буду недолго в Москве и интересуюсь, можешь ли ты прийти на обед во вторник. Тут есть один журналист, живущий рядом, он хочет встретиться с тобой, он пишет книгу о русских радикалах, и, я думаю, будет неплохо для обоих из вас, если ты будешь включен в книгу. Можешь привести с собой кого хочешь: хотя это будет небольшой обед».
Я явился на обед с удовольствием. Принес в пакете «противень» (не уверен, что правильно орфографирую эту посудину для приготовления пирогов с гнутыми краями), оставленный у меня когда-то Аленом, он приходил с женой и ребенком и несколькими кило лазаньи в этом самом «противне». Еще я принес Алену мою книгу стихов, не уверен, что он ее одолеет.
Я всю мою жизнь общаюсь с журналистами и люблю с ними общаться. Они — самые информированные люди в нашем мире. Они бывают в экзотических странах и на своих башмаках приносят в «цивилизованный мир», где я вынужден нынче жить, пыль нецивилизованного. Ален провел много лет в Афганистане. И Афганистан ему давно надоел. Помню первое его появление на пороге моей квартиры. На пороге стоял человек в афганской шапке, в рыжем пальто. Пальто было как халат подпоясано, затянуто немыслимым русским ремешком. В руке у него был полусундук, полупортфель, настежь открытый. Сундук выглядел так, как будто из него уже вывалилась половина содержащихся в нем вещей и вот-вот будут у меня на глазах вываливаться остальные.
Я стал хохотать.
— Что не так?— спросил Ален.
— В первый раз в жизни вижу столь странно выглядящего американского журналиста.
— Что удивительного?— смутился Ален.— Афганский шапка, и только.
Он мне сразу понравился. В Афганистане я не был. Я был в Таджикистане и на границе с Афганистаном был. Видел, как горит Мазари-Шариф, родной город тогда премьер-министра Гельбутдина Хекматьяра. Это был 1997 год, талибы штурмовали Мазари-Шариф. Я знаю Среднюю Азию, был в четырех ее странах, и знаю персонажей афганской политики. Ален знал Ахмед-шах Масуда. В первую встречу тогда мы о нем только и говорили. Французски образованный полевой командир был впоследствии убит двумя выходцами из Марокко, замаскировавшимися под журналистов… Ладно с воспоминаниями…
В этот раз Ален был одет в мешковатые брюки и такую же рубашку. В квартире вкусно пахло. Затем пришли гости, упомянутый сосед-журналист и еще один парень из крупной английской ежедневной газеты. И потом женщина-журналистка с арабскими чертами лица. За свои афганские страдания и афганские риски Ален вознаграждается неплохо,— шампанское у него было «Мумм», а когда оно закончилось, мы перешли на итальянское белое вино. В квартире вкусно пахло, потому что Ален пригласил готовить женщину. Женщина сделала два основных блюда — красный упитанный лосось под шубой из неких листьев и кусочки курицы в бамбуковых листьях и кокосовом соусе. Дико вкусно.
Как я понял, янки совсем разуверились в возможности победить в Афганистане и потому морально деградируют. Употребляют assassination tactics. Приходят в деревню, строго допрашивают (понимай, видимо, пытают) жителей, узнают фамилии лидеров и уничтожают их. Хамид Карзай — очень красиво одетый президент Афганистана — очень часто плачет публично. И стенает. Это его личная tactics. Оказывается, афганцы сентиментальны, и, например, плач на похоронах — признак хорошего тона…
В середине девяностых годов я был в Москве знаком с сыном коммунистического лидера Афганистана Бабрака Кармаля,— Восток его звали. На память от него мне остались четки,— удивительно, но четки эти прошли со мною мои тюремные годы и вышли со мной на свободу. Восток рассказывал мне, как последователей его отца сбрасывали со связанными руками с вертолетов в горах. «У нас,— говорил Восток,— выбирают лидера и остаются ему верны до последнего. Партия у нас второстепенна. Идеи — тоже, главное — лидер». Помню, что мне подумалось, вот хорошо бы и у нас в России было так.
В гостиной у Алена стоит фигура человека в полный рост, сделанная из розового пластика и наполненная водой. Ален одел ее в каску и куртку и употребляет для тренировок ударов в боксе. Я пошел, пока никто не видел, и пару раз врезал этому приземистому пластиковому борову. Он остался равнодушен к моим ударам.
Я вернулся к столу и вспомнил об Ахмед Шах Масуде, спросил, есть ли в Афганистане сейчас такие экзотические лидеры, как Ахмед Шах Масуд. «Таких нет»,— вздохнул Ален. Ахмед Шах мальчиком учился во французском лицее в Кабуле, выиграл, как сейчас говорят, грант для учебы в колледже во Франции. Но не захотел туда ехать, но стал членом мусульманской юношеской организации. С этого началась его карьера романтического полевого командира. В последний день своей жизни, 9 сентября 2001-го, ранним утром таджик Масуд, «лев Панширской долины», читал персидские стихи. Шикарно!
Так мы сидели и беседовали. У Киплинга есть выражение «old colonial hands» — старая колониальная рука, употребляемое в отношении тех, кто долго служил в колониях. Это особые люди, они другие, чем обитатели сырых, бледных городов Европы, они навеки обожжены страстями экзотических стран. Так и мы с Аленом. Мои приключения в Средней Азии, впрочем, я пережил не на службе Империи, но на службе моих собственных страстей, но я чувствую себя old colonial hand.
Потом я еще пил виски. И домой попал в два часа ночи. О русских радикалах я так и не поговорил.
Меж двух столиц
Второго июня у меня должна была состояться лекция в актовом зале философского факультета Санкт-Петербургского университета. И вот за два часа до начала мне вдруг сокрушенно сообщают, что лекция не состоится, ее отменяет резко струсившее факультетское начальство. (А приехал я, между тем, по приглашению дискуссионного клуба университета. Клуб приглашал даже В. Буковского, и ничего…) Я приезжаю всё же на место действия. Люди пришли. Аудитория заперта. К СПбГУ подтягиваются милицейские подразделения. Беседую со студентами и преподавателями на улице, у памятника Ломоносову. Конец эпизода.
Четвертого июня я отправляюсь обратно в Москву. По договоренности с Rolling Stone я обещал проехать по радищевскому маршруту. Мы составляем караван из двух автомобилей. В первом, принадлежащем Rolling Stone, помещаемся: на заднем сидении: мой секретарь Елена в красном пальто с кружевами, я и Павел Гриншпун of Rolling Stone; на передних креслах — за рулем Глеб — главный редактор, и парень-фотограф (как сел, так и начинает снимать меня с переднего сидения), both of Rolling Stone. В моей «Волге», то впереди нас, то за нами, следуют пятеро моих охранников. Вперед, навстречу приключениям по пути, воспетому Радищевым! Павел держит в руке диктофон, и мы беседуем, как говорят в тюрьме, «за жизнь»: мои книги, мои жены, мои войны…
Решаем перед выездом из города отметиться у Смольного дворца, некогда «колыбели» Октябрьской революции, а ныне рабочего места губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. Заезжаем сбоку и толпой, в количестве десяти человек, быстро шагаем мимо исторических памятников и ядовито-зеленых деревьев, вдоль подкормленных удобрениями лужаек. Странные в этом месте, смесь нацболов и Роллингов, Елена в красном пальто, кто небрит, кто с бородой, несколько пацанов в темных очках. Появляемся перед фасадом здания, где фотограф меня фотографирует: клац, клац, клац… Спиной и боковым зрением чувствую, как стекаются к нам со всех сторон менты.
— У вас есть разрешение фотографировать?— сипит приблизившийся на расстояние хватания человек в кепи и темно-синей форме. Похож он на заправщика автостанции, черные узкие усы. ФСО — определяю я, хотя с формой незнаком, но к «заправщику» прикомандированы обычные милиционеры в фуражках, значит, он главный. Охрану правительственных объектов ведет Федеральная служба охраны. Фотограф объясняет, что разрешение не требуется.
— Мы с мирными целями,— подтверждаю я.— Сфотографироваться, и только.
— Ваш паспорт!— требует «заправщик».
Я даю ему паспорт, пусть подавится. Я в таких случаях спокоен, как Фридрих Ницше, или как его герой — Заратустра.
Мы передвигаемся к милицейской будке. «Заправщик» передает паспорт милиционеру в будке. Тот начинает переписывать данные.
— Мы только пару фотографий сделаем (фотограф).
— Это ребята из журнала Rolling Stone, серьезный известный журнал. И меня вы, наверное, узнали (я).
— Да,— говорит «заправщик».— Но я обязан. У нас тут правительственный объект. У нас тут губернатор…
— Слушайте, офицер, губернаторы приходят и уходят, а Лев Толстой остается. Их никто и помнить не будет, а меня будут (я).
— Верно,— неожиданно соглашается «заправщик».— Только мне два года дослужить надо, потом домик в Крыму куплю, на родину поеду…
— Вот и я, кажется, если невмоготу станет, на Украину двину,— соглашаюсь я.
Мне отдают паспорт. Переписали данные.
— Можно мы сделаем одно фото внутри ограды, у памятника Ленину?— фотограф.
— Делайте, только ничего не устраивайте…
Идем с фотографом к ограде, у калитки и за калиткой и менты, и военные. Поют птички, раскачиваются под ветром кроны деревьев. Но, может, это не птички и не просто кроны. Я становлюсь на фоне Ленина — вождя восставшего пролетариата. Ну а что, я хочу быть вождем восставших, разве это секрет? Логично, что на фоне Ильича.
Вернувшись в машину, рассаживаемся в прежнем порядке. Павел включает диктофон. И вся моя красочная, многострадальная, но и многовеселая, приключенческая жизнь Эдварда Лимонова оседает в глубине крошечного блестящего металлического предмета. Красавицы, чудовища, сербские бойцы, менты, заключенные, французские работяги и писатели… смешаны разнообразными пейзажами и временами года: всё идет туда, в диктофон, в вечность.
Останавливаемся на заправке. Вернувшись из вонючего туалета, на бодром, но никак не летнем солнышке вспоминаю, что накануне ночью довольно много выпил. И что по правилам у меня должно быть похмелье, которого у меня никогда не бывает. Иду к автомобилю Rolling Stone, прошу открыть багажник. Извлекаю из сумки полбутылки граппы, купленной накануне. Прикладываюсь к горлышку бутыли, предлагаю Павлу of Rolling Stone. Он не отказывается. Подходит Димка по кличке Север, один из охранников.
— Что это у вас, Эдуард? (Невинный вопрос, не так ли?)
— Вам нельзя, вы на службе. Граппа.
— Никогда в жизни не пробовал граппы… — чуть ли не стонет Север — большой молодой человек в небольших очках — как Пьер Безухов из фильма.
— На, глотни.— Я протягиваю бутыль. Он глотает.
— Да, качественный продукт. Уважаю.— Отдает мне бутылку. Занимаем места в автомобилях. Беру бутылку с собой в салон. Двигаемся. От секретаря Елены пахнет неким черносливово-свежим чуингамом. Павел включает диктофон. Изо рта у меня сыпятся солдаты, заключенные, Наташа Медведева, Елена Щапова, Катя Волкова…
Мы уже в Новгородской области. Более серьезно выглядят сосны по обочинам дороги. И дорога становится заметно уже и хуже. Качество дороги, соединяющей две столицы России, я бы определил как невыносимое. В свое время к тому же выводу в XVIII веке пришел уважаемый Александр Радищев. Этому дворянину его книга обошлась трагически дорого. В мае 1790 года в книжном магазине Зотова «Путешествие из Петербурга в Москву» была продана в количестве двадцати пяти экземпляров. В магазин Зотова (видимо, нечто вроде «Фаланстера») нагрянули жандармы. Автора молниеносно арестовали, и через месяц судебная палата вынесла ему смертный приговор. Полтора месяца Радищев ждал смерти, но Екатерина II заменила казнь ссылкой в Илимский острог на десять лет. В 1802 году он покончил с собой, оставив записку: «Потомство за меня отомстит». И отомстили.
Я размышляю обо всем этом, глядя то мимо лица секретаря Елены и ее черной волны волос, то мимо лица Павла of Rolling Stone, глядя на темные сосны, на косматые старые ели Новгородской земли. В России тяжелая государственность, на борьбу с которой уходят все силы общества и силы гениев русской земли. Наше государство — жестокий тупой зверь. Что при Екатерине, что в 2008 году. Так я простенько думаю.
Вдруг мы останавливаемся. Происходит это среди глухого в общем леса, ясно, что тут нет светофоров и нет поперечных дорог. Стоят дальнобойные фуры из Германии, изо всей Европы, и мы в наших двух машинах. Стоим полчаса, час, два. Чуть сдвигаемся было, но опять многокилометровый караван замирает. Водители произвольно покидают свои автомобили, высматривают даль с обочины, бродят, уходят в лес отлить. Я ухожу отлить. Охранники следуют за мной, но скромно отворачиваются. Фотограф Rolling Stone тоже следует за мной.
— Ну нет, не за этим занятием!— возражаю я. (Он, по-моему, собирается снять меня именно за этим. Он же фотограф из Rolling Stone, не из журнала Vogue).
Ели, лианы какие-то северные на них, папоротники — красивый лес на подходе к дому Бабы-яги, но еще не у самого дома Бабы-яги.
Со скрипом сдвигаемся метров на пятьсот. Чуть впереди виден пост ДПС. Копошатся не спеша пара ментов. На самом деле Россия покрыта сетью КПП. Подобных сетей нет ни в одной стране. Они в других странах появляются временно, при введении чрезвычайного положения. У нас полицейские контрольно-пропускные пункты существуют вечно, уже при Радищеве жандармы стояли на заставах. И эти ДПС — пункты сбора дани с населения и пункты контроля за населением — просто позорно кричат об отсутствии свобод в России, о том, что у нас полицейское государство.
Один из охранников добирается до ДПС и приносит нам разгадку появления чудовищной пробки там, где к этому нет предпосылок. Ремонт дороги! Меняют покрытие. Еще через час мы добираемся до места ремонта. Все рабочие сидят в автобусах, готовые, видимо, уехать. На дороге никто не работает! Какого же! Мать их! Работали ли они в только что прошедшем времени? Не факт.
В одном месте дороги фривольный мент, играя своей палкой, стоит, закрыв собою путь встречному каравану фур и автомобилей. Мы катим, счастливчики, мимо них, несчастливых. Уже одиннадцатый час, еще светло. Мы насчитываем в восемь километров длину каравана встречных автомобилей.
После 23 часов вечера, у древнего елового леса, теперь уже такого, как у самого дома Бабы-яги, останавливаемся отлить по просьбе Елены. Женщины в таких делах более терпеливы. Это ее первый раз. В красном пальто, черные волосы гривой, она отходит вглубь леса. Дико громко поют замерзшие соловьи. Красным пятном Елена выходит из леса.
— По машинам!
Устремляемся дальше, к городу Валдай, где намереваемся поесть. Есть уже хочется даже мне. (Почему «даже»? А я ем раз в день, вечером.)
Валдай выглядит аккуратно. Павел of Rolling Stone, высадившись на потемневшей, по-видимому, главной улице города (вдали в конце улицы потому что виден абрис собора), обращается к двум юным валдайкам. Валдайки дружелюбно объясняют Павлу, как доехать до кафе «Арарат». Радищев в своем «Путешествии» забавно предупреждал путешественников о наглых валдайских девках, однако отмечал, что к моменту его путешествия они как будто сделались менее наглыми. Спрашиваю Павла, наглыми ли показались ему современные валдайки? «Нет, отличные валдайки, приветливые…»
Город выглядит ухоженным. Правда, мы в самом центре. Проезжаем до самого собора. Сворачиваем влево. Видим, что у летнего кафе сидят за столиками некие по виду гопники в тренировочных костюмах. Если это кафе «Арарат», то нам не сюда. Возвращаемся к собору. Фотограф решает запечатлеть собор. Что и делает. Катим, собираясь покинуть город. Вдруг оказываемся у кафе «Арарат». Павел идет на разведку. За ним следуют охранники. Возвращается, оценив обстановку. Общий диагноз: нормальное заведение. Входим все, подымаемся на второй этаж. За одним из столов в углу зала действительно армяне. Занимаем место за тяжелым деревянным столом. Как раз ему приданы десять стульев. Рассаживаемся.
Водитель «Волги» Стас иронически набрасывает словесный портрет города. Согласно Стасу, Валдаем владеют две группировки: гопников, со штаб-квартирой в кафе с пластиковыми стульями, и группировка армянской диаспоры, штаб-квартира в кафе «Арарат». Вероятнее всего, они враждуют. Действительно, видимо, так и есть.
Водку пьем лишь мы с Павлом. Елена пьет шампанское. Салаты, мясо в горшочках, шашлыков нет, есть телятина… Мы всему рады, очень уж голодны. Охрана, она же служба моей безопасности, пьют соки, и заканчивают они мороженым. Я выпиваю большую часть полулитровой бутыли водки «Флагман», но ни в одном глазу, что называется. Трезв.
Усаживаемся в автомобили. Выезжаем из Валдая и несемся в Москву. План Павла заночевать в Валдае не реализуем. Нам еще ехать и ехать, а в 13:30 у меня встреча с отечественными VIP-лицами оппозиционной политики. А уже полвторого ночи ведь.
Трасса оживленно пульсирует. Непрерывный поток фур и автомобилей. В обоих направлениях. Фотограф сменяет за рулем главного редактора Глеба. Елена засыпает. Выпадает в сон Павел of Rolling Stone. Я сижу между ними, место у меня неудобное, да и в любом случае мне никогда не удавалось заснуть в автомобиле. В автомобиле я пассажир, езжу на встречи, сижу в пробках, живя в Америке, мне приходилось в автомобиле make love, но спать не могу.
Начало июня — начало белых ночей. Ночь еще есть, но она всего три — четыре часа. Потому очень скоро небо быстро светлеет. Просыпается Елена, вынимает тушь и подкрашивает зачем-то глаза, а позднее — губы. Ей двадцать три года, зачем подкрашивать? Но ей так хочется. Павел of Rolling Stone спит, навалясь на дверцу машины. Подмосковная растительность проносится мимо. Несемся мимо Зеленограда, вонзаемся в городской округ Химки, а вот уже и бетонные сваи, подпирающие МКАД. Безалаберная, плохо структурированная, скопление бетонных бараков и асфальтовых артерий под нами и вокруг нас — Москва.
Радищев путешествовал в карете и получил в конечном счете за свою книгу десятку. В 2003 году 28 февраля мне пытались за небольшой текст «Вторая Россия» впаять четырнадцать лет. Прокурор запросил четырнадцать. Тогда мне повезло больше, чем Радищеву, судья Матросов дал мне четыре года. «Потомство отомстит за меня»? Надеюсь, что успею сделать это сам.
Поклонение лошади
По-французски «рыцарь» — это chevalier, то есть тот, кто на коне, потому что «конь» — это cheval, он. Леха-алтаец, таким образом, был прирожденным рыцарем. И отец его был рыцарем, поскольку был возчиком. И родственные алтайцам калмыки — все рыцари. И Чингиз-хан был рыцарем.
Леха-алтаец рассказал мне о своих отношениях с его лошадью. Как у всех алтайцев, американских индейцев и сибирских и финских народов, у Лехи отсутствует ген, ответственный за переработку алкоголя. Леха, признался он мне, часто заканчивал день в состоянии алкогольной интоксикации. Верная кобыла Айдын, «Дуня по-вашему», объяснил Леха, всякий раз привозила его домой. Будучи не чистым алтайцем — один из дедов Лехи был русский мужик, старовер,— Леха обычно бывал всё же в состоянии распрячь Айдын, разнуздать то есть, снять седло, напоить и дать ей зерна. Ну, овса. И только потом падал себе.
— Один день очень пьяный я был, забыл про нее. Утром прихожу, она стоит, некормленая, непоеная, с седлом, удила рот растягивают.
— Айдын,— говорю.— Ай, виноватый я! Извини, пьяный был!
Она чуть повернулась и задом меня толкнула. Я упал.
— Ты что, собака!
Вскочил, кулаком ей в челюсть. Она отпрыгнула и копытом меня. Больно, но ничего не сломала. Силу удара рассчитала. Могла бы ведь убить.
Я ей опять в челюсть. Она меня к изгороди прижала…
Долго дрались, целый, может, час…
Потом помирились всё же…
Лошадь — загадочный зверь. Огромное в сравнении с человеком существо, верховая ведь весит до 600 кг, а тяжеловесы — свыше тонны, высоченное, в холке до 175 см и больше, почему она добровольно служит человеку, образуя с ним удачный творческий симбиоз? Из этой пары лошадь нужнее человеку, чем он ей, так по крайней мере кажется с первого взгляда. Человек приобрел с лошадью силу, выносливость, мощь. Да, так. Но лошадь приобрела его дьявольский изобретательный злобный ум, хитрость, коварство, волю к завоеванию. Никто не знает, тщеславны ли лошади, но звуки труб, победы, триумфа должны им нравиться. Впервые применять лошадь в сражениях стали в Древней Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. А закончили во Вторую мировую. Какой путь! Сколько трупов людей и лошадей!
Вместе они покорили племена, страны и даже континенты. В двух Америках, в Северной и Южной, лошадей до появления европейцев не было. Кортес покорил мощнейшее государство ацтеков исключительно благодаря ужасу, который вызывал у ацтеков испанский воин на лошади. Ацтеки приняли пару конь — всадник за единое существо, за жестоких демонов, напавших на их землю.
А на минуточку представьте себе лавину всадников Первой конной, несущихся с бритвами в метр длиной на другую такую же лавину польских конфедератов с такими же острейшими бритвами в руках! От одной картинки такой мысленной мурашки по коже, стальные уколы по коже! А они неслись, и кони, и люди! Крепкий конник комбриг Котовский мог разрубить противника косым ударом от плеча до седла… От плеча до седла, наискосок, представляете? Мы, живущие сегодня, хлипкие люди, вырожденцы, может быть, оттого, что разъединились с лошадью?
Кентавров из учебника, когда Грецию и ее мифологию изучали, помните? Конь на четырех копытах — мускулистый зверюга с торсом и головой человека, с легкой бородкой, веселый, злой и похотливый.
Кобыла вынашивает плод целых 11 месяцев, дольше, чем человеческая женщина. И рождает обыкновенно одного, от силы двух жеребят, как женщина.
Equus gerus caballus — одомашненная лошадь — единственный род в ее виде, так же как Homo Sapiens в своем виде единственный. Вот они и сблизились, сироты в своих родах, чтобы победить мир. Вряд ли это был союз по расчету только, скорее союз по любви, от жгучей зависти друг к другу они объединили усилия. Помните, Калигула, жестокий юный император Рима, не делая различий между лошадью и человеком, посадил своего жеребца в Сенат… А легенды о римской Мессалине и российской императрице Екатерине, утолявших свои страсти с жеребцами?! А!
Лошадьми кишит мировая история. Они изображены на доброй половине всех полотен живописцев. Мифический Пегас — конь с крыльями — возносил поэтов на Олимп…
Боевые лошади воевали, мирные вспахивали поля, дорожные влекли по дорогам кареты, слепые, ходя по кругу, подымали воду из колодцев и опрокидывали ее в оросительные каналы. Принц Эдинбургский, муж королевы Английской, и ее сын, принц Чарльз, имеют лошадиные лица. Даже мужские пиджаки до самых семидесятых годов XX века имели основанием для груди подкладку из конского волоса…
Весь Древний мир вывезла на себе лошадь. Она влекла колесницы первых фараонов и артиллерийские орудия Второй мировой. Все Средние века человечество прожило тесно с лошадью. Вплоть до конок, потащивших по стальным рельсам вагоны на рубеже XIX и XX веков. Человек, как видим, не в одиночестве покорил планету. Он покорил ее совместно с лошадью.
Жеребята у них как дети. История, которой я был сам свидетелем на Алтае, высоко в горах. Однажды приезжают пастухи-алтайцы. Озабоченные.
— Наших жеребят не видели?
— Нет. А что такое?
— Увел хулиган Нури одиннадцать жеребят в лес и сманил от табуна, чтоб ему плохо было. У нас тут волков полно, и умницы такие наши волки…
— Кто такой Нури?
— Он жеребенок, Нури, очень дерзкий, непослушный, родился таким. Хулиган. Уже не раз сам убегал, а тут еще десяток подростков подбил. Ускакали. Второй день ищем.
На следующий день проезжаем на уазике мимо табуна. Видим, что в отдельном загоне стоит черный жеребенок и спокойно ест овес из ведра. Под передней ногой у него красное пятно.
— Утро доброе,— подходит пастух.
— Ну как, нашли жеребят?
— Нашли. Сами вернулись, только вот волк его кушал,— показывает пастух на черного жеребенка.
— А зачем он отдельно у вас?
— Умрет скоро, нельзя с другими держать.
— Почему умрет? Рану что, нельзя залечить?
— Совсем нельзя. Слюна у волка такой ядовитый слюна, всё равно умрет. Водки у вас нет?
Водки у нас не было.
Города
На мокрой старой груди Венеции
Венеция, что б нам ни говорили, была пиратской республикой. С какой бы целью ни удалились на острова Венецианской лагуны еще в шестом веке первые их поселенцы, в девятом венецианцы уже вовсю жили быстрыми набегами на морских судах на торговые пути Средиземного моря. Венецианская республика грабила, торговала, натравливала соседние государства друг на друга. Боясь до поры до времени Восточной Римской империи (она же Византия), смиренно прижималась к сапогу ее императоров. В 1082 году Константинополь даровал Венеции важные коммерческие привилегии. Это не помешало в 1204-м венецианцам перевезти на своих судах крестоносцев к Константинополю. Крестоносцы захватили город и утопили его в крови. Венецианцы под шумок занялись открытым беспощадным мародерством. Их знаменитый собор Святого Марка полон колонн и архитектурных украшений, с мясом вырванных из византийских храмов. Сокровищница венецианцев тогда же заполнилась константинопольским золотом и драгоценностями до такой степени, что пришлось строить еще одну.
Пиратский Большой Совет (кто видел фильм «Пираты Карибского моря — 3», тот может смоделировать, как выглядел первый Большой Совет Венецианской республики) был создан в 1148 году. Москва была тогда еще сараем боярина Кучки, а пираты уже дружно советовались, кого лучше ограбить, кого предать. Впоследствии венецианцы использовали борьбу турок и европейцев, переходя из лагеря в лагерь с легкостью необыкновенной. Святого для них никогда ничего не было. Разбойничьи роды строили разбойничьи гнезда на островах, дома, из дверей которых можно было в случае опасности выпрыгнуть прямо в гондолу и мчаться на всех веслах к родному кораблю под парусами. Грамотно построили свои дома венецианцы: парадная пристань, а сзади черный ход, выходящий дверями на пустой мелкий не канал, но kanaletto, каналец. Чтобы удобно было бежать.
Кровь предков пиратов, для которых нет ничего святого, оказала влияние на поведение их потомков и на их репутацию. В Италии венецианцы всегда считались людьми коварными и лживыми, доверять которым нельзя, нарушителями договоров и клятв. Понятно, потомки пиратов… Вы бы доверились сегодня сомалийским пиратам? Или их детям? Или даже их внукам?
Разбогатев награбленным, Венеция стала ценить роскошь и искусство. В музее «Академия» висят впечатляющие полотна со всего мира, но и венецианской школы: шедевры Беллини, Карпаччио, Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Каналетто, Тьеполо! Достаточно этих имен, чтобы у знатока искусства захватило дух. Художников тянет к золоту, а золота в Венеции было много.
Венецианскую республику в 1797 году отменил великий Бонапарт, предварительно разбив ее войско наголову. Венеция вошла в состав Австрии, а в 1866 году — в состав объединенной Италии. С тех пор Венеция — город богатых скучающих романтиков и город туристов. Там бывали Байрон и Оскар Уайльд. Хемингуэй прославил город романом «За рекой, в тени деревьев». В Венеции черный Отелло душил белую Дездемону. «Смерть в Венеции» — гомоэротический фильм большой силы — связал Венецию с наказуемыми пороками.
После этой официальной части-вступления приступим к неофициальной. Я побывал в Венеции два раза, и оба — нелегально. Так случилось. Каждый раз это случалось зимой. Каждый раз было холодно, и срывался снег. Два этих посещения, в 1982 году и в 1992 году, разделяют десять лет.
Когда вы выдаете себя за того человека, которым вы не являетесь, и в кармане у вас лежит не ваш паспорт, то Венеция выглядит настороженно и тревожно. Старые пиратские гнезда вкось и вкривь вытанцовывают перед катером vaporino, который влечет вас на встречу, а она может оказаться последней в вашей жизни.
В эти моменты вы видите то, что недоступно взгляду обычного туриста, озабоченного лишь тем, чтобы не опоздать к бесплатному обеду в гостинице. Вы видите, что вода — белая, и белая мыльная вода соприкасается на Большом канале с огуречно-салатовым небом. Что везомые баржей дрова имеют белую кору, но это не березовые дрова. Что волосы вашей спутницы — зеленые… Что у нее крупный классический нос, как у античной статуи… у нее ведь замечательный профиль!— думаете вы… Замечательный профиль…
Когда у вас в кармане чужой паспорт, все вам кажутся подозрительными. Человек в шерстистом зеленом пальто, почему он вышел из брюха вапорино и упорно стоит рядом с вами на палубе? Почему ему не холодно?
В состоянии беспокойства я шел вдоль галерей на площади Сан-Марко, не освободившейся еще окончательно от груза воды с лагуны. Я думал, что Венецию всё чаще заливает, всё выше уровень гнилых вод, что скоро она, возможно, скроется под водой. Но мне милы умирающие и разрушенные города. Я не выношу вылизанных, залакированных столиц. Мне подавай умирающие или разбитые в войне. Мне в них уютно.
Я много видел Венецию с черного хода, подплывал по своим рискованным поручениям в задние дворы особняков, через выбитые стекла и заколоченные изнутри и снаружи рамы видел убожество и разруху внутри домов. Возможно, обитаемы были лишь передние комнаты особняков, а большая их часть, скрытая от взглядов кирпичной кладкой, остается безмолвная, черная и гнилая? Там обитают мокрицы, каракатицы и, возможно, плавающие породы крыс, как небольшие страшные звери бобры. С огромными зубами.
Дымят и шипят венецианские камины. Старики в креслах-качалках накрыты многими пледами. И умирают медленно на фоне вылинявших гобеленов. Подле каждого старика стоит медсестра из Хорватии. Хорватия ведь рукой подать, через Адриатику несколько сот километров. Хорватские медсестры должны быть дешевы. «Mare aggitato»,— говорят хорватские медсестры старикам. То есть море беспокойно. Либо: «mare calme». То есть море спокойно. Лица стариков, как старые кожаные куртки, в страннейших морщинах всех направлений. Измятые, как много раз употребленные газеты. Хорватские черноволосые девушки носят темный пушок на верхней губе.
Я хорошо знаю этот тип стариков, потому что ходил к одному старику-принцу. У старика был butler. Он носил то красный, то белый фартук, этот батлер. Он подавал нам еду в огромных старых тарелках под серебряными колпаками. Еды было немного: горстка брокколи, маленькая рыбка, потому что принц был беден. Я сам приносил ему вино. Несколько лет спустя я увидел моего старика-принца в репортаже в новостях. Убили одного политика, и подозревали правых. Был каким-то образом замешан и мой «принц». Последним показали батлера. Он зло тянул дверь на себя, сужая щель. В репортаже злобно намекнули на то, что butler — старый любовник принца… У меня всегда были предосудительные знакомые. Кисти рук принца были в пятнышках старости.
Там же, в Венеции, меня привели к старой графине. Она, сказали мне, дает деньги правым, может, даст и тебе. У дома старухи был такой значительный фасад, но большинство окон были заколочены. Жила она только в трех комнатах. Но у нее тоже был butler.
Я сидел в замечательном кресле, графиня полулежала в постели, покрытая лоскутным одеялом, имеющим вид, сходный с ковриками, которые в России продают бедным. Но вокруг нее были подсвечники, тихо тлел камин, в окне плескался канал, и потому образовался густой трагизм от этого свидания. Я чувствовал себя международным авантюристом, пришедшим к Пиковой Даме выведать ее страшный секрет. Но ведь на самом деле так и было. Несмотря на лоскутное одеяло, старуха была очень богата и давала деньги правым радикалам по всей Европе.
Ночами я не спал в моем отеле, замышляя интриги и всякие козни. Где же их и замышлять, если не в Венеции? Время от времени к шепелявому плеску волн под окнами примешивался резкий звук мотора полицейского катера, и я тревожился. За мной?
В 1992-м я провел в Венеции сутки в сопровождении целой банды военных. Мы приплыли из Далмации, с той стороны Адриатики. Не только нелегалами пробрались мы в город-музей, но и вооруженными. Это было интересное ощущение. Забыть это невозможно. Эти ощущения…
Холоднейший ветер над морем. Ведь там сыро, низко, над морем-то. Конец декабря, лица у всех красные (накануне пили много), заветренные, глаза красные, кисти рук — как лапы у гусей. Кураж в головах, удаль похмелья, презрение к итальянской береговой охране и полиции. Выдаем себя за торговых моряков, одеты похоже, бушлаты, черные шапки. Все дюжие, здоровые, молодые. Я — старше и тоньше всех.
Совершать поступки, которые не позволяет закон,— рафинированное, тончайшее удовольствие. Еще и в этом заключается притягательность преступлений, а не лишь в вульгарной жажде наживы или в пошлом неумении сдержать эмоции. Нарушить закон тянет всех граждан, но только дерзкие нарушают закон. Правды ради сказать также, что легальным путем нас никто никогда бы в Венецию не пустил, сколько бы мы ни клялись в своих благих намерениях. Между тем, намерения действительно были самые легкие, самые глупые даже: заехать в Венецию в ночь на католическую Пасху. К тому же мы декларировали все принадлежность к другой ветви христианства. У нас Пасха позже.
Мы шли, хохоча, подталкивая друг друга, как настоящие грубые парни-матросы, кочегары и палубные матросы, между тем большинство из нас были профессиональные военные, воевавшие третий год! Три капитана были среди нас!
Нас сдувало с Венеции. Мы подкреплялись из фляжек, но, посчитав валюту, вынуждены были войти в тратторию. А там было чудесно хорошо, как детям, проблуждавшим в холодном лесу, войти во дворец. Там пахло, как в пиратских романах: вареными моллюсками, мясом, пролитым вином.
Нам поставили стол. Принесли граппы. Из нас вдруг с дрожью стал выходить холод. Жителям северных стран знакома эта дрожь от выходящего холода. После того как измерз и попал в пышущее помещение…
Венеция одна-единственная сохранилась из пиратских столиц. В Карибском море у пиратов тоже была столица, на острове Тобаго, но от нее и гнилой доски не осталось. А тут столько осталось! Тех, с Тобаго, перевешали после штурма, а венецианцы высокоискусные, хитрецы, умники, зловредные, злонравные, блистательные, были приняты в сообщество нормальных государств, тоже, нужно сказать, преступных, ибо все государства преступны.
И вот пиратские гнезда пляшут вкривь и вкось в ветреные дни вместе с лагуной. Дорогие бутики развратно предлагают свои прелести размякшим туристам. Ординарные люди, недостойные этого города — пиратского гнезда, бродят тут, где можно бродить, и плывут, где нельзя бродить. В прежние времена чужим сюда можно было попасть либо пленником (здесь перегружали пленных для отправки в Алжир, в еще одну пиратскую республику, для продажи в рабство), либо купцом, либо военным — союзником венецианцев. В новые времена все суются, куда туристические агентства зовут либо друзья или родственники рекомендуют. И в этом тягчайшая дисгармония современности, когда ординарные люди попадают в исключительные места, где им не место. От этой дисгармонии всё в мире пошло наперекосяк, всё стало нехорошо.
А я? Венеция приняла меня с чужим паспортом как своего. Она прятала меня в свои мистические тени, ибо она влюблена, я уверен, в авантюристов, в тех, кто приезжает по тайным делам. Ее, как говорят, хлебом не корми — дай пригреть на своей мокрой, старой груди заговорщиков и преступников. Она благоволит таким и лишь сожалеет, что она немолода, ох немолода. Но из-под старого лоскутного одеяла высовывается она по грудь по причине азарта, забыв счастливо, что груди у нее старые и висят…
«И перед новою столицей померкнет старая Москва…»
В Санкт-Петербурге нужно либо готовить заговор против тирана, жить с английским паспортом, как Борис Савинков, встречаться в церквах с агентами-наблюдателями, ряженными в извозчиков и разносчиков, либо переживать гибельную больную страсть с падшей девушкой типа чахоточной Манон Леско или Сони Мармеладовой, ушедшей в проститутки. «Ах, ничего нельзя поделать!» И все рыдают, наслаждаясь сладкими страданиями. К вышеназванным типам поведения располагает в Санкт-Петербурге и гнилая холодная Нева селедочного цвета, река короткая, широкая и энергичная, и знаменитые питерские доходные дома с самой таинственной в мире архитектурой. Входя в двери питерской квартиры, никогда не знаешь, что за дверью — трущобная комнатушка три на три метра, или же тусклый коридорчик в свежей алебастре выведет тебя вдруг в настоящий дворец со многими этажами и бальным залом. В Санкт-Петербурге каждая дверь ведет в балетную сказку.
Есть, пожалуй, два с половиной балетных города в мире. Венеция, Санкт-Петербург и центр Парижа — острова. Санкт-Петербург — весь загадка, интрига, карнавал, вода, поплескивающая вдруг под балконом, «плюх!» трупа, сброшенного в канал. Современность не умалила, но добавила к зловещей таинственности Санкт-Петербурга: возникающие из тумана совершенно лысые подростки, набрасывающиеся с ножами на южных пришельцев с темными головами; это — настоящее. Но и Средневековье: разве в Венеции не сбрасывали с моста Вздохов зашитых в мешки осужденных? Банды лысых подростков-убийц в ночи — что может более взволновать воображение, если должным образом отрешиться от реалий и вульгарной лексики российского правосудия.
«Санкт-Петербург»… К нему хочется прибавить «граф», граф Санкт-Петербург, так же как граф Сен-Жермен, как маркиз де Сад, как граф Калиостро. Если персонифицировать город, увлекшись моим соблазнительным сравнением, представив его юным развращенным стройным аристократом в парике, из тех, что бегали по пейзажам Сомова или Бенуа, то можно проследить эволюцию. От юного Потемкина (это он потом обрюзг) и стройных братьев Орловых, все с внушительными, лошадиного размера приборами, затянутыми в лосины, до… предлагаю современную сцену. Женщина, скрыв лицо капюшоном черного пальто, пришедшая на свидание к мускулистому жиголо… опрокинутая на кровати, длинные ноги из кружев. Действие происходит в старомодном разваливающемся отеле рядом с Гостиным Двором, цена за номер 1000 (одна тысяча) рублей в сутки. Граф Санкт-Петербург молод. Ему двадцать семь, и он только что вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество… Представим, что такую сцену снял в Петербурге Хельмут Ньютон…
В России мне нравится иностранное. Я был без ума от суровой шинельной строгости Павловского дворца в Гатчине. Там в этом дворце больше германского духа, чем во всей Германии. Если уж мы хотим проникнуться чужим понравившимся нам духом,— мы умеем. От Санкт-Петербурга у меня идет кругом голова, как будто я наелся серых тонких грибов, собираемых в ноябре в окрестностях города санкт-петербургскими декадентами. Когда-то я видел такие грибы у одной питерской девочки, она возила их в трогательной аптечной коробочке, но та девочка давно умерла.
С другой питерской девочкой, Наташей Медведевой, я прожил тринадцать лет. Из них двенадцать в Париже и только год в Москве. Наташа Медведева тоже умерла, как и девочка с грибами. С каждой новой моей девочкой я старался приезжать в Санкт-Петербург, бродил там под дождем по Петропавловской крепости и по мостам, заходил в рюмочные, целовался и радовался жизни. А последние годы у меня вдруг обнаружилось, что все мои новые девочки — все из Санкт-Петербурга. В настоящее время я встречаюсь с одной крошкой оттуда, восемнадцати лет. Из Питера, а не из Санкт-Петербурга происходят и мучители русской интеллигенции Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Отец Путина, впрочем, из лимиты, он переселился в опустошенный блокадой Ленинград из деревни в Тверской области. А Дмитрий Медведев — сын профессора, видимо, примкнул к чекистской лимите. Эти люди настолько банальны, что я упоминаю их здесь лишь из добросовестности. Скажут с упреком: о Санкт-Петербурге без упоминания Путина и Медведева?! Как можно… Пойдемте дальше…
Москва — толстая калмычка: «твоя моя понимает», хитрая торговка, а Санкт-Петербург — без сомнения — заморский фрукт. У каждого — свои преимущества. Там, где заморский фрукт чихает, хлюпает и кашляет, у толстой калмычки только разгораются щеки. Москва носит под верхней одеждой байковые большие советские трусы на толстой заднице и ляжках. Санкт-Петербург финтит в легоньких модных итальянских, по чреслам жиденько растянутых. Распутин глубоко московский тип, хотя и родила его Россия, Санкт-Петербург очень хотел убить его и убил. Большевики с Лениным во главе были иностранцы, эмигранты, как Санкт-Петербург. Сталин был по духу продукт московской государственности, Кремль был ему впору, как в юности стены семинарии, потому чуждый питерскому духу Сталин вырезал питерцев. Курехин и Тимур Новиков могли быть произведены только в Петербурге. А вот Егор Летов, так же как и Распутин, рожден был в Сибири, но по духу своих музыкальных истерик и конвульсий был легко узнаваемый москвич.
Что интересно, что за Санкт-Петербургом никого более нет. Потому он такой одинокий, обидчивый и взбалмошный. А за калмычкой Москвой вся Россия.
В Санкт-Петербурге есть Нева и Финский залив, то есть — море. Там есть холодный неласковый порт, где зимуют обледенелые корабли. Ветра безжалостно атакуют город, выдувая из него нужное тепло и ненужную заразу. В Санкт-Петербурге есть единственная в России площадь, где я чувствую (стоя у Александрийского столпа лицом к зданию Генерального штаба и спиной к вульгарному Зимнему зелененькому дворцу), что Россия — империя. Это Дворцовая площадь. В Москве такого имперского места нет. Стоя на косогоре Васильевского спуска под шатрами храма Василия Блаженного, можно лишь представить, что живешь в Татарии. А стоя на Красной площади, зажатой между Мавзолеем и Главным универмагом Москвы, не понимаешь, почему так мало места. Нет ни перспективы, ни дали, ни величия. Щель, а не площадь. Снесли бы ГУМ!
Москва — сборище бараков, воздвигнутых в разное время разными самодурами, не обладающими даже сильным желанием созидать, ленивых самодуров. Санкт-Петербург создан одним сильным мечтателем, постоянным усилием, напряжением и воображением экстраординарным. Амстердам, с которого якобы «срисовал» Санкт-Петербург Петр наш Великий — жалок, я там был четыре раза, в сравнении с Санкт-Петербургом.
В Москве настроили все кому не лень всего, что в голову взбрело. Хочется похвалить архитектора Сталина. Без его высоток Москва была бы скучнее, а сталинские дома с высокими потолками до сих пор являются инкубаторами для российской элиты. Моя любимая сталинская высотка — здание МИДа. Так и кажется, что сверху сидит могучий каменный бог Гор (Horus), а на всех карнизах присели демоны. При взгляде на высотку МИДа у меня возникает, как пишут в интернете, настроение: фильм Ридли Скотта «Blade Runner», 1982 год.
Всего, что в голову взбрело, настроили. Хочется изругать градоначальника Лужкова, воздвигшего на месте Манежной площади смехотворную базарную композицию с бронзовыми «скульптурами», «Рыбак и рыбка» и более мелкие персонажи пушкинских сказок в воде якобы реки Неглинной там торчат. А рядом подземный, о трех этажах, магазин редкой вульгарности. Кто запузырил этот проект в священном месте в сотне метров от Священного Огня и Могилы Неизвестного Солдата? Чье пошлейшее сердце придумало? Расстрелять, расстрелять бы, если бы за пошлость и отсутствие вкуса расстреливали, то архитектора расстрелять…
Архитектора, без сомнения, воспитывает вкус. Пошлая архитектура — базарный вкус. Лас-Вегас, например,— это базарный вкус. Граждане ходят мимо благородных очертаний архитектуры Санкт-Петербурга и облагораживаются. Ходят мимо лас-вегасовских отелей или «Рыбака и рыбки» и пошлеют до степени пиццы или вареного хот-дога.
Санкт-Петербург обижен на Россию. Я же говорю, за ним никто не идет, ему никто не следует. Он обречен оставаться таким одиноким, городом-музеем. Можно оттуда выселить жителей и наладить индустрию медового месяца. То есть туда станут приезжать ровно на месяц молодожены. Со всего мира. Прекрасные виды. Красивые прогулки. Пустынные улицы. Интриги. Плащи и кинжалы. Пустить по Неве гондолы… И призраков, призраков выпустить. Всех!
Нет-нет, Путин — это не Петербург, это тверская лимита. Поэтому о каких «питерских» вы говорите? Питерские — это Раскольников, Курехин, Тимур Новиков, прогуливающиеся в компании Бориса Савинкова и «Вани» Каляева. Это город благородных заговорщиков — декабристов. А Павел I! Русская коронованная белая роза этот Павел I. На его саркофаге в Петропавловской крепости уместно, одиноко и чарующе лежали, помню, мистические белые розы. Самый загадочный император русской истории, едва не осуществивший вечную русскую мечту, он послал атамана Платова в поход на Индию! За что англичане и организовали его убийство. Павел I по сути был немецким романтиком. Он и погиб, если не ошибаюсь, в один год с лейтенантом Клейстом. (Кстати, Адольф Гитлер был последним немецким романтиком. Пусть вам не будет скушно, подумайте!)
В Санкт-Петербурге мы смыкаемся с европейскими легендами. В Москве — с азиатским базаром. Базар даже более мощное явление, чем клубок таинственных европейских легенд. Разные сны снятся в Санкт-Петербурге и в калмыцкой Москве. Я не раз указывал на то, что даже стены у Кремля имеют цвет конины, куска конского мяса, извлеченного из-под седла татарского всадника к концу дня. «Стейк-тартар». Собор Василия Блаженного замаскировали якобы под Казань, архитекторы, мол, в память взятия воздвигли храм в стиле казанской архитектуры. На самом деле стыдливо прятали факт, что Восточная Русь, а с нею и Москва была просто и откровенно татарской, это был собственный татарский наш стиль, а вот Кремль построили итальянцы в стиле итальянцев, а вокруг была татарщина, татарщина, татарщина, родная и непостижимая. И даже Кремль с возрастом приобрел татарский цвет. Вот Псков у нас истинно был норманнский город…
Не отказываю себе в удовольствии процитировать здесь свои стихи о них, о Санкт-Петербурге и о Москве.
Петербург
Меня привлекают твои наводнения,
Гнилые мосты твои, о Петербург!
И в классе придворном нагорного пения
Меня обучал о тебе Демиург…
Михайловский замок. Могучее мясо.
Затянут у Павла на шее шарф.
С поганого неба, со злого Парнаса
Скрипучие всхлипы доносятся арф…
Бродил в Петропавловске я. Озирался.
Дождем как тишайший Кибальчич промок.
(А после с Перовской я рядом качался.
А раньше с царем Гриневицким я лег…)
Меня привлекают твои безобразия.
Текущий на Запад болотный дымок,
Россия горит — беззаветная Азия,
Худющий старик — благородный Восток
В чалме и халате глядит, улыбается,
И тянется ввысь он сигарной рукой
«Тук!»… легкий удар, то окно закрывается
— Что, Петр Алексеич, во казус какой!
В Европу окно, где де Сад с анархистами,
Старик-то захлопнул спокойно окно!
Мы будем отныне дружить с исламистами
А Питер взорвем, как в научном кино…
«Вам не скажу, мадам…»
Одна из каменных столиц,
Где площади без птиц,
Ни метра нет земли живой,
И демоны над головой
На зданиях сидят —
Таков наш мрачный град…
Ни метра нет земли живой —
Зовется всё это Москвой.
Свет Адский брызжет круглый год,
С хвостами весь народ.
Столицы мэр обличьем сер,
И инеем покрыт
Зловещий мрамор плит.
А под асфальтом, в темноте
Чудовищ яйца на хвосте
Рептилии несут.
Их размноженья зуд
В начале века одолел,
Но мэр их трогать не велел…
Изъеден, словно старый сыр,
Московский старый грунт,
Рептилий злых подземный мир
Готовит адский бунт,
Грядет восстание червей,
Чтоб свергнуть мир людей…
Живому быть опасно тут:
Того гляди, вас высосут,
Как муху пауки,
Через глаза, через белки.
Бригады бравых демонов
Оставят лишь остов…
Москва-река течет мертва.
Над ней ни чайка, ни сова
Не пролетит в ночи.
Давно мертвы ключи…
Про то, что льется тихо там,
Вам не скажу, мадам…
Разрешить важнейший конфликт русской истории необходимо. Триста лет идет война между Санкт-Петербургом и Россией, потому что Россия за Москвой. Но Москва — старая циничная калмычка. Нужна новая столица. Она разрешит конфликт Москвы и Санкт-Петербурга тем, что превратит оба города в музеи.
Столицу нужно построить заново, распланировав ее широко и удобно, где-нибудь в Омской области, где более или менее равны расстояния от Финского залива и от Тихого океана. Новая столица скрепит с Россией Сибирь, покажет зубы Китаю. Сегодня Россия скособочена в одну сторону, в сторону западных границ. Что Петербург, что Москва легкоуязвимы для вторгающегося с запада врага. Южная Сибирь — Омская область удалена от сильнейших возможных противников с запада на многие тысячи километров. С севера ее будет прикрывать Северная Сибирь, с юга расположен слабый Казахстан с 15 миллионами населения, треть которого — русские. В будущем следует договориться с Казахстаном о передаче нам исконно русских городов, ныне принадлежащих Казахстану.
Будут построены новые аэропорты и новые железные и автомобильные дороги — то есть сильнейшая инфраструктура. Освоение Восточной Сибири и Дальнего Востока пойдет вдруг резво и сильно. В новую столицу переедут министерства, и сотни тысяч обслуживающих министерства чиновников. Омская область — это не север! Город Омск расположен южнее Москвы. Там начинается Великая Степь. Ясно, что характер нового города на краю Великой Степи (весной степь синего цвета!) будет иным, чем характер калмыцкой Москвы, воздвигнутой в угро-финских лесах, и иной, чем характер Санкт-Петербурга, возникшего в болотах у селедочной Невы.
Это будет интересное историческое приключение. Город можно будет назвать НОВОРОССИЙСКОМ, отобрав название у порта на Черном море (а порту дадим какое-нибудь другое). И перед новою столицей померкнет старая Москва.
Игорь и Рудольф
Париж чрезвычайно зависит от своей реки — Сены. Туристу, лишь проезжающему через город, в этом трудно разобраться, эта связь проявляется лишь при длительных наблюдениях, однако это так. Даже цвет Парижа зависит от сезонных колебаний цвета воды этой великой реки. Весной — он мутно-клочковатогрязный, так как вода несет в себе размытые половодьем почвы, ветви деревьев, глину; зимой цвет становится серовато-стальным. Зимой великая река излучает, протекая змеей сквозь город, серый мерзлый цвет на его здания и в первую очередь набережные.
Сена дает направление ветрам. Они свободно гуляют вдоль набережных и поперек всех ее мостов. Летом ветра влажные и мокрые, как в помещениях бани, весной — капризно-пронзительные, зимой — холодные, сильные, с ними приходится бороться всем телом гуляющему по набережным человеку.
Я годами шагал по набережным Сены, через все ее мосты: начинал от моста мэрии до самой Эйфелевой башни. Так что для меня понятно, под каким свинцовым небом и сопротивляясь каким жестоким ветрам шел у моста Искусств Рудольф Нуриев, когда его встретил мой приятель Игорь. Они столкнулись на набережной Вольтера.
Было утро, летели капюшоны, плащи, волосы редких прохожих. Игорь, бывший матрос с советского траулера, сбежавший через иллюминатор в Канаде и вот уже десяток лет тогда — русский художник, муж внучки французского маршала, выгуливал черную собачку. Метким взглядом он подцепил под кепкой идущего навстречу прохожего знакомое всему миру скуластенькое лицо. Теперь, правда, исхудавшее и словно обведенное двойной линией. В простой спортивной одежде великий танцовщик был неотличим от обычного прохожего парня, борющегося с зимними ветрами на утренней прогулке. Нахальства Игорю было всегда не занимать, веселую непринужденность он с себя сбросил, вспомнив, что читал, будто Нуриев тяжело болен и бежит от общения.
— Простите за беспокойство, Рудольф, но вы ведь Рудольф Нуриев?— Игорю не пришлось бежать за тем, кого он подозревал быть великим танцовщиком. Парень остановился у одного из зданий набережной Вольтера и теперь набирал код двери.
Русский язык сделал свое дело.
— Да, Рудольф…
Собака пританцовывала у них между ног, пытаясь спрятаться от ветра.
— Я — Игорь, русский художник, живу тут неподалеку на Rue Nestle. Здравствуйте, Рудольф.
— Здравствуйте.— Они подали руки. Далее Нуриев набрал код и скрылся в подъезде.— До свидания.
Но это было не всё. На следующий день Игорь опять встретился с Нуриевым на набережной, и на этот раз они погуляли вместе с полчаса. Холодный ветер. Поднятый воротник стеганой куртки танцовщика. Глубоко надвинутое кепи. Знакомое всему миру, только уставшее лицо. Дойдя до моста Искусств, они перешли автостраду и поднялись на мост. Прошли его до самой набережной Лувра — вернулись. Постояли посередине моста, глядя в серую стальную даль в сторону Эйфелевой башни.
Игорь всегда валяет дурака, смешит знакомых, рассказывает умопомрачительные эпизоды из своей приключенческой жизни. По его словам, ему удалось тогда рассмешить и Рудольфа, рассказывая ему истории из жизни русских художников-эмигрантов в Париже, об их попойках и любовных приключениях, ревности и зависти. По всей вероятности, во вторую встречу Игорю удалось уверить Рудольфа, что он не журналист, не агент желтого таблоида, но простой русский раздолбай, только смелый и находчивый. Одна только история о том, как он — буфетчик траулера, разделся, намазался вазелином, но застрял в иллюминаторе в туалете траулера, помню, заставила меня сотрясаться в гомерическом хохоте. Я думаю, за месяц, последний в жизни великого танцовщика (месяц продолжались их совместные прогулки: декабрь 1992 года), Игорь успел рассказать ему не все свои невероятные истории, но большую часть их.
Обезоруженный этим чистосердечным чудачеством, парень в кепке стал делиться с Игорем своими заботами. Из Башкирии к нему добралась юная родственница, и он поселил ее над своей квартирой, в квартире, также принадлежавшей ему, когда-то он хотел сделать из квартир дуплекс, но болезнь разрушила планы. Молодая родственница стала, естественно, водить к себе мужчин. Как-то бессонный, настрадавшись от скрипящего над ним потолка, Рудольф не выдержал и поднялся наверх. Застучал в дверь. Дверь открыл французский мужчина. Не понимая, кто перед ним. Приняв его за обычного соседа снизу, он оттолкнул великого танцовщика. Ну не в полицию же было идти…
Правый патриот по своим взглядам, Игорь нашел в Рудольфе правого патриота. Оба тяжело вздыхали о развале СССР, слава богу, Уфа и Башкирия остались в составе России. (Правым патриотом Игорь и остался. Во время президентской компании Ле Пена был для него расклейщиком афиш и однажды ночью вступил в противостояние с арабским карательным отрядом. Французы-расклейщики сбежали, а он остался один против пятнадцати.)
К концу декабря Игорь отметил, что обыкновенно стремительный Рудольф ослабел. Он прогуливался теперь медленнее, и все его движения теперь выдавали очень большую усталость. Он стал мало разговаривать. Под самый Новый (1993-й) год Игорь, проводив его до двери дома, увидел, что блистательный танцовщик так ослаб, что, набрав код, не может открыть дверь. Дверь была для него уже тяжела. Игорь помог ему, прилег на дверь. Тот вспыхнул глазами в Игоря, переступил порог и, не прощаясь, ушел. Для человека, летавшего над сценой, эта сцена у двери была, видимо, унизительна.
В первые дни января 1993-го Рудольф не появился на набережной Вольтера. Игорь и собака гуляли одни. Шестого января французские средства массовой информации объявили, что в Париже умер Рудольф Нуриев: танцовщик русского происхождения, с австрийским гражданством, директор балета в Парижской опере с 1983 по 1989 год.
Первое признание
Самая отвратительная часть человечества — современники. Человек с моим опытом имеет право на такое заявление. Уж как они меня мучили и мучают: и взрывали, и избивали, и в тюрьму сажали, и дерьмо в меня бросали, а уж словесных оскорблений — не счесть. Бесы, а не современники, тупые дьяволы. Признания от них не дождешься, потому что быть талантливым — это еще худшее прегрешение, чем быть богатым. Богатых ненавидят бедные, а талант ненавидят все. И богатые, и бедные, и пресловутый средний класс. А я имею несчастье быть очень талантливым человеком, да еще и сразу в нескольких областях.
Интернет — страшнейшее изобретение, потому что доселе скрываемые тщательно литературой, искусством и политикой черные души наших современников в интернете сами выворачиваются наизнанку, гордясь своей подлостью и чернотой. Философы-идеалисты или Зигмунд Фрейд — просто счастливчики, что не дожили до появления интернета. Что бы сказали мсье Вольтер и Руссо, спорившие о сущности человека, добр ли он или он изменчив, в соответствии с теми нравами, которые ему прививают, о, чтобы они сказали о разнузданных мерзавцах из интернета! Я давно не жду от этих гаденышей-современников ничего хорошего. Я даже уверен, что они не дадут мне умереть своей смертью, обязательно убьют, канальи.
Тем приятнее исключения, и слабые там и тут очаги, точнее, очажки признания таланта. Я тут недавно и радовался так, что хохотал, и хохотал от парадоксальности случившегося, ибо произошло вот что. Весть о признании пришла с самой неожиданной стороны, из такой области, откуда никак не ожидаешь. То, что она пришла из другой страны, из моего детства, с Украины, из Харькова,— неудивительно. Но она пришла из медицинского учреждения, она прибыла из психоневрологической больницы, и вот это сшибает с ног. Меня признали в психо-неврологической больнице, в знаменитой Сабурке (она же Сабурова дача), поставив в один ряд с русскими гениями. Газета «Вечерний Харьков» в статье «на Сабуровой даче в Харькове побывали многие великие» ставит меня преспокойненько через запятую после Велемира Хлебникова и Всеволода Гаршина и рядом с художником Михаилом Врубелем. Газета аккуратно пишет о нас: «Гостили здесь…». Дело в том, что в больнице создан музей, и там мы все, вышеперечисленные, фигурируем.
Давным-давно, полсотни лет тому назад, пылким семнадцатилетним поэтом я взрезал себе вены над томиком Стендаля «Красное и черное». Отец был в командировке в Сибири, но проснулась мать, и меня транспортировали прямиком на Сабурову дачу, благо было недалеко, несколько километров. Причину, по которой юноша Савенко (никакого Лимонова еще не было) решился на столь крайнюю меру, можно было условно обозначить как «несчастная любовь». Действительно, злые родители девушки попытались разлучить юношу с малолетней подружкой Валентиной, однако главным стимулом к кровавому действу послужил все-таки невозможный, избыточный романтизм юного поэта.
В Сабурке, а это целая усадьба, ее построил больше двух веков назад генерал-губернатор Слободской Украины Петр Сабуров для своей дочери, страдавшей психическим расстройством, я пробыл за решетками несколько месяцев. Я даже бежал оттуда, подпилив решетку ножовочным полотном, но меня наутро уже взяли у друга и, горяченького еще ото сна, бросили в буйное отделение. Сейчас я пишу всё это с оттенком даже юмора, тогда мне было совсем не весело. Я подробно живописал этот свой опыт на страницах книги под названием «Молодой негодяй», но случилось это через целых два десятилетия после заключения в Сабурке. Я там много чего навидался, в Сабурке, и как избивают сумасшедших, и как, вкалывая инсулин, доводят больного до состояния комы, я там втрое повзрослел, на этой Сабурке. Уже в двухтысячные годы режиссер Велединский сделал по мотивам моей книги фильм «Русское», где сцены на Сабуровой даче занимают центральное место.
Когда я там лежал, больные и доктора рассказывали мне о славной истории этой кучки потрескавшихся и позеленевших от времени корпусов в старом парке. Я читал к тому времени и рассказ «Красный цветок» Гаршина и знал, кто такой Врубель. Вот не помню, знал ли я уже фамилию Хлебников? Я писал стихи с пятнадцати лет, был о себе и своем таланте самого высочайшего мнения. Помню, что я ничуть не сомневался тогда, что мое заключение в Сабурке имеет значение историческое, и, не имея на то никаких оснований (стихи мои того времени были подражательными, неоригинальными), ставил себя среди всех этих блистательных имен, не стесняясь, через запятую.
Там царила грубая простота, больные ходили в одежках заплатанных и бедных, ложки нам выдавали только на время еды, и то не всем, а избранным, у нас, как полагается в таком коллективе, был Александр Македонский, к концу моего пребывания появился Наполеон. Коллектив обильно мастурбировал, ночью у нас вставали побродить два-три лунатика. Ежедневно кого-нибудь скручивали смирительной рубашкой, хрипели прикрученные к кроватям лишь полотенцами инсулиновые больные, короче, всё было ярко и сильно. Под окна приходили порой родственники. Пришла однажды и моя подружка Валентина со старшей сестрой. Но она меня уже не очень интересовала, настолько интенсивной и чудовищной была жизнь «буйняка», то есть отделения для буйных.
«Здесь врачевались души людей, которые вершили историю, и думаю, что наша экспозиция будет интересна всем харьковчанам»,— так словами создателя музея заканчивается статья в «Вечернем Харькове». Конечно, будет, сомнений нет, интересна.
Впоследствии я отметил своим пребыванием две знаменитые тюрьмы: Лефортовскую в Москве, где сидели такие величины, как маршал Блюхер и писатель Солженицын; и Саратовский централ, там я сидел в третьем корпусе, в нем же на четвертом этаже скончался академик Вавилов, а я сидел на третьем этаже.
При жизни современники всячески мучают больших людей, чтобы затем показать места их мучений экскурсантам.
Силы смерти и похоронные книги
Когда живешь более или менее долго, то имеешь возможность дождаться жирных точек в конце судьбы твоих героев, героев твоей жизни. Под жизненными точками я тут подразумеваю конец жизни физического тела, то есть смерть. Силы, осуществляющие смерть, оказывается, имеют что-то вроде гнездового плана, уничтожают вдруг целые группы граждан — твоих друзей, погруппно.
Так, силы смерти вдруг взялись за «харьковчан». Самыми близкими мне людьми в городе моей прошлой жизни, из которого я уехал так давно, в 1967 году, оставались до сих пор три человека: Вагрич Бахчанян, художник, живший с 1974 года в Нью-Йорке; Борис Чурилов, также художник, скорее народный художник (он занимался старым новгородским искусством тиснения на бересте), и Анатолий Мелихов, пенсионер, одинокий философ,— эти двое остались в Харькове. Все они в 60-е годы оказали влияние на мое становление как человека и как поэта. Потом я их не видел каждого лет по сорок, знал, что они есть, продолжают жить, но физически не присутствовали они больше. Оставались призраками в воспоминаниях, так как хоть я и не сентиментальный совсем человек и сменил в своей жизни множество целых коллективов соседей по жизни, однако память о людях, научивших меня искусству на заре моей жизни, нет-нет да и трогает мои чувства. Заставляет вспомнить тепло тех дней, когда в их компании «под широкополой листвой гулял в Харькове милом».
И вот эти люди скончались быстренько один за другим. Чурилов умудрился умереть за день до нового, 2009 года, а похоронен был 31 декабря 2008-го, видимо, кремирован, жил он один, жена и дочь давным-давно отделились от него, так что его как одинокого старика быстро сбагрили, полагаю, в крематорий. Характер у него и в молодости был не из лучших: честный и неуживчивый рабочий, сын рабочего, потом художник, сын женщины религиозной и странной в те годы всеобщего безбожия, он казался подозрительным чудаком еще в шестидесятые и умер, наверное, заносчивым и странным для окружающих. Он всю жизнь собирал книги по искусству, книги, наверное, разграбили, чудесные церкви его, тисненные на бересте, повесили на своих кухнях окружающие аборигены. Точка. Ко мне он относился покровительственно и скептически, но он остался в моих книгах, молодой, в харьковской трилогии. Доколе будут читать мои книги, будут вспоминать о Борисе Ивановиче. Чурилов его фамилия, одна уже наталкивает на характеристику, возможно, всего его рода, чудиков. Мать его считали сектанткой.
Через месяц после Чурилова, в январе 2009-го, умер Анатолий Мелихов. В молодости они дружили. Сын дворничихи и сын рабочего. Мелихов давал мне штудировать редкие книги: трехтомник Хлебникова в издании Степанова (издан в 20-е), редчайшее ветхое издание «Введения в психоанализ», романы Андрея Белого. Мелихов учился на филолога в Харьковском университете, женился на дочери номенклатурного чиновника, стал директором книжного магазина, попал в тюрьму за растрату. Судьба его была более трагичная, чем судьба Чурилова, тюрьма все-таки… и лагерь. Не знаю, ходили ли они в гости друг к другу в старости, как ходили в молодости. А может, рассорились, с бывшими близкими друзьями это бывает. Сплошь и рядом.
Когда Мелихов умер вслед за Чуриловым через месяц, я стал размышлять на тему «Что бы это значило?» Ну да, они были более или менее одного возраста, около семидесяти лет, ну да, в этом возрасте мужчины умирают. Но ведь умирают они и до и после. Зачем эти важные для меня два старых дядьки ушли один за другим? Что за знак? Знак кому? Очевидно, мне, потому что они были важны именно в моей судьбе. А если не знак, получается, силы смерти работают гнездовым способом. Выкашивают компании, целые коллективы людей. Случайные смерти тоже бывают, так, принадлежавшая к этой же нашей харьковской группе моя бывшая жена Анна повесилась в 1990 году, а она была важнейшим персонажем нашей харьковской группы, одна из четырех. Анна, Чурилов, Мелихов и Бахчанян. Были и другие люди, но они были менее важны для меня. После спешного выкашивания Чурилова и Мелихова оставался только Бахчанян. Я не поддерживал с ним отношения с того времени, как убрался из Соединенных Штатов подобру-поздорову, с 1980 года. Потому я поинтересовался у знакомых, жив ли он. Мне сказали, что Бахчанян, много раз оперированный от чего-то, жив. Можно было позвонить ему в Нью-Йорк, поприветствовать, вспомнить один-два эпизода нашей общей молодости, но я в такой же степени сентиментален, как кусок ржавого железа. Я и не позвонил. Общеизвестно, что я бессердечный, якобы, тип. Поэтому нужно поддерживать имидж, если позвонить, люди испугаются.
Сам я, надо сказать честно, не замечал течения времени. То создавал партию, а она оказалась молодежной, то сидел в тюрьме и в лагере, а за решеткой ты «до семидесяти пацан», как гласит тюремная поговорка, в тюрьме я отметил свои шестьдесят и не очень придал значение количеству годов. А тут они стали умирать, выкашиваемые. «Ни к чему это,— думал я,— лишнее это». Я ссорился с женой, гордо гулял с малолетними детьми, сменил нескольких молоденьких любовниц. В ноябре 2009 года в Нью-Йорке, перепутав дозу нового лекарства, умер Вагрич Бахчанян.
И тут я окончательно понял, что да, Силы Смерти работают гнездовым способом. Видимо, у них есть списки, как у ФСБ, куда занесены члены всяческих коллективов. Время от времени Силы Смерти листают эти пухлые, толстые, как подушки, списки в виде книг, и проводят пальцами по фамилиям (а может, это фотографии). И те, по кому они провели,— брык, и падают, и перестают дышать. Но бывает, что Силы Смерти отвлекаются. Ну, например, к ним в сторожку вдруг входит посетитель или в окно ударяет птица. И тогда палец Силы Смерти не касается одного из членов собравшегося когда-то коллектива. И он, забытый Силами, продолжает жить до тех пор, пока главная Сила Смерти не устроит ревизию и, открыв еще живого, забытого, из племени могикан, не возопит: «А это что еще такое!» — и не сотрет его пальцем.
Признаюсь, последняя сцена «в сторожке» навеяна действительным посещением мною старейшего харьковского кладбища. Осенью 2007 года я вознамерился найти могилу Анны. Вместе с группой моих авторитетных харьковских друзей я пришел в сторожку смотрителя, и мне вынули из сейфа и дали в руки похоронные книги. Вы никогда не держали в руках похоронную книгу? О, эта книженция толще «Войны и мира»! Пишут в ней на оба-два разворота и всего одной строкой. Слева пишут фамилию, имя, отчество, год рождения, день и год смерти, а справа: участок, ряд, номер могилы и фамилию ответственного за захоронение. Читая похоронную книгу, мудреешь на сто лет. После похоронной книги ничто тебе не страшно. Хорошо, положив ее в сейф, отправиться под моросящим дождем в ближайший ресторан, где есть вино и мясо. Так-то, дети мои…
Даже согрешить не всегда есть с кем
Я никогда не стремился быть передовым и «подключенным», но так случалось в моей жизни, что я оказывался в новых местах и в новых трендах раньше других. Еще в 1975 году я попал в первое диско в Нью-Йорке, в «Le Jardin», где помимо того, что танцевали, так еще и было садо-мазохистское шоу. Садомазохистские клубы тогда преследовали, совершали полицейские рейды в них и закрывали, так что, танцуя в «Le Jardin» под дискомузыку, внутренне танцоры были напряжены. Ожидали полицейских. «Le Jardin» было еще не совсем диско, впрочем, там многое было взято от клуба, и danse-pool был небольшой.
Все продвинутые в Нью-Йорке знали, что идет перестройка одной из киностудий на 50-х улицах, прямо в десятках метров от Бродвея, и там будет настоящее диско. Ему, диско, так и оставили оригинальное название «Studio», a Fifty-four был натуральным, родным номером дома. Перестроили минимально, главным «гвоздем», «изюминкой» и символом «Studio-54» были спускающиеся с потолка металлические колонны с прожекторами на них. Колонны, в противоположность перископам подводных лодок, не подымались, а опускались вниз, как щупальца с летающей тарелки, и в сочетании с мечущимся светом и биением ритма дискомузыки создавали атмосферу из фильмов о звездных войнах. Еще в тот сезон вышел фильм с Джоном Траволтой в главной роли Saturday Night Fever, где Траволта в белом костюме и черной рубашке неустанно выкладывался под дискомузыку. Я купил себе белый костюм за двести долларов и черную рубашку с кружевами. В студию Fifty-four ходила моя бывшая жена в окружении страннейших персонажей — изломанных девочек, некоего негра Джона в черном плаще с блестками. Все они как минимум курили траву и нюхали кокаин, а позже выяснилось, что нюхали и героин, так что вид и поведение у них были соответствующими. Предполагаю, что берлинские персонажи двадцатых годов недалеко ушли от этой свиты моей жены. В них была некая изломанная испорченность. Сама «бывшая» носила обыкновенно светлую шляпу, иной раз даже черный «сар» — накидку, длинный мундштук в руке. Там было немало таких цирковых компаний, ядро которых обыкновенно составляли несколько странных женщин. В «Studio-54» существовал face-control. Возможно, это был первый исторический факт применения face-control. Владелец «Studio-54» еврейский мальчик из Бруклина Стив Рубелл стоял в красной пластиковой куртке и стоптанных кроссовках у входа в свое заведение и отбирал «чистых» от «нечистых». Обыкновенно он отдавал предпочтение «нечистым». В его заведение имели шанс попасть веселые негры в трусах, прямиком из Гарлема, и могли не попасть долговязые миллионеры WASP-ы, приехавшие на лимузинах с шофером и длинноногими blonds. Стив Рубелл отдавал предпочтение bizarre and crazy looking people — то есть эксцентричным и безумным с виду типажам. Благодаря этому дарованию Стива «Studio-54» выглядел как шикарный сумасшедший дом.
В те короткие несколько лет светская жизнь Нью-Йорка полностью переместилась в «Studio-54». Туда имели привычку заехать ночью Энди Уорхол со свитой, Трумен Капоте или Лайза Минелли, бесчисленные нью-йоркские модели, однажды мы, молодые русские эмигранты, притащили туда Шемякина, он тогда жил в Париже. Стив покровительствовал русским; во-первых, его еврейская бабушка выехала когда-то из России, во-вторых, вслед за Генри Миллером или Джорджем Оруэллом он считал русских тотально безумными, потому мы все были welcome в его сумасшедший дом.
В 1980 году я уехал на ПМЖ во Францию. Там в середине восьмидесятых появилась своя (но осовремененная, разумеется) версия «Studio-54». Из старинного здания «Баней-Душей» предприимчивый бизнесмен соорудил комплекс: ресторан-диско-бар, и злачное место. Место получило название «Les Bains-Douches». Открылось оно, если не ошибаюсь, в 1987 году. Оказалось, что я живу неподалеку, в пятнадцати минутах ходьбы. У «БанДюж», как его произносили, на старых каменных ступенях во всякое время ночи всегда находилась толпа странных персонажей, желающих попасть в нестандартный этот рай. Если не ошибаюсь, под новый, 1987 год я увидел там будущую звезду Ванессу Паради, она сидела на стойке бара попой, во все стороны торчали локти и колени, по-моему, она тогда впервые исполнила (Пятый канал ТВ записал ее для передачи Тьери Ардисона «Полночная Баня») свой шлягер «Джо ле такси», так кажется. В тот вечер перед Новым годом там снимали и меня в компании бывшего премьер-министра Франции Жака Шабан-Дельмаса, у меня была забинтованная голова, накануне мне дали по голове трубой в драке. В «Les Bains-Douches» довольно часто среди ночи приходил Роман Полански, в те годы он жил в изгнании в Париже, в Штатах против него было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Мы с Полански сталкивались порою в дверях, обычно он приходил, когда я уходил. Я мог позволить себе ночную жизнь лишь отчасти. Труд романиста требовал дисциплинированной жизни.
Я довольно много писал о своей связи с нью-йоркским панк-движением в конце семидесятых. Так получилось, что я попал в 1982 году и к истокам рэпа. Я приехал из Парижа для встречи с моим редактором в издательстве «Random House» Эроллом Макдональдом, черным парнем с Джамайки. Именно он притащил меня и появившуюся тогда в моей жизни Наташу Медведеву в огромный ангар — бывшее складское помещение на West-Side в Middle-Manhattan, где в компании едва ли не тысячи (от аристократов в смокингах до негров в трусах, как в лучшие времена «Studio-54») я впервые слышал и видел рэп. Посередине зала на возвышении, окруженный микрофонами и усилителями, толстый полуголый черный тормозил на обыкновенном проигрывателе виниловую пластинку пальцами и бодрой скороговоркой гундел в микрофон американские негритянские частушки. При этом еще и подтанцовывал. Позже его сменил другой умелец.
Я уехал в Париж чуть ли не на следующий день, а рэп приехал в Париж только через несколько лет. Я почему-то успевал быть впереди. Видимо, потому, что, как говорят американцы, я easy going, легкий тип. И меня привлекает новое.
Мои отношения со светской семьей арт-директора «Conde-Nast Publications» Алекса Либермана, с Алексом и Татьяной Яковлевой? Я достаточно много раз упоминал о них в своих текстах. Ограничусь здесь лишь резюме: у них был классический, несколько нарочито старомодный салон в доме. Так случилось, что их посещали яркие люди. Упомяну Сальвадора Дали, Энди Уорхола, Трумена Капоти, Иосифа Бродского, фотографов Аведона и Хельмута Ньютона. Сегодня могу с полным правом приписать и себя к этой толпе ярких и очень талантливых людей.
Теперь о том, ради чего, собственно, меня попросили взяться за этот текст. О том, отличается ли, и если да, то как, гламур иностранный (той же «Studio-54») от того гламура, который я увидел в России.
Ну, конечно же, отличается. Ну, ясно, что эпоха диско и массовых увлечений прошла, а в России, насколько я понимаю, ничего подобного «Studio-54» никогда и не случилось, то есть места, куда бы ходили сверхбогатые и подростки (из Гарлема!) из Мытищ, никогда не было. То, что я вижу, когда изредка позволяю себе прийти на «светские» вечеринки,— это старомодная чопорность, смешанная с отечественной пошлостью. Артистизма, изломанной декадентской испорченности, безумия и блистательной эксцентричности не наблюдается. Мероприятие обычно начинается в атмосфере буржуазной скованности, но после употребления приличного количества алкоголя скатывается в буржуазную же пошлость. Люди тяжелы, натужны, морды у русских актеров и актрис, так называемых звезд,— слаборазвиты; красивых, оригинальных и веселых девочек практически нет. А уж тем более блистательных. Обычно присутствуют задумчивые, невеселые и тяжелые бизнесмены, этакие дядьки, ждущие, когда всё это кончится, их всегда до трети от всех присутствующих. Чтобы кто-то танцевал, случается редко. И главное — всем невесело. Хотя фуршеты богаты, столы полны, вина неплохие, и понятно, что собравшиеся живут в богатой стране и тот, кто платит за вечеринку, отменно богат. У Татьяны Либерман в ее особняке на Легсингтон-авеню принимали куда скромнее. Однако там было много цветов и много талантов.
Правда, я не знаю, что там сейчас делается, в Нью-Йорке и Париже. Возможно, и там стало скушно, и там стоят рыхлые дядьки и ждут, когда вечеринка остановится. Может быть, закончилась бодрая, талантливая эпоха и давно уже как болотная вода лежит другая эпоха, не талантливая и не бодрая? Видимо, так.
Нет, этот мой взгляд не есть следствие какой-то моей привязанности к прошлому, когда «и трава была зеленее, и девушки красивее». В современной российской оппозиционной политике, к примеру, в отличие от мира гламура, присутствуют сегодня и страсть, и высокая трагедия, и драматические персонажи. Я вспоминаю зрительно похороны моего юного убитого товарища Юрия Червочкина в Серпухове в декабре прошлого года. Какая высокая трагедия в молчаливом, старом, страшном городе, заблокированном милицейскими! Или я вспоминаю суровые залы судов, где в клетках — мои товарищи. Это всё подлинное в политике — борьба, страдания, трагедия. А гламур как-то поблек. Он не всегда был таким поблекшим и бестрагедийным. У Романа Полански, ночью одиноко плетущегося в «Бани-Души», была во всей фигуре трагедия, он был изгнанник, у него лет десять не было возможности работать, его бы арестовали, если бы он сошел с самолета в любом американском аэропорту. Так что русский гламур — пошлый, плоский и неэксцентричный. Он не порочен, а потому скучен. Без порока что же за гламур! А какой порок в пьяных бизнесменах или в павших, все как одна похожих на бандерш из Одессы? Никакого. Поэтому цветов зла на московских сборищах не найдешь. А без цветов зла гламур не выходит. Даже согрешить не всегда есть с кем.
«Как сорт цветов, пропорциональных и стильных…»
22 мая 1980 года я прилетел в Paris. Когда я выходил из здания аэропорта Шарль де Голль, на сетчатке моего глаза всё еще трепетала Настасья Кински, блистательная юная актриса, прилетевшая в Paris тем же рейсом, что и я. Я даже успел поскандалить с ней во время посадки.
Парижские женщины оказались маленькими и черными. Они напомнили мне итальянок, а еще грузинок, только французские оказались посуше. Такие себе отощавшие за весну галки. Они, правда, выигрывали после неряшливых в те годы американок (чувяки без задников, бесформенные шаровары, просоленные потом футболки — вот их летняя форма), однако я загрустил. Всего лишь несколько лет назад я расстался с женой-блондинкой и инстинктивно выискивал в уличной толпе blonds. Как бы не так, blonds было удручающе мало, а те, которые были, часто имели дополнением к белому скальпу внушительный арабский нос. Циничные молодые журналисты, с которыми я немедленно подружился к концу того счастливого для меня года, года выхода во Франции моего первого романа, сообщили мне, что исторически Франция множество раз подвергалась мирным нашествиям нескольких волн мигрантов из Средиземноморья. Потому блондинки сохранились как вид разве что в провинциях Бретань и Нормандия к северу от Парижа, да еще в Эльзас-Лотарингии. Никаких «миледи» из «Трех мушкетеров» ты не встретишь, Эдвард, не будь старомоден. В Paris достаточно иностранок, у культурного центра Помпиду на рю Бобур в избытке бегают германские девки и скандинавские, да и в Латинском квартале можно познакомиться с такими исчадьями ада, белокурыми бестиями… Эдвард…
Блондинкой была Шантай, работавшая клерком в префектуре полиции, но она мне не нравилась, отличный товарищ, много раз меня выручала, продляя мне carte de serjour (вид на жительство), но мне она не нравилась, черт возьми, она напоминала бревно в сарафане. Около года я встречался с настоящей контессой из древнего рода в Бургундии, контессе было за тридцать, высокая, отличная крупная грудь, страстная, но темноволоса! Впрочем, то обстоятельство, что она контесса, возвышало ее до blonds. Опускало ее то обстоятельство, что она была алкоголичка, моя Жаклин, впрочем, я прощал ей ее слабость, припоминая нетрезвую Мэрилин Монро, поздравлявшую любовника Джона Кеннеди: «Happy birthday, mister President. Happy birthday to you!»
Анн Анжели была редакторшей эротического журнала, где публиковались жаркие письма возбужденных женщин, журнал имел коммерческий успех. Маленькая, тонкая, изящная, в старину сказали бы «грациозная» — вот Анн была эталоном парижской женщины. В ней был один вкус, ни грамма безвкусия. Помню ее синие тени, наведенные под глазами. Я встречался также с ее подругой. Вот подруга, Клер, будучи именно «бревном в сарафане», высокой и с виду неуклюжей деревенской дылдой в платье в мелкий цветочек, какие носят консьержки, оказалась магическим чудом природы, сексуальным монстром. У нее был еще дар ясновидения, она нагадала мне жизнь, которую я имею, то есть экзотическую.
Французские дамы обладают любопытным достоинством: в отличие от равноправных американок и презрительных, часто ненавидящих мужчин юных русских женщин, француженки умеют ухаживать за мужчинами. С удовольствием вспоминаю Элен, промокающую меня горячим полотенцем и воркующую при этом хвастливо: «Мы, французские женщины, умеем обращаться с мужчинами. Тебе ведь приятно, Эдвард!» Промокая полотенцем мои интимные места, она произнесла целую речь о высоком чувстве гигиены и санитарии, которому с детства обучены французские женщины. Помню, что тогда я иронически размышлял под полотенцем, что гигиена стала достоинством француженок поневоле, ведь в Париже ужасная сантехника. По крайней мере была в те годы.
Ну да, они по большей части черны, как галки, и худы, как палки. Но, спеша на работу через город, похожий на декорации к старой опере, целые поколения парижанок впитывают из этой величавой архитектуры ее обаяние и шарм. Происходит ненавязчивое обучение чувству вкуса, вот что происходит ежедневно. Пусть моделей завозят во Францию из Соединенных Штатов, но у французских female есть присущее только им обаяние культуры. Они — как тщательно выведенный сорт цветов, не ярких, не пышных, но удивительно пропорциональных и стильных.
…Италия мне всегда доставалась зимней…
…Зима с 1974 на 1975 год. Я иду через холм Сан-Николо к собору Святого Петра. Раннее утро. Проснулись и перекликаются птицы, холодное солнце полизывает кроны деревьев и статуи. Я иду, юный, длинноволосый парень в кожаном пальто, и улыбаюсь. Моя молодая блистательная жена осталась спящей в холодной каморке, а я спешу в Ватикан, в собор. Предвкушаю, как войду и сразу справа увижу «Пьету» Микеланджело, израненную, с красным лучом, преграждающим путь злоумышленникам. В тот год безумец напал на Пьету с молотком, и она была изранена… Из собора Святого Петра я выходил, чтобы побродить по улицам Ватикана, заглядывал в лавки, торгующие церковной утварью, толкался среди священнослужителей и монахов и опять уходил через холм Сан-Николо…
…Римский университет. Я пришел встретиться с профессором Анжело-Мария Рипеллино и попал в самую гущу боя между студентами и полицией. Советского парня, меня, битва эта привела в экстаз. В дыму слезоточивого газа, получив несколько ударов и тычков, я всё же добрался до кабинета профессора и вручил ему мой текст «Мы — национальный герой», и профессор сказал, что поможет мне. Мы продолжали беседовать под звуки столкновений студентов с полицией. Когда я шел по холодному Риму из университета, мне встретились целых три толпы протестующих серьезно с красными флагами…
…Круглый рынок. Экзотические склизкие животные, кальмары, серебряные рыбки и рыбы, запах овощей сбивает с ног, такой он острый и свежий. Сбивает меня, советского парня из мерзлой России. А еще я голоден, очень голоден. Мы не можем позволить себе мяса. Зато я покупаю зелени, мы едим душераздирающие салаты, в которых много лимона и чеснока. И варим картошку, вновь и вновь картошку. Моя юная жена часто плачет.
…Мы живем за вокзалом, в самом центре холодного Рима — Трастевере. Мы живем в квартире, где еще двенадцать человек. Трое из них абиссинцы. Они работают на консервном заводе. Но однажды их увольняют с консервного завода. Хозяйка квартиры синьора Франческа — жадная женщина. Мы можем мыться только раз в неделю и недолго, как в тюрьме, на телефон надет замок, чтобы мы не звонили. Принимать звонки можно, а нам звонить нельзя. Кроме абиссинцев в квартире живут семь эмигрантов: четверо уехали из Советского Союза, трое удрали уже из Израиля. Обогрев керосиновый. Женщины и дети часто плачут. Семнадцатилетнюю Анну как-то вынимают из петли. У нее желтая кожа, у Анны.
…В Риме всё время взрывают и убивают. Это время «красных бригад» и правого террора. Когда 18 февраля 1975 года мы садимся в самолет компании PANAM лететь в Нью-Йорк, нас высаживают и заставляют опознать наш багаж. В тот день Мара Кагуль, вооруженная автоматом, освободила из тюрьмы Ренато Курчио — своего мужа.
В 1982-м я приехал в Венецию из Парижа с чужим паспортом. Жан-Андрэ — владелец паспорта — был моложе меня на десять лет и выше меня на 7 см. Венеция была мокрой. Я описал путешествие в книге «Смерть современных героев».
…Еще раз я побывал в Венеции на Рождество в 1992 году. И опять проник на территорию Италии незаконно. С группой сербских офицеров, морским путем, ночью выплыв из одного из заливов Адриатики. Почему-то Италия мне всегда доставалась зимней. И я мерз в ней, промерзал до костей. Постоянно нуждался в алкоголе. Морозным, хотя и залитым ослепительным итальянским солнцем, был и Рим в 1974–1975 годах. И в Венеции 1982 года шел снег, прямо в венецианскую мутную воду, и в гондоле было душераздирающе холодно, несмотря на выпитую в большом количестве граппу. Гондольер же, сучий сын, в толстом бушлате с красной рожей ворочал веслом и вспотел от напряжения. Венеция с черного хода, с узких гнилых каналов, напоминала запущенный public toilet. Венеция с Canale Grande была холодным музеем. В нескольких палаццо, которые, я помню, посетил, аристократы жили в трех — четырех комнатах, заваленных сырым тряпьем и заставленных лоснящейся старой мебелью. Помню, что я побывал у старухи-аристократки, славящейся тем, что она давала деньги правым во всей Европе. Я хотел издавать правый журнал. У них у всех были хорватские медсестры, у венецианских аристократов. И обязательно был «батлер» — дворецкий. В палаццо питались скудно, но тарелки были старинными, многовековыми и массивные блюда серебряными. Подымая замечательный ювелирный колпак, батлер обнажал пяток дымящихся картошек и пяток сиротливых маленьких рыбок…
…Моя личная Италия — это целый хаос происшествий, пейзажей, старых и юных лиц. Помню, что у хорватских медсестер были слабые тонкие усики. А когда в начале февраля 1975 года я оказался на пару дней в Неаполе, там была забастовка мусорщиков. Воняло остро и странно больничной карболкой и гниющими, как трупы, фруктами. Власти опасались холеры. Неаполитанские наглые дети бегали в полутьме вдоль залива, а уже закатывалось за пейзаж большое мутное солнце.
Моя личная Италия холодна. Она пахнет кухней синьоры Франчески, лимоном и машинным маслом того катера, на котором я совершил свое последнее по счету путешествие в Италию, в Венецию и обратно.
Амстердамская цыганка
В Амстердаме у меня был постоянный издатель Joos Kat. Произносится как Еж Кат. Это был высокий, сухой как доска человек, типичный голландец, они все как доски. Издательство его называлось «Народная библиотека». В общей сложности он издал четыре мои книги. Последняя по времени вышла двадцать лет назад и называлась «De Kus Van de Kakkerlak» — «Поцелуй таракана». Таким образом, Kakkerlak — это «таракан» по-голландски.
В Амстердам я повадился ездить на выход каждой из книг, следовательно, в общей сложности я побывал там четыре раза. Ездить было просто, садишься в поезд на Gare du Nord — на Северном вокзале в Париже. Откупоришь бутылку пива, пока выпьешь, а уже и Бельгия за окном, а вот и Нидерланды за окном, они же Holland, полая земля, так я их неточно переводил. После первой такой поездки, помню, подвиги Наполеона и Гитлера уменьшились для меня в размерах. Покорить эти клочки земли можно в один день.
В Амстердаме Еж Кат обычно приглашал меня в ресторан, раза два или три я подписывал книги невозмутимым голландцам в каких-то сараях, заваленных книгами, но большую часть времени я оставался один. По сути, в Амстердаме мне бывало невыносимо скучно. Первый раз я съездил туда, вдохновленный песней Жака Брейля «Dans lu porte d’Amsterdam…», a в последующие разы и не знаю зачем. Мне чуть-чуть казалось, что в Амстердаме со мной должно что-то произойти чудесное.
Последний раз я приехал в дурном настроении. Причиной была моя невыносимая подруга, это чудовище, Наташа Медведева. Я просто сбежал от нее в очередной раз. В тот год ее любовник-цыган напал на нее с отверткой в руке и изуродовал ей лицо. Меня по подозрению в нападении задержала полиция, потом отпустила, я прибыл в Амстердам в отвратительном душевном неспокойствии.
На вокзальной площади бродили краснокожие индонезийцы, ветер перекатывал пластиковые бутылки из-под кока-колы и яростно трепал большие плакаты с портретом Ван Гога, где он с забинтованным ухом. Плакаты приглашали на юбилейную выставку.
Я подумал, что Ван Гог — брат мой, но что я схожу в отель, брошу сумку и пойду к Северному морю, а не на выставку, мне это нужно.
Северное море на самом деле давно мертво. Там на дне лежат жуткие вещи от Второй мировой и даже иприт с Первой, и растворяются постепенно в морской воде. А из рек Германии ядовитые потоки выносят в море свиной помет с многочисленных свиных ферм по Рейну и Эльбе. В тех же потоках плывут свинец и всякая вредная гадость с германских заводов, самых мощных в Европе и мире. Рыба в Северном море вся в язвах, потреблять ее лучше не надо, но теперь селедочные страны заимели моду резать ее мелко и продавать в консервах или пластике, так что никто не может увидеть ее печальный образ, какой ее вытаскивают из сетей рыбаки и видят рабочие рыбоперерабатывающих заводов, но эти-то не скажут.
Но я не пошел к Северному морю. Дело в том, что я выпил, а потом наткнулся на одну женщину. Я пришел в отель, куда меня определил Еж Кат, и методично выпил весь hard алкоголь в мини-баре. Что удивительного, я был русский молодой мужик, переживающий по поводу крупной русской девки, дуры и нимфоманки, певицы. Сейчас я уже не русский молодой мужик, я седой призрак, брат священных монстров, великих людей, к которым в должное время присоединюсь. Выпив весь алкоголь, я пошел на ланч. Обычно я не хожу на завтраки и ланчи в отелях, а тут пошел. Есть захотел.
И вот я в столовой отеля. Чинно и в полном молчании поедают в светлом помещении обезжиренную пищу целые семьи. По-протестантски чистые окна выходят на зимний канал, пустой и скучный. Всё скучно так, что скулы ломит от зевоты.
В зале дети, но они не кричат, в зале старики, но они не кряхтят, и не вздыхают, и не кашляют. Слабый запах еды перебивает сильный запах чисто выстиранной одежды. Я сел, но тотчас хотел встать и уйти. Уже приподнялся и увидел у большого лютеранского окна, светлого, как лужа, черноволосую то ли цыганку, то ли еврейку. Я всё же решил, что она цыганка,— я так решил по обилию блестящих вещей на ней: серьги-подвески в ушах, бусы в несколько рядов на шее, браслеты на запястье во множественном числе. Ну и конечно, на плечах платок, какая же цыганка без платка. Лицо у нее было некрасивое, всё сформированное вокруг крупного носа, узкое, как морда лошади, и огромные выпуклые шоколадные глаза. Цыганка вертелась, беспомощная, в этом болоте из чистых, почти прозрачных голландцев.
Я подошел к ее столу, не раздумывая ни мгновения. Спросил, могу ли сесть за ее стол, по-английски.
— Садись,— сказала она и улыбнулась, обнажив большие, как и глаза, лошадиные зубы.
Я сел.
— Чего хочешь?
— Ты цыганка.
— Я цыганка. А ты поляк?
— Нет. Угадай, кто.
— Тогда германец.
— Да,— соврал я.— Что цыганка делает в Амстердаме?
— Бизнес цыганский делаю. Я живу тут. Муж голландец был.
— Воруешь?
— Ворую.— Она захохотала. Голландцы с ужасом посмотрели на нас.— У тебя не буду, у тебя нечего.— Еще один раскат хохота. Голландцы вжались в свои стулья.
— Гадать умеешь?
— Я лучшая!— гордо сказала она.
— Давай, гадай мне. Хочу будущее знать.
— Здесь нельзя. Запрещено.— Она с сожалением оглядела зал.
— Пойдем ко мне,— предложил я.
— Нет, пойдем ты ко мне.
— Пойдем к тебе.
Мы встали и пошли к выходу из столовой. Я так ничего и не съел. Не знаю, поела ли она, на столе у нее было пусто.
В номере у нее царил хаос. Рулоны тканей, чемоданы, свертки, сумки, всё вперемешку. На столе, ну минимальный такой отельный стол, лежали фрукты, мне неизвестные, похожие на дыни, но ярко-зеленые. И поменьше размером.
— Выпивать станешь?— спросила она, уже вынимая из мини-бара пластиковую бутылку с мутной жидкостью.
— Что это?
— Сербска сливовица.
— Лей,— сказал я.— Только пить будешь первая, а то отравишь.
Она одобрительно захохотала. И бросила на стол с зелеными фруктами два стакана. Именно бросила. С шумом. Налила себе и мне.
Я обменял свой стакан на ее стакан. Она вновь поощрила меня одобрительным хохотом.
— Правильно, цыганам доверять нельзя, я сама не доверяю.
Мы выпили. Она схватила со стола зеленый фрукт и вгрызлась в него большими зубами.
— Что за фрукт?
— «Дуня», помесь груши и яблока.
Я взял фрукт и укусил. Ни яблоко, ни груша, ни рыба, ни мясо.
— Гадай!— Я протянул ей правую ладонь.
— Давай обе!
Она повертела мои руки, крепко сжимая их при этом, подвела меня к окну, за окном пустынный канал оказался замерзшим. То ли он был замерзший, то ли замерз за последний час.
Разглядев ладони, она посмотрела на меня жалостливо, но и с любопытством. Еще раз вгляделась в линии на правой руке.
— Поедешь на войну… потом еще и еще. Много войн… Будешь жив… Потом вижу много молодых вокруг тебя… Потом в тюрьме будешь… Дети у тебя будут… Два, потом еще два… Дальше ничего не вижу…
Мы вернулись от окна к столу.
— Цыгане, вы любите людям головы заморачивать,— начал я. И вдруг вспомнил, что моему отцу, еще подростку, цыганка нагадала, что у него будет жена по имени Рая. Так и случилось, мою мать зовут Рая. Потому я осекся со своей критикой.
— Обижаешь!— сказала она.— Хочешь скажу, где у тебя деньги, в каком кармане? Вот здесь!— И она коснулась моей груди справа, именно там лежали у меня во внутреннем кармане деньги, взятые в поездку.
В дверь решительно и крепко застучали. Она улыбнулась. Спокойно сказала:
— Это полицеи за мной! Ха!— И пошла открывать дверь. За дверью действительно стояла полиция.
Ее увезли прямо в тюрьму. Полицейские сказали мне, что ее разыскивают за соучастие в убийстве. Меня допросили у меня в номере, номер бегло обыскали и оставили меня в покое. Я не сказал об этом происшествии Ежу. Он бы, чего доброго, испугался бы, обеспокоился…
Об аресте цыганки по фамилии Kakkerlaki написали газеты. Выходит, Тараканова.
Издатель Кат испугался через несколько лет, когда я поучаствовал в тех войнах, которые мне нагадала цыганка. Документальный фильм Би-би-си продемонстрировал меня стреляющим по Сараево всей Европе. Кат отказался от меня и с тех пор если и упоминает обо мне, то только с негодованием. Впоследствии я сидел в тюрьме, по выходе родил двоих детей. Я твердо верю, что у меня появятся еще двое, как нагадала мне амстердамская цыганка.
Шинель
— Может, ты выйдешь чуть раньше, Эд, не у самых дверей? А то стыдно как-то, машина вся побитая… — сказал Андрей. Я нет, я вылез из ржавого зеленого «фольксвагена» именно у самых дверей отеля «Sacher». Я любил тогда эпатировать. Великан-швейцар, одетый в котелок и длинное толстое пальто, взял у меня из рук мою жидкую синюю спортивную сумку и понес ее, как пушинку, впереди меня.
Он был отлично вышколен, этот фриц. Он узнал мою шинель, он, несомненно, был уже юношей в 1955-м, когда такие шинели, наконец, ушли из Вены, но что ему было делать, я был гость, грязно-богатая американская «Whiteland Fondation» зарезервировала для меня номер.
Я приехал в этой шинелишке рядового с черными погонами стройбата и серебристыми буквами СА на них, конечно же, намеренно. Чтобы шушукались за спиной и чтобы ненавидели. Вызывающим поведением я мстил миру за годы безвестности.
Отель «Sacher» тонко пах паркетной ваксой, ненавязчиво так и уютно. Пять звезд, лучший отель города, окнами прямо на знаменитую венскую оперу «Штаатопер». Мне позднее сказали, что из отеля подземный ход вел прямо в гримерную артисток оперы. Чтобы австрийским донжуанам-аристократам было бы удобно в их любовных похождениях.
Пока я шел за великаном-швейцаром в мой зарезервированный номер, я отметил многочисленные портреты лошадей на стенах в золоченых рамах и обувь клиентов, выставленную в коридор для чистки. Этот старомодный обычай определял отель как благородностаромодный. Мне туфли и ботинки в коридоре понравились. Выставлю-ка и я свои ботинки на ночь, решил я. Пусть почистят.
Днем у нас было открытие, первое заседание «Интернациональных дней литературы». А проходили они, эти дни, ни больше, ни меньше… в королевском дворце в Хобурге. Туда я также явился в шинели и не сдал ее в гардероб, но поднялся в ней в зал заседаний и только там снял ее, чтобы повесить на спинку величественного стула. Включили свет, и от погон моей шинели в зал пролилось лунное сияние. Все присутствующие вынуждены были обращать волей-неволей на погоны и на меня внимание. Большинству собравшихся моя шинель не нравилась.
Литераторов приехало множество. Богатое американское «Whiteland Foundation» не скупилось. По прошествии уже четверти века я плохо помню коллег-писателей, все они были диссиденты из СССР и восточноевропейских стран. Помню разве что, что был Лев Копелев с женой, тот, который написал несколько книг об «ужасах» советской оккупации Германии. Дни литературы открыла рослая красотка — председатель «Whiteland Foundation» Анн Гетти. Очень рослая красотка была женой одного из сыновей нефтяного магната Пола Гетти. Красотка увлекалась литературой, она прикупила себе знаменитое издательство «Grove Press», а я был автором этого издательства.
Как водилось в те годы, писатели-диссиденты вступили в перепалку со мной. С их точки зрения, я был просоветский, а с моей точки зрения — они были бесталанные третьесортные литераторы. Копелев с женой возмутились моей шинелью, назвали мое прибытие в Австрию в этой шинели вызывающим, провокационным. Я сообщил им, что, если они не знают, эта шинель освободила Европу от гитлеризма.
В результате этой перепалки в перерыве меня окружили красивые дамы, одетые и разговаривающие таким образом, что я определил их как аристократок. Но они оказались, эти дамы, общим числом где-то шесть или семь дам, высшей аристократией! Достаточно сказать, что одна из них носила фамилию Гогенлое, а еще одна — Гогенцоллерн. А, каково! Я им понравился, видимо, моей наглостью, повадками «русски мужик» и оккупанта. «Диссиденты не понимают психологии недавно еще оккупированных народов и не понимают психологии оккупированных дам»,— подумал я снисходительно.
К вечеру, когда стемнело, к Sacher-отелю подъехал на ржавом «фольксвагене» Андрей. В конце шестидесятых годов в Москве мы с ним были близкими друзьями, я жил у него на Малахитовой улице, он работал фельдшером и занимался живописью. Мать его была доктор, но особого рода, она работала в российских посольствах за границей. Мать русская, а отец Андрея, оказалось, еврей, поэтому он воспользовался волной еврейской эмиграции и уехал в Австрию в самом конце семидесятых с женой и ребенком и вот жил в Вене.
— Я покажу тебе настоящую забегаловку для простых немецких алкашей,— сказал Андрей.
— Вот-вот, именно, где разливают дешевый шнапс,— одобрил я.— И где из магнитолы хрипит «Лили Марлен». А то меня задолбали все эти Гогенцоллерны и Гогенлое.
— О, ты познакомился с Гогенцоллернами?
— Да.
— Ну и..?
— Обычные сдержанные напудренные селедки. Я бы лучше познакомился с большущей рыжей потной австриячкой. Там, куда мы едем, есть такие?
— Бывают,— сказал Андрей. Он уже развелся и жил один.— Я пригласил сегодня двух. Сказали, подойдут.
Мимо мелькали уже совсем незначительные здания. Вена — небольшая столица, меньше двух миллионов жителей. Андрей запарковался у какой-то старой двери. Мы вышли и вошли внутрь.
В помещении пахло мокро алкоголем. Оно было тесное, полутемное, и за столиками сидели действительно просто одетые в теплые пальто и куртки австрийцы. У некоторых были красноватые лица.
Мы прошли к бару. Бармен, лысый, в красной жилетке поверх белой рубахи, смотрел на мою шинель не отрываясь, с тревогой.
— Шнапсу, самого простого. Переведи.
Андрей прокурлыкал бармену на вполне сносном немецком, ну австрийском.
Бармен стоял за своей стойкой и молчал. Потом открыл рот и произнес короткую фразу. При этом он указывал на меня.
— Шинель?— спросил я.
— Ну да,— вздохнул Андрей. Он требует, чтобы ты снял шинель, иначе он нас не обслужит. Снимешь?
— Не буду,— сказал я.— Пошли в другой бар.
Не тут-то было. Вокруг нас уже стояли посетители, стекшиеся к бару от своих столиков. Некоторые сжимали в руках стаканы и пивные кружки. Они галдели, а один брезгливо схватил меня за рукав шинели.
— Что говорят?— спросил я.
Андрей грустно сообщил, что они называют нас проклятыми оккупантами и требуют, чтобы мы убирались.
— Скажи, что мы уберемся,— вздохнул я.
Он сказал, но они не расступились. Я подумал, что, падая, нужно будет ухватиться за голову руками. Потому что руки починить будет докторам легче, чем голову.
Тут из-за спин разгневанных австрийцев к нам пробрался маленький старичок. Один рукав его пальто был засунут в карман.
Старичок что-то сказал австрийцам, и они затихли. Потом он спросил о чем-то Андрея. Андрей ответил. Потом старичок обратился к австрийцам с короткой речью. После чего австрийцы, всё еще галдя, пошли к своим столикам. Затем старичок что-то сказал бармену. Тот кивнул и поставил на стойку три стакана.
— Что он им сказал?
— Он сказал, что потерял руку на Восточном фронте и что от его рук на Восточном фронте погибли как минимум трое русских солдат, так что мы квиты, хватит всего этого, можно выпить.
Бармен налил нам мутного шнапса, и мы выпили все трое: Андрей, я и однорукий старичок.
Однако мы не стали испытывать судьбу и не выпили по второй. Мы ушли. Пожав на прощание единственную левую руку старичка. На улице я снял шинель.
Белое на белом
В ноябре Центральная Россия обыкновенно покрывается снегом. Россия становится от снега чище, но выглядит безжалостно. Белый цвет у меня ассоциируется с кроватью больного, с бинтами раненого, с саваном мертвеца. Вообще со смертью.
Белой позволительно быть только белой рубашке под новогодним смокингом. Где-нибудь в театре оперы и балета. Ну еще очень хороши были снежные вершины гор над городом Алма-Аты в 1997 году.
Счастливы нации, не видавшие снега.
Из иллюминатора воздушного лайнера в залитом Абсолютным Светом счастливом пространстве видно внизу белую подкладку облаков. Не раз я испытывал в этой высокой Сияющей Зоне абсолютное счастье. Есть нехитрая уловка — пятьдесят граммов виски плюс до упора поднять штору над иллюминатором и блуждать взором, как ангел. В такие минуты понятно, что люди некогда летали.
Еще бел лучший в мире мрамор. «Пьета» Микеланджело в соборе Святого Петра, побитая молотком фанатиком, была в 1974 году, в декабре, ближе к новому, 1975 году, ослепительно-белой. Я ходил, молодой длинноволосый эмигрант, каждое утро через холм Сан-Николо, по традиционному маршруту мимо статуй и бюстов гарибальдийцев и храма рабочему, построенного Муссолини, один, в воздухе, отдающем лимоном, редисом и укропом. Мимо вилл и дворцов. Мимо пальм и мясистых кустарников. Заканчивался мой маршрут в преддверьи храма, справа от входа, перед «Пьетой». Мерцала перед скульптурной группой нитка инфракрасного луча, охраняющая ее покой. Уютно так. Постояв у «Пьеты», удивляясь всякий раз ее сахарной белизне и ее пропорциям: длине тела Христа и Божьей Матери, я выскальзывал из преддверья храма. Я приходил только ради «Пьеты».
Исключительно белы белые розы. Свежие и не сорванные, они настолько скульптурны, собраны в тугой узел, в воронку, подобную той, что затягивает корабли. В колонии номер тринадцать, где я был определен в 2003 году претерпеть наказание, грядки с розами принудительно выращивали заключенные. На самом деле это было утонченное наказание: заставить добрую сотню заключенных ежедневно ползать на грядках, взрыхляя почву ложками, удобряя ее, поливая. Если розы выглядели плохо, заключенных бедолаг отправляли в карцер. Или заставляли часами маршировать по плацу. За ненароком сломанные розы уводили подальше и избивали. Непросто, да? Совсем непросто.
В той колонии на утренней поверке, утомительно ожидая прихода офицеров, которые посчитают наш тринадцатый отряд тринадцатой колонии, стоя не шелохнувшись около полутора часов, я увидел летящего над промзоной птеродактиля. То есть доисторического крылатого ящера. Я четко увидел его на фоне белых ядовитых промзоновских облаков. Нас посчитали один раз, прошли, но команды «Разойтись!» так и не последовало. Как впоследствии оказалось, они недосчитались троих и начали счет заново. А мы все стояли, пока они обошли все отряды по второму разу. Тогда именно, на исходе 102-й минуты стояния, и пролетел птеродактиль. Он беззвучно и медленно взмахивал кожаными крыльями и, поглядев сверху на нас, издал затем два душераздирающих крика: «Ин-ааа! Ин-ааа!» И запрокинул зубастую голову. И нырнул в белые ядовитые промзоновские облака.
Будучи безработным в Нью-Йорке, я купил себе вначале белый костюм (впрочем, он оказался не совсем белым, совсем ничтожная капля кофе всё же была, видимо, растворена в том баке, в котором окрашивалась ткань, из которой он был сшит), а затем и белое узкое пальто. В таких пальто на киноэкране обыкновенно разгуливали склонные к дендизму мафиози. Пальто действительно было итальянское. По прошествии лет я задумался: на кой черт я купил эти белые ризы в самый, может быть, несчастливый период моей жизни? И белый костюм, и белое пальто я надевал считаное количество раз за годы. Затем, когда дела мои поправились, эти идиотские предметы моего туалета стали меня раздражать. Куда-то я их задевал с глаз долой. Не то выбросил, не то подарил. Уж и не помню. Я пришел к выводу, что белый костюм и белое пальто были мне нужны банально для того, чтобы, не будучи счастливым, выглядеть счастливым.
Впоследствии у меня также появились и белые сапоги. Но они исчезли из обращения очень быстро. Белые предметы служили мне, видимо, для исправления обрядов моего культа: массивного нагнетания искусственного счастья. Но, признаюсь, что это работало: я казался себе счастливее.
Видимо, когда я наконец навсегда и полностью стал счастливым, я стал носить черное. Я выгладываю из черного строгий, бледный и просветленный. Интересно, что у некоторых народов траурный цвет — белый. Так что, выглянув в окно, можно сказать себе: «Россия опять на семь месяцев оделась в траур».
Иконы
«Оставьте меня быть пищею зверей…»
Фанатизм и вера первых христиан поразительны. При императоре Траяне, во время гонения на христиан, был схвачен и осужден на казнь в амфитеатре епископ Антиохийский Игнатий. Он был наследником по кафедре епископа Еводия, преемника, в свою очередь, ни много ни мало самого апостола Петра! Ну, конечно, тогда, на заре христианства, каждое епископство объединяло кучку верующих, и только. И вот повезли осужденного на казнь в Рим, звери должны были съесть его в римском Колизее почему-то, хотя амфитеатров было немало и в Малой Азии, где находится Антиохия. Повезли под конвоем римских стражников или, как сам Игнатий их называл, «десяти леопардов». По дороге (по-современному — «на этапе») останавливались в городах Смирне и Троаде (Сирия). К этапируемому Игнатию приходили поклониться местные христиане, видимо, «леопарды» не препятствовали. Игнатий на этих остановках поучал своих слушателей, особенно упирая на то, чтобы верующие повиновались своим епископам, видимо, с повиновением епископам дела обстояли плохо. Во время этих встреч на этапе Игнатий передал христианам шесть посланий для увещевания христианских общин, которые они представляли. Седьмое послание, к римлянам, он сам отвез в Рим.
В этом седьмом послании есть замечательные и чудовищные по сути дела места. Вот из главы IV: «Умоляю вас: не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищею зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтоб они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела, дабы по смерти не быть мне кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христа, когда даже тела моего мир не будет видеть. Молитесь обо мне Христу, чтоб я посредством этих орудий сделался жертвою Богу».
Из главы V: «На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днем я уже борюсь со зверями, будучи связан с десятью леопардами, то есть с отрядом воинов, которые от благодеяний, им оказываемых, делаются только злее. Оскорблениями я их больше научаюсь, но этим не оправдываюсь.
О, если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтоб они с жадностью бросились на меня. Я заманю их, чтоб они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули. Если же добровольно не захотят,— я их принужу. Простите мне: я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Ни видимое, ни невидимое — ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола придут на меня,— только бы достигнуть мне Христа».
Из главы VIII: «Не хочу более жить жизнью человеков. А это исполнится, если вы захотите. Захотите же, прошу вас, чтобы и вы снискали себе благоволение… Если пострадаю, значит, вы возлюбили; если же не удостоюсь,— вы возненавидели меня».
Ну-с, господа читатели! Кто вы там, бизнесмены или кто? Каков святой безумный Игнатий! Какая мощь, какое желание погибнуть! Из глав IV и VIII вырисовывается полная уверенность, что, по-видимому, у римских христиан были какие-то связи (может быть, при дворе императора Траяна), и они пытались спасти Игнатия от мученической смерти на арене Колизея. Но он молит римских христиан: «Не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищею зверей!» И с экстатическим сладострастием представляет себе муки, которые ему предстоит претерпеть.
Это первые христиане. Их совсем немного. Они все знают друг друга. Сам апостол Петр был перед епископом Еводием водителем христиан Антиохии, но Игнатий, по преданию, был тем самым младенцем, которого сам Христос взял в свои объятия (Евангелие от Матфея, XVIII, 2). Вот что сказано: «В это время пришли к Иисусу ученики.
— Кто больше всех в Царстве Небес?— спросили они.
Иисус, подозвав ребенка, поставил его перед ними и сказал:
— Говорю вам, пока не изменитесь и не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небес. Тот, кто умалит себе и станет таким, как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Небес. И кто примет одного такого ребенка ради Меня, тот примет меня».
«Одного такого ребенка» казнили в амфитеатре. Влиятельные защитники христиан вняли его мольбам и не стали просить за Игнатия, епископа Антиохийского. Случилось всё, как он желал. «Огонь, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов, сокрушение всего тела…» Император глядел из своей ложи в сияющих доспехах, украшенный драгоценными камнями, он был подобен дьяволу. Прекрасные злобные блудницы окружали императора. Чернь бесновалась пьяная, в своих загонах радостно чуя кровь. Священномученик в момент, когда полосатый леопард кинулся ему на шею и перекусил ему аорту, увидел Христа, подымающего его — ребенка — и стоявшего перед апостолами. Огонь. Свет. Много света.
Священномученик Игнатий воспринял мученический венец в 107 году. Восточная церковь празднует его кончину 20 декабря, кончину священномученика Игнатия Богоносца. Богоносца, потому что ребенком он был «носим», приподнят Иисусом и поставлен перед учениками. Именно «празднует кончину», так и сказано. Удивительно. Непостижимо. Но это так: празднуют.
Церковная традиция и историческая наука не донесли до нас, понятно, ни портрета, ни описания внешности священномученика Игнатия. Видимо, это был уже старый, но неистовый человек. Мне кажется, у него должны были сохраниться все волосы, и даже не до конца они были седые. Одет он был, вероятнее всего, в черный какой-нибудь балахон, лицо, осмугленное антиохийским солнцем, и бешеные глаза. Помимо экстатического мученичества, Игнатий остался в истории как один из первых раннехристианских писателей. Ну, вы оценили его мощный стиль. Даже если учесть, что это перевод, это экстраординарно.
«Кротовья нора»
О Наполеоне Бонапарте написаны тысячи книг, о нем вроде всё известно. Он вскружил головы даже таким великим людям, как Гёте или Гегель. Революционеров вдохновлял низкорослый молодой поручик артиллерии, плохо говорящий по-французски, монархистов Европы одновременно раздражал и поражал этот военный гений, молодой генерал-плебей, ставший императором. При жизни его называли «корсиканское чудовище», сейчас он в перспективе предстает этаким Гитлером начавшегося тогда XIX века. Его трагический конец на острове Святой Елены вдохновлял германских поэтов-романтиков и нашего Лермонтова. Он положил на полях сражений несколько миллионов жизней, из них около миллиона — французских жизней. Но его любят до сих пор.
И всё же на вопрос: «Кто вы, месье Наполеон Бонапарт?» — есть множество ответов, множество образов, сменяющих друг друга, а одного ответа мы не услышали.
В его биографии есть малопонятные поступки. Например, зачем он стал артиллеристом? Зачем он поперся в Египет? Что он забыл в ледяной России? Русская история считает, что Наполеон приходил нас завоевать, но так ли это?
Мальчику Наполеоне Буонапарте было всего десять лет от роду, когда он поступил в 1779 году в кадетскую школу в Бриенне. Впоследствии, уже в XX веке, у исследователей появится оригинальная идея о том, что Наполеоне Буонапарте был последним великим итальянским кондотьери — военным предводителем (завоевателем-наемником), в Средние века во главе «свободных компаний» они опустошали Южную Европу. Семья Буонапарте действительно прибыла на Корсику из Италии в XVI веке. Последний великий итальянский завоеватель между тем, обучаясь в кадетской школе, был замечен читающим более всего «Записки Цезаря о Галльской войне» и книги о подвигах Александра Великого. По окончании кадетской школы Наполеоне был принят в Ecole Royal militaire в Париже. Здесь он немедленно проявляет свою склонность к военной профессии артиллериста. Артиллерия уже была «богом войны» в его время, и достичь военных успехов можно было с наибольшей вероятностью в артиллерии. Наполеоне живет бедно, питается два раза в день молоком и хлебом, не колеблясь вступает в драки, если юные будущие воины высмеивают его акцент. И читает как проклятый, выучивая наизусть записки Цезаря, штудирует подвиги Александра. Впоследствии он скажет презрительно: «Европа — кротовья нора! Настоящие подвиги возможны только вне Европы». Военную школу он заканчивает досрочно, в 1785 году. Ему шестнадцать лет! Ему присвоен чин лейтенанта.
Интересно, что помимо Цезаря и Александра Великого он прочитывает «много раз» бестселлер той эпохи — «Страдания молодого Вертера». Перед нами романтический юноша, не только мечтающий о великих военных подвигах, но и по-деловому приступающий к их осуществлению, артиллеристом он стад намеренно. С дальним прицелом.
Он пытается подхлестнуть свою судьбу. В 1788 году он попытался поступить на русскую службу. Ему предлагают ранг sous-lieutenant, под-лейтенанта, на чин ниже. Он с гневом отказывается: «Король Пруссии даст мне чин капитана!». Но к королю Пруссии он не успевает обратиться. 1789 год — год Французской революции.
Генералом он становится в 1794 году. А уже в 1798-м, ему двадцать девять лет, он высаживается с армией в Египте. Покидает «кротовью нору». Ведь настоящие подвиги возможны только вне Европы. Его армия захватывает Александрию, основанную Александром Великим, по преданию, там же находилась его гробница. Военные историки с присущим всем историкам догматизмом повторяют уже две сотни лет одно и то же: о соперничестве Англии и Франции, о том, что экспедиция была важным и умным французским ударом в подбрюшье Турецкой империи, что это была гениальная стратегическая операция. И всё это басня историков, не имеющая никаких под собой оснований.
Поход в Египет Франции был не нужен. С военной точки зрения это была безумная авантюра, закончилась она для армии несчастливо, несмотря на первые удачи и победы. Бонапарт сумел каким-то образом повлиять на членов правящей тогда во Франции Директории. Уговорил их; впрочем, они не были военными. На самом деле армия, которую Наполеон увез в Египет, была нужна в Европе, дабы обеспечивать безопасность самой Франции. Но Бонапарт убедил Директорию высадить войска в Египте. И не только в Египте. В феврале 1799 года армия вошла в Сирию. Успехи, победы, а потом поражения. В августе 1799 года Бонапарт покидает армию и удачно пересекает Средиземное море, хотя его ловит английский флот. Армия оставлена на Клебера, по сути, Наполеон бросил ее. Болезни, поражения, остатки армии эвакуированы из Египта в 1801 году. Что делал Наполеон в Египте? Следовал по стопам Александра Великого, пытался повторить его подвиги. Европа ведь «кротовья нора».
Второй раз Наполеон бросит армию в России в 1812 году. А пока он, прибыв во Францию, совершает в 1799-м, в том же году, государственный переворот и становится первым консулом, фактически диктатором Франции. Теперь ему никого не нужно уговаривать, он единолично будет решать судьбу своих армий.
Наполеон движим не только жаждой завоеваний, но он соревнуется с великими, с Цезарем и Александром. В особенности с Александром. В 1801 году Наполеон переманивает на свою сторону русского царя Павла I. Они договариваются о совместном нападении на жемчужину британской короны, на таинственную Индию. Ведь Индию завоевывал Александр. Павел формирует под начальством атамана Платова экспедиционный корпус, и в начале 1801 года поток верблюдов, массы всадников устремляются по тяжелой зимней дороге на юг. В Саратовской области недалеко от современного города Пугачева их достигает весть об убийстве Павла I (английскими агентами влияния братьями Зубовыми). Наполеон еще не успел к тому времени сформировать свой экспедиционный корпус. Он считал, что у него есть время (пока русские пересекают степи и пустыни Средней Азии).
В 1812 году упрямый Наполеон переходит границу Российской империи. Наши отечественные историки, наша историческая традиция, наш народ, наш Лев Толстой двести лет как убеждены, что Наполеон шел нас завоевывать. Между тем, под Красным Селом, уже после Бородинской битвы, казаки уже упоминавшегося атамана Платова отбили обоз наполеоновского маршала Даву. На подводах они обнаружили несколько тонн географических карт… Индии. Дело в том, что Наполеон не стремился завоевывать нашу снежную и бедную тогда страну. Никаких богатств, помимо пушнины и строевого леса, в России ведь не было. Человечеству еще не были необходимы нефть и газ. Наполеон хотел пройти через Россию в Индию, победив по пути русского царя и принудив его армию присоединиться к своей интернациональной армии; с ним шли поляки, немцы, да и вся Европа без англичан. Именно потому, что он не собирался нас покорять, Наполеон и не избрал своей целью столицу страны Санкт-Петербург, но пошел на Москву. Идя в Санкт-Петербург, он вернулся бы в «кротовью нору», ведь Петербург — окно Европы, а ему нужна была Индия. Он и шел в Индию через Москву. Конечно, это расстроит патриотов накануне двухсотлетия нашей Отечественной первой войны, но c’est la vie, как говорят французы. Не нужна ему была наша холодная и бедная Россия.
История Эдварда Восьмого
Если носишь имя Эдуард, то, естественно, интересуешься Эдуардами. Загадочная фигура — последний английский король с «моим» именем — Эдвард VIII.
Когда я жил в Париже, у меня собралось несколько книжек об Эдварде Восьмом, в которых его история рассказывалась не совсем так, как это принято, я бы даже сказал: совсем не так, как принято.
Принято считать, что король Эдвард VIII добровольно отрекся от престола 11 декабря 1936 года, процарствовав меньше чем год (его отец король Георг V умер в январе 1936 года, и Эдвард наследовал ему 20 января). Принято считать, что причиной отречения стала его попытка жениться на американке Уоллис Симпсон (Ворфилд), разведенной бывшей жене американского бизнесмена.
Якобы королевская семья, английское правительство и англиканская церковь были против женитьбы Эдварда на Уоллис. И вот раздосадованный Эдвард VIII отправляется на радио и заявляет о своем отречении от престола в ночь на 11 декабря 1936 года. Это официальная версия, устраивающая и английский королевский дом, и общественное мнение Великобритании и всего мира. Легенда о страстной любви английского короля к некрасивой американке с тех пор ласкает сердца домохозяек всего мира. «Отдал престол, чтобы остаться и прожить жизнь с любимой женщиной! Меня бы кто-нибудь так любил!» — вздыхают растроганные домохозяйки.
Однако легенды создаются, чтобы скрыть за ними нечто, что следует скрыть.
Посмотрим пристальней на до смерти влюбленного монарха. В 1936 году ему сорок два года. Он необычайно популярен в своей стране. Для этого есть множество причин. Он участвовал в Первой мировой войне не издали, как, наверное, подобало бы монарху, но воевал на передовой, он настоящий фронтовик. Королевская семья возражала, не хотели видеть принца в роли простого смертного. Эдвард, храбрый и мужественный, был первым английским королем, совершившим полет на аэроплане и получившим лицензию пилота. Он проявлял искреннюю заботу о своих подданных, не раз посещал трущобы Глазго и бедные районы Южного Уэльса. И этот король, красавец, храбрец, солдат, вдруг ночью 11 декабря 1936 года, в микрофон на всю страну, прильнувшую к приемникам, произносит следующую сопливую фразу:
«Я нахожу для себя невозможным нести тяжелую ношу ответственности и исполнять обязанности короля так, как мне бы этого хотелось, без помощи и поддержки женщины, которую люблю».
Вы верите, что король сказал той ночью правду?
Интересная деталь. 11 декабря 1936 года Уоллис Ворфилд (Симпсон) всё еще была замужем за американским промышленником Симпсоном. Она развелась лишь в апреле следующего, 1937 года.
Еще интересная деталь. Королевская семья, якобы осуществлявшая давление на Эдуарда, состояла из его младших братьев и сестры, ведь он был старшим сыном. Вряд ли солдат и герой войны мог серьезно относиться к их недовольству.
Премьер-министром в тот период был Стэнли Болдуин, семидесятилетний и непопулярный, уже в 1937 году он уступит место отрицательно знаменитому Невиллу Чемберлену.
Помимо этого, англиканскую церковь, которая якобы также выступала против женитьбы Эдуарда на Симпсон, возглавляет традиционно английский монарх, в данном случае сам Эдвард VIII.
Получается, что концы с концами не сходятся. Не мог король-солдат побежать ночью на радио с истеричным своим отречением под давлением таких ничтожных факторов.
Его заставили отречься. Дело в том, что его прогерманские настроения были хорошо известны. Эдвард выступал против вмешательства во внутренние дела Германии. Он поддержал Муссолини в его агрессии против Эфиопии. Он симпатизировал фашизму и, еще будучи наследным принцем, наладил связь с лидерами нацизма.
19 мая 1935 года на пустынной дороге, ведущей через дюны, грузовик сбил мотоцикл с коляской. Управлял мотоциклом еще один Эдвард, не менее знаменитый, Томас Эдвард Лоуренс, известный в истории как полковник Лоуренс Аравийский. Шпион, военный советник, диверсант и партизан, воевавший бок о бок с эмиром Фейсалом — будущим королем Ирака — в великом восстании арабов против турок, скончался в больнице. Свидетели происшествия утверждали, что грузовик буквально охотился на мотоциклиста. Дело в том, что полковник Лоуренс возвращался со встречи с руководителями национал-социалистической партии Германии, он был доверенным лицом наследного принца Эдварда. Лоуренса, по всей вероятности, уничтожила английская разведка MI-5.
А 16 июля 1936 года MI-5 попыталась убить самого Эдварда, уже короля. В Constititional Hall, неподалеку от Вестминстерского аббатства, в толпе, пришедшей приветствовать Эдварда, с заряженным револьвером был задержан ирландец Жером Банниган. Он уже целился в короля, и Эдварда спасла только расторопность полицейского констебля, прыгнувшего на Баннигана. Банниган дал прямые показания, что он послан MI-5. Историю замяли, Банниган получил смехотворный год тюрьмы.
После отречения, уже на следующий день, Эдвард уезжает в Австрию, там было в ту пору полуфашистское правительство. В октябре 1937 гола Эдвард и Уоллис Симпсон, имевшие теперь титул герцог и герцогиня Виндзорские, посещают с визитом Германию. Они нанесли визит Адольфу Гитлеру на его вилле в Оберзальцберге. Их встречает почетный караул эсэсовцев! Для приветствия герцог Виндзорский пользуется нацистским салютом! По свидетельству графа фон Менздорфф-Дитришстейна, бывшего посла Австрии в Великобритании: «Эдвард приветствовал германский фашизм как средство против коммунизма». Альберт Шпеер цитирует мнение Гитлера: «Я абсолютно уверен, что через него дружеские отношения могут быть достигнуты. Если бы он остался, всё было бы по-иному. Его отречение — сильнейший удар для нас».
Лучше не скажешь.
В феврале 1940 года немецкий министр граф Юлиус фон Зех-Буркерсроде заявил, что герцог Виндзорский допустил утечку планов союзников по обороне Бельгии. Когда Германия оккупировала Францию, Эдвард и Уоллис выехали в Испанию и затем в Португалию, не забыв попросить оккупационное немецкое командование поставить часовых у принадлежащих им домов в Париже и на Ривьере. Немцы тащили пару на свою сторону, а Черчилль пригрозил Эдварду трибуналом, если он не вернется в Британию. Черчилль разумно боялся, что Гитлер захочет попытаться использовать всё еще популярного бывшего короля.
В конце концов в августе пару буквально умыкают из Португалии и доставляют на британском военном корабле на Багамские острова, где Эдвард находится фактически в почетном плену, имея звание губернатора островов. Друг Геринга шведский магнат Аксель Веннер-Грен пытается завлечь пару на борт своей яхты. И увезти. Но план срывается.
Британская королевская семья придумала легенду о безумной силы любви короля к некрасивой американке, чтобы закамуфлировать фашизм Эдварда. Такое пятно на репутации королевской семье было бы излишним. Эдвард умер своей смертью в 1972 году в Париже. Уоллис пережила его на четыре года и умерла там же в 1976-м. Насколько в действительности они любили друг друга, выяснить теперь сложно.
В самом конце войны агент MI-5 Энтони Блант вывез из замка Фридрихсхоф в Гессене секретные документы, включая переписку Эдварда с Гитлером. Им было о чем писать друг другу, этим двум солдатам Первой мировой. Публикация переписки может последовать, только если Великобритания перестанет быть монархией.
Отец солдатам
Ну-ка я напишу для GQ о незаслуженно забытом императоре. Павел I для меня самый интересный персонаж российской истории, впрочем, богатой на редкостных персонажей. Сын Екатерины II и Петра III, впоследствии отстраненного Екатериной от власти и задушенного ее сообщниками в Ропше, мать свою он не любил и порицал ее способ правления, его «материнский» характер. Павел вступил на престол в возрасте сорока двух лет, царствовал всего четыре с небольшим года, однако повлиял на Российское государство как никто другой. Большинство из установленных им законов не были отменены и просуществовали вплоть до 1917 года.
Уже в день коронации Павел объявил три указа. Он восстановил порядок престолонаследия, разрушенный Петром I (тот настоял, что царь может назначить своим преемником любого человека). Он отменил смертную казнь. Он определил размеры бюджета императорской семьи, доселе неограниченные.
Екатерина скончалась от апоплексического удара 6 ноября 1796 года, и уже в тот же день и на следующий столичная полиция обнародовала правила одежды и поведения. Среди них были и анекдотические: так, запрещалось ношение завязок на башмаках и чулках, вместо них предписывалось носить пряжки. Волосы должны были зачесываться назад, а отнюдь не на лоб. (Решительно одобряю указ о волосах. Волосы, зачесанные назад, отличают джентльмена от гопника.)
Для похорон Екатерины Павел приказал доставить прах ее мужа и своего отца из Невского монастыря, где тот был похоронен. Павел I приказал вскрыть гроб и надел на отца корону. Затем захоронил Екатерину и Петра в Петропавловском соборе. Их сын таким образом восстановил в правах своего отца. Могилу фаворита Екатерины, Григория Потемкина, Павел приказал сровнять с землей.
Человек своенравный, порывистый, Павел был скор в наказаниях дворянам, поэтому дворянский класс его возненавидел. За ненавистью этой, впрочем, лежали вполне реальные обиды на Павла. Дворяне поголовно служили в армии, а именно армию Павел I переустроил радикальным образом. В романе «Генералиссимус Суворов», прочитанном мною в юности, Павел изображен ярым пруссофилом, сторонником палочной дисциплины прусского короля Фридриха, тираном, заставлявшим армию тупо маршировать и пудрить косички. На самом деле Павел да, унаследовал от своего убиенного матерью отца своего рода преклонение перед Фридрихом и считал, как и его отец, прусскую армию идеальной (и не зря считал, Фридрих был гениальный полководец, а прусская армия — лучшая в XVIII веке в Европе). Однако вот какую русскую армию он унаследовал от матери, это мнение британского генерала: «Армия Екатерины II более беспорядочная толпа, нежели правильно устроенное войско. Процветает масса злоупотреблений. Большинство высших генералов постоянно живут в столице, оставивши войска на свои штабы. Многие офицеры постоянно живут в своих имениях, отдавая за это жалованье своим командирам. Солдаты, знающие ремесла, постоянно живут и работают в имениях своих начальников, я насчитал до 50 тысяч таких отсутствующих солдат. В лейб-гвардии Преображенского полка состоят 8 полковников, 26 подполковников и 6 тысяч унтер-офицеров — дворян на 3,5 тысячи рядовых. Но каждый день в полку я вижу только одного майора и несколько писарей».
И вот что сделал Павел, поклонник прусской дисциплины и косичек. Он был настоящий отец солдатам.
— Шинель! Он ввел для нижних чинов как предмет формы суконную шинель с рукавами для зимнего и холодного времени (до этого солдаты имели на все сезоны только мундир, под который они поддевали кто что мог). Этот предмет военной одежды русские солдаты носят и по сей день. (Для караульных ввел шубы и валенки.)
— Уволил со службы 333 генерала и 2261 офицера, не сумевших ответить на элементарные вопросы по военному делу.
— Ввел отпуск нижним чинам по 28 дней в году.
— Уволил со службы всех дворян, числившихся при полках, но находящихся в длительных отпусках.
— Приказал, чтобы лекарями в полк допускались только лица, сдавшие лекарский экзамен в Медицинской коллегии.
— Учредил лазареты в каждом полку.
— Ввел для инвалидов и ветеранов-солдат пенсии с содержанием таких солдат в инвалидных ротах.
— Запретил удерживать из солдатской зарплаты под страхом каторги.
— Впервые в Европе ввел награждение нижних чинов: орденами Святой Анны и Святого Иоанна Иерусалимского.
— Приказал солдат хоронить с воинскими почестями, а присмотр за могилами передать инвалидным ротам.
— Запретил использовать солдат в качестве рабочей силы в офицерских и генеральских имениях. (Звучит и сегодня актуально!)
Так что, надевая шинель, вспоминайте о вспыльчивом, но, ей-богу, справедливом и заботливом императоре Павле I.
— За четыре коротких года своего правления он спустил на воду семнадцать линейных кораблей, восемь фрегатов и заложил еще девять судов. В то время как от Екатерины «приняли мы флоты в ветхом состоянии, по гнилости оных»,— писал он.
— В 1799 году он издал Указ о заселении южной части Восточной Сибири для укрепления границы с Китаем.
— В январе 1801 года присоединил к России Грузию в качестве губернии.
— Учредил Медико-хирургическую академию в Петербурге.
— При нем вышло в свет первое печатное издание «Слово о полку Игореве».
И еще сотни добрых дел совершил этот странный император с лицом мопса.
При нем мы едва не завоевали Индию. Этот малоизвестный эпизод русской истории, между тем, достоин многих исследований, книг и фильмов. Зимой 1800 года император Павел, недовольный поведением Австрии во время итальянской кампании Суворова 1799 года и образом действий Англии в Голландии, внезапно вышел из их коалиции против Наполеона и объявил войну Англии в качестве гроссмейстера Мальтийского ордена. (Это особая история, орден мальтийских рыцарей избрал его своим главой, вследствие чего остров Мальта был взят под его покровительство.) Одновременно он заключил с императором французов Наполеоном I союз, договорившись о совместных действиях против индийских колоний Англии. Наполеоновский флот должен высадить французский экспедиционный корпус в Индии, в то время как Павел I должен был ударить по английским колониям с севера, со стороны Средней Азии.
Для этой цели Павел вызвал из тюрьмы атамана донских казаков Платова и поставил его во главе экспедиции в Индию. Весь февраль и начало марта русская армия, собранная в районе Оренбурга, шла по весеннему острому льду и распутице на юг. Падали люди, лошади и верблюды. Только весть об убийстве императора остановила этот романтический и трагический поход. 11 марта 1801 года император Павел I был убит в своей спальне ворвавшимися туда заговорщиками. Убили его братья Зубовы. Николай ударил его массивной золотой табакеркой в левый висок, а офицер Измайловского полка Скаретин задушил императора его же шарфом. Заговором руководил английский посол. А то бы мы владели Индией.
Великий американский негритенок
Я помню, в Нью-Йорке во второй половине семидесятых у меня был чудесный словарь рок- и поп-музыки, иллюстрированный фотографиями групп и отдельных идолов. Уже добившиеся большого успеха идолы и группы были представлены на целую страницу. Кто помельче — на пол- и даже четверть страницы. «Джексон-five» были представлены на полстраницы. Ярко помню их круглые пружинистые «афро» на головах, глаза — большие сливы, плавающие в белках… Майкл был самый младший. Типичная афроамериканская группа. Единственно, что их отличало,— детская группа. Они не были разряжены, как цыгане, в то время как обычные чернокожие музыканты того времени были таки разряжены, как цирковые цыгане,— в шляпы, шали, блестки, цветные джинсы, с них свисало золото и серебро. «Джексон-five» были скромно одеты в светлые рубашки и темные брюки. Я равнодушно перевернул тогда страницу, заспешив к более известным идолам.
В следующий раз Майкл появился в моей жизни уже в начале восьмидесятых, я уже жил в Париже, по-моему, это был 1983 год, и французы обильно показывали видеоклип к его альбому «Thriller». На многих телеканалах. Я отметил экзотический look певца, отметил, как интересно используется формат фильма ужасов для раскрутки музыкального альбома. Тогда же французы быстренько признали Джексона феноменальным и стали дискутировать на его тему. Французы вообще любят конференции, любят дискутировать. Сядут на сцене человек пять — шесть. Внизу перед ними — зал. Выходит один и заявляет: «Вот, у меня несколько тезисов здесь, предлагаю обсудить!» И обсуждают, то невыносимо скушно, то вдруг весело, быстро, с латинскими взрывами темпераментов. Вот они стали дискутировать на тему Майкла. Обильно. Из одной из таких дискуссий я узнал, что этот парень и маленький круглолицый негритенок со сливами в белках из «Джексон-five» — одно и то же лицо. Французы вообще очень передовые, любят новизну, недаром эта нация всегда была локомотивом любой моды, возьмем что одежду, что автомобили — французы впереди. У них и прообраз компьютера раньше всех появился, «minitel» назывался, и мобильные телефоны черт знает как давно уже, их арабы на улицах держали, важно разговаривая. А тут Майкл! В то же самое время он изобрел свою «лунную походку».
Французы, довольные, сидели и сравнивали походку Майкла с походкой великого «Шарло», так по-французски звучит Чарли Чаплин. В воздухе летали словечки «фанк», «disco music», французы предавались словесной своей оргии с удовольствием. Они заметили уже тогда, что Майкл значительно посветлел, хотя и не был еще трупно-белым, как впоследствии. Были продемонстрированы слайды мальчика Майкла и Майкла в 1983 году. Профессор медицины с указкой в руках показал на слайде, как уменьшились негритянские губы Майкла, изменились его щеки, и высказал уверенность, что певец подвергнул себя нескольким пластическим операциям и какому-то таинственному способу отбеливания кожи. Один яростный музыкальный критик чуть ли не плюясь доказывал, что отбеливание и пластика — часть общего огромного проекта «Майкл Джексон», и цель всего этого — расширить маркет для продажи альбомов Джексона. Поскольку у черных музыкантов обыкновенно черные и цветные фанаты, а белые пусть и не сторонятся черной музыки, но черные исполнители всегда были второстепенны для белых.
Я помню, что я задумался на эту тему. И не согласился с тем критиком. Уже были известны миру некоторые причуды Майкла, то, что дружит с животными, с Элизабет Тейлор, с Дайаной Росс, что любит мелких детей. После выхода альбома «Thriller» он стал безумно богат, ведь продано было во всем мире 104 миллиона альбомов! Такому негритенку, подумал я, жизнь которого разворачивается в сказку, только и остается одна безумная невыполненная мечта — стать белым. Он, у которого столько сказок уже сбылось, должен иметь эту тайную безумную, часто скрываемую черными мечту, являющуюся им во сне,— быть белым. Вот практичный негритенок, наверное, обратился к своим секретарям, те сделали ему досье: кто, какие ученые, какие доктора, связались с несколькими, взвесили риски. Практичный Майкл сказал: «let’s tray it, guys!» И стал постепенно светлеть.
После выхода «Thriller»(a) и французских конференций я стал следить за его карьерой. А она, начавшись как небольшой обвал, превратилась в лавину. Первым делом появились двойники — как у Пресли. Даже вернее сказать, что двойники появились у Джексона много раньше в жизни, чем у Пресли. У Пресли — в конце карьеры и после смерти, а у Майкла — во всех черных и цветных кварталах мира, во всех Лос-Анджелесах и Малайзиях, и во всех Рио-де-Жанейро и Каракасах во дворах ходили мальчики в одной перчатке, лунной походкой, узкие штанины не прикрывают белых носков. Не только в черных кварталах, во всем мире! Ему стали подражать бедные дети. И белые!
Джексона приняла у себя чета Рейганов: Рональд и Нэнси. Он пришел на встречу в мундире и с тросточкой. Тросточка, конечно, безошибочно была взята им от «Шарло», а мундир, я определил, был навеян покойным императором Эфиопии Хайле Селассие. Good old Хайле Селассие — кумир растафарей и Боба Марли, почитаемый жрецами вуду, Хайле навсегда запечатлен в памяти и воображении черных племен. Хайле и его мундир, конечно, тронули в свое время сердце Майкла, еще, видимо, ребенка Майкла. У пылких и страстных черных своя мифология.
Восьмидесятые были его годы. После много раз награжденного «Thriller»(a), только одних премий «Грэмми» — восемь штук, через пять лет, в 1987-м появляется альбом «Bad». Майкл совершает мировое турне по пятнадцати странам в 1988 году. Интересно, что в клипе, снятом к альбому, Майкл уже практически белый человек. Наложение его физиономии конца семидесятых на физиономию в клипе «Bad» проявляет, что это два разных лица. Не черный, но искусственно сделанный белым, Майкл Джексон — единственный представитель новой расы. Представьте, что он чувствовал каждый день, глядя на себя в зеркало?! Буря чувств — от ненависти до обожания себя.
На него обращено теперь внимание всей планеты. СМИ всего мира нашли в нем диковинный объект, вечного мальчика. Разговаривает с животными, любит общество детей, до того как они стали подростками, весь резаный-порезаный операциями, пребывающий в первобытной наивности и имеющий возможность оставаться наивным святым, потому что баснословно богат. С животными последним в исторической памяти человечества разговаривал святой Франциск Ассизский. Ко всему добавляется, по-видимому, вечная невинность Майкла. Он, если и дружит с женщинами, то со старушками, та же Элизабет Тейлор — пример. Позднее он женится, и даже два раза, у него есть дети, но, как только что, через несколько дней после его смерти, заявила мать его детей, дети зачаты искусственным путем и донором спермы был не Майкл, но некий неизвестный донор. Всё это позволяет предположить, что Майкл Джексон оставался невинным все его пятьдесят лет, которые ему удалось прожить!
Такой диковинный объект, конечно же, плотоядно используется СМИ. Майкл скрывается от мира — живет на охраняемом ранчо с многоговорящим названием «Neverland», небывалая страна. К себе на ранчо Майкл приглашает погостить детей. В 1993 году некий мальчик Джордан Чэндлер обвиняет его в сексуальных домогательствах. Якобы певец укладывал его в одну постель с собой и пытался склонить к совместному сексу. Майклу Джексону были предъявлены обвинения в развращении малолетних, однако дело не пошло. В те годы СМИ спекулировали, что якобы Джексон дал изрядную сумму денег родителям мальчика. Только что, через несколько дней после смерти певца, Джордан Чэндлер признался, что солгал под давлением своего отца, для того чтобы вынудить Джексона заплатить. Богатых и известных подстерегают подобные опасности на каждом шагу. Уже лет тридцать не может вернуться в Соединенные Штаты режиссер Роман Полански, где его обвиняют в изнасиловании тринадцатилетней модели.
Лживые показания Чэндлера бросили зловещую тень на образ наивного святого негритенка. Всю последующую жизнь он проживет как жертва, персонаж трагедии.
Между тем он трудится как проклятый. В 1991 году появляется альбом «Black and White», в 1995-м «History», в 2001-м «Invincible», в 2003-м Джексон выпустил сборник своих хитов «Number One»…
В том же году, в декабре, полиция провела обыски у него в Neverland. Я как раз тогда вышел на свободу из лагеря и видел куски репортажей об обыске по ящику. И начался для него Ад…
Его обвинили в совращении малолетнего мальчика, которого он якобы напоил вином. Его прямо обвиняли в семи эпизодах полового сношения с малолетним. Его преследовали фотографы и тележурналисты. Сам суд начался только в феврале 2005 года и закончился в мае. Несколько тысяч СМИ со всей планеты были аккредитованы на процессе. Присяжные заседатели признали Джексона невиновным. Он убежал в Бахрейн и скрылся там от любопытных глаз под покровительством сына правителя Бахрейна.
Судьба его в этот момент напоминает судьбу несчастного Оскара Уайльда, вышедшего из тюрьмы. Пусть он и был оправдан судом, но грязь и слухи прилипли к его имени. И он убежал. Его пытались искать и в Бахрейне, но в султанате Бахрейн журналистам не оказывали содействия. Впоследствии, в 2008 году Майкл поссорился с сыном султана, и тот потребовал от Джексона выплаты семи миллионов долларов, подал на Майкла в суд. Позднее шейх Абдулла (так его звали) отозвал свой иск, может быть, друзья помирились? Джексон лунной походкой легко входил во все подвернувшиеся ему сказки, и вот зашел еще в одну — в султанат.
Дальше идет угасание — и моральное, и физическое, и историческое — блистательного негритенка Майкла Джексона. Подобное угасанию в Париже Оскара Уайльда. Их судьбы похожи, потому что оба, в конечном счете, пали жертвами общественной морали: один в пуританской Англии за сто лет до Майкла, другой — в пуританской Америке.
В марте 2009 года пресс-служба Джексона анонсировала серию концертов под названием «This is it tour», то есть «Это конец-тур» (Это всё, Тур). Концерты планировалось начать 13 июля 2009 года, а завершить планировалось 6 марта 2010 года.
В апреле 2009 года газеты всего мира сообщили, что у Майкла Джексона обнаружен рак крови. Пресс-служба и личный доктор певца опровергли информацию.
25 июня сего года утром Майкл Джексон потерял сознание и упал. Случилось это в Лос-Анджелесе (Neverland был давно им покинут), в квартале Холмби Хиллз. Когда прибыла emergency-помощь, Майкл уже не дышал. Реанимация не помогла, хотя медики очень старались и сломали трупу несколько ребер. Негритенок ушел от нас в свой Neverland.
Хорошо понял этого посланца из Neverland простой русский мужик — охранник Ельцина. Опрошенный радио «Эхо Москвы» генерал Коржаков так вспомнил о своей встрече с Майклом в России в 1996 году: «Я подарил ему саблю и рассказал об истории этой сабли — семейной реликвии. Он вдруг расплакался от чувств. Потом эту саблю ему не разрешила вывезти таможня. И на таможне он расплакался. И сказал, что больше никогда не приедет в Россию… Он был очень наивный. У него было развитие маленького мальчика…» Либо святого, мой генерал, либо святого,— добавлю я.
Такой вот удивительный негритенок жил среди нас. И ведь добился своего: заставил мир принять его таким, какой он есть. И белым стал. А ведь все черные хотели бы стать белыми. Пусть они нам и не признаются.
Мои нобели
Я всегда скептически относился к премии Альфреда Нобеля, особенно к премии мира. Человек, посвятивший свою жизнь изучению пороха и взрывчатых веществ, изобретатель динамита, этакий деятельный Фауст, оставил свое имя и деньги, дабы награждать таких же злокозненных Фаустов… Тут следует дьявольский хохот. В 1978 году премию мира получили напополам Менахем Бегин и Анвар Садат — два президента. Один израильский, в прошлом — боевик, изобретатель автомобиля-ловушки, начиненного взрывчаткой. Египетский же Садат был поклонником Адольфа Гитлера. Отличная парочка! В 1990 году премию мира схлопотал Михаил Горбачев, более всех ответственный за развал Ялтинского мира, за войны в Европе, в частности в Югославии. Альфред, видимо, хохотал в гробу, и хохотал часто.
Мне привелось знать трех лауреатов Нобеля. Практически ровесник Иосифа Бродского, я, конечно же, знал его и периодически встречался с ним. Встречался в России, встречался в Соединенных Штатах. В России Бродский был осторожный, озабоченный своей растущей (после его процесса по обвинению в тунеядстве в 1964 году) славой, лысеющий молодой человек. Он очень старался не сползти опять в толпу, откуда его вырвала благосклонная к нему судьба. Я верю, что до процесса он был неуверенный в себе, вполне ленинградский поэт, он признавался мне позднее, что даже не был уверен в выборе профессии и одно время хотел заняться фотографией, как его отец. Слава подтвердила ему его призвание, она, держа Иосифа в пятне света, дала вдруг ему и талант. Его наиболее значительные поэтические вещи написаны после процесса и уже в эмиграции.
В Америке он предстал передо мной уже хитрым опытным стариком. Не по возрасту, а потому, что избрал быть стариком. То есть жизнь его не имела среднего возраста. В Ленинграде он был юноша, в Америке — старик. Старик из него получился неопрятный и неприятный. Желчный, злой и расчетливый. Он умело вел свои карьерные и издательские дела, умело подсекал русских писателей-конкурентов. Я всегда удивлялся, как ему дают девушки, впрочем, девушки дают и слесарям. Произнося Нобелевскую речь, Бродский был похож в своем фраке на пингвина. Когда кончилась его эпоха, а это, безусловно, мягкая эпоха холодной войны, стали не нужны и его пуританские, сухие «бухгалтерские» стихи. Скоро у него останется единственный читатель, но зато какой,— это я.
Чеслав Милош… Дело было в городе Будапеште, в самом конце восьмидесятых годов, я сцепился с ним не по поводу его стихов, а по причине его антирусской речи, неуместной на Международной литературной конференции. Уже старый, ему было под восемьдесят, внешне похожий на старого Арсения Тарковского, польско-литовский патриций этот вдруг с трибуны конференции решил еще раз ударить по российскому империализму, строго вычитал, глядя в сторону советской делегации писателей, нотацию за пакт Молотова — Риббентропа, за раздел Польши. Советская делегация не только молчала, но еще и кивала в знак одобрения. Я? Я включил свой микрофон (у нас у всех были микрофоны на пюпитрах) и решительно прервал мэтра. «Хочу напомнить уважаемому нобелевскому лауреату Милошу, что еще в 1935 году, то есть за несколько лет до пакта Молотова — Риббентропа, полуфашистский режим польских полковников подписал идентичный договор с Германией. И что в разделе Чехословакии охотно участвовала невинная Польша. Тогда ваша страна захватила индустриальный район Штецина, если не ошибаюсь…» О как они стали волноваться и кричать! Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» попросил меня выйти и дать интервью. Я бросил камень в их уютное болото. Объявили перерыв, потому что продолжать было невозможно. После перерыва от польской делегации выступил Адам Михник и вынужден был признать, что упомянутые мной деяния Польши — исторический факт. И что ему, Михнику, стыдно за эти страницы истории. По окончании конференции через несколько дней меня, Милоша и его жену отправили в аэропорт в одном такси. Милош был невозможно красивый старик. И жена у него была хороша. Не знаю, как он меня выдержал в этом такси.
В 1981-м я был приглашен в Корнельский университет. Там, на лекции моего старинного знакомого и исследователя моего творчества (лекция называлась «Тема окна в поэзии Пастернака») я познакомился с человеком по имени Роальд Хоффманн. Мы все после лекции уютно стояли в факультетском дворике, на отличной лужайке, с бокалами в руках, и пили «Шерри» — традиционный напиток профессорских коктейль-пати. Хоффманн довольно хорошо говорил по-русски, но беседовали мы по-английски.
— А чем вы занимаетесь?— спросил я его.
Он ответил, что он физик.
— В какой области физики вы работаете?
— О!— вздохнул он.— Мне удалось осуществить одно из безумных желаний человечества. Я преуспел в сжатии молекулярной решетки углеводорода до такой степени, что создал из угля искусственный алмаз…
Прожив большую часть моей жизни в бедности, я слушал его с удовольствием. Скорое обогащение всегда заставляло учащенно биться мое сердце. Я уже представил себе, что, узнав формулу Хоффманна, я изготовлю алмазы у себя на Rue des Ecouffes в Париже. На следующий день я посетил Хоффманна и его шведскую жену в их квартире. И только после этого я узнал от старушки-профессорши в высоких кедах, что Хоффманн получил за свое открытие сжатия решетки Нобелевскую премию. Как раз в тот год. Еще я узнал, что у него проблемы с CIA, что они его преследуют, а он с ними судится. Позднее я называл его «американский Сахаров».
— Вы читали Джона Фаулза?— спросил меня на прощание Хоффманн.
— Нет. А кто это?
— English writer. А Лоуренса Дюрелла?
— Нет.
— Я пришлю вам эти книги в Париж. Оставьте только адрес…
Хоффманн сдержал слово. Вскоре я получил по почте пакет с книгами. Затем еще один. И еще. Он взялся меня образовывать. Через несколько месяцев приехал он сам. И приезжал еще несколько раз. Но в декабре 1982 года в Париж приехала Наташа Медведева. И оттеснила от меня моих друзей. Женщины постоянно отвлекают нас от интересных знакомств.
Несчастливый Роман (Полански)
Когда я жил в Соединенных Штатах, с ним и случилась в 1977 году эта его история, повлиявшая на его дальнейшую жизнь, за что он и сидит теперь, горюет, в невеселой швейцарской тюрьме. То есть случилось так называемое «изнасилование» несовершеннолетней. В той жизни знаменитого и порочного режиссера (стоит поглядеть пару его фильмов), которую он вел, его, конечно же, окружали юные модели и юные актрисы, и, я полагаю, он не спрашивал у них паспорт, прежде чем лечь с ними в постель и заняться любовью. Годы были семидесятые, люди в Штатах совокуплялись так же легко, как стакан воды осушали, AIDS еще не напугали общество. К тому же американочки в хорошем своем климате, в изобильной стране, с хорошей пищей и отличными условиями жизни взрослеют рано. Так что в тринадцать и пятнадцать выглядят как во все двадцать. Ошибся возрастом.
Ему пришлось бежать во Францию, благо он там родился в Париже, от польских еврейских родителей и имел право на гражданство. В Америке писали о его побеге, однако газеты его особенно не осуждали, зная кинобизнес и нравы, которые там царят. Газеты поражались его несчастливой судьбой. Трагичность его судьбы была связана с женщинами. В 1968 году он женился на актрисе Шэрон Тэйт, а в 1969 году ее в его отсутствие зверски убили, беременную, члены секты Чарльза Мэнсона. То убийство он, возможно, сам себе накликал, потому что в 1968 году на экраны вышла его дьяволиада «Ребенок Розмари», кошмарноватый ужастик… Нельзя всуе расхаживать у дьявольского пламени, так как рано или поздно можешь свалиться в него… Свалился.
И вот через восемь лет после убийства беременной жены и друзей (его друзья-поляки гостили у режиссера), всего лишь через восемь лет,— еще один удар судьбы, и вновь причиной служит женщина! Обвинения в изнасиловании были позднее сняты с него, однако остались обвинения в сексуальной связи с несовершеннолетней. И он остался жить в Париже, невъездной в Соединенные Штаты Америки. Франция — прекрасная страна, но в ней не находится Hollywood. А ему нужен именно Голливуд, он чахнет без…
Во второй половине восьмидесятых я встречал его несколько раз в Париже в ночном клубе «Bains-Douches». Клуб открылся в 1987-м в здании «Бани-Души», которое было лишь слегка перестроено, сохранив экзотизм и безумие публичных бань. Например, можно было спуститься в бассейн без воды по лесенке: там стояли столики, сидели посетители. «Bains-Douches» не уступали в безумии знаменитой «Студии-54» в Нью-Йорке. В 1987–1988 годах из этого клуба шла прямая трансляция передачи «Полуночные бани». Я был приглашен на первую, познакомился там с председателем Национального собрания Франции Жаком Шабан-Дельмасом, а также с дебютировавшей в тот вечер певицей-подростком Ванессой Паради. Помню, голова у меня была забинтована, накануне в рабочем пригороде Парижа мне дали трубой по голове. Когда я покидал «Бани-Души», был пятый час ночи, туда вошел он, Роман Полански, в пластиковой парке, маленький, нахохлившийся, замерзший. И один. Несмотря на пятый час ночи, у входа стояла небольшая толпа, так что ему пришлось рассекать толпу. Они прошуршали вслед ему: «Полански… Полански…» Его почтительно пропустили, расступились перед ним охранники клуба. Он прошел понурый и безмолвный. Я подумал тогда, что он одинок и невесел. Знаменитости редко бывают в таком состоянии.
И вот он захвачен в плен странно диким швейцарским правосудием. Мы знаем, что у швейцарцев мощные банки, дорогие часы, отличный фирменный сыр и очень сильная валюта — швейцарский франк. Стать швейцарским гражданином ой как нелегко. Загадкой остается, почему они взялись мучать Полански. Ему семьдесят шесть лет, его мать погибла в Освенциме, беременную жену зверски убили… У меня появилась огромная неприязнь к Швейцарии, а у вас?
Love stories
Светлый Эрос, темный Эрос
Светлый — это когда оба молоды, она — сияющая и, естественно, наивно похотливая, она — нимфа, он — пастушок. Юный, нечесаные кудри, наглые глаза, вздыбленные от желания в паху штаны из грубой, ржаного цвета ткани, крепкие загорелые плечи. У нее длинные молочно-белые ножки, выпяченный животик, нежная попа. Нимфа и пастушок совокупляются при каждой возможности: на полянах, у ручья, в лесу, под лучами солнца, бьющими в глаза, в стогах. Светлый эрос — это эрос юных сверстников, первых Любовей. Светлый эрос — радостный.
Темный эрос представляется в нескольких классических парах. Мужчина — обязательно сатир, с рогами, либо кентавр с головой и торсом человека, но крупом животного. Мужчина темного эроса символизируется страшным самцом — козлищем. Я видел такое чудовище в 1997 году в Ставропольском крае, близ казачьего города Георгиевск. Он был посажен на улице на цепь. Ей-богу, он был страшнее не то что злобной собаки, он был страшнее тигра. Вонючий, поросший клоками седой, грубой шерсти, на сильных ногах, мощная башка со страшными какими-то, эпохи палеолита, рогами. Рога — в наростах, глаза, налитые кровью, он зловеще звенел своей цепью. Неподалеку была церковь. Прохожие жались узкой струйкой к этой церкви, там была протоптана тропинка, подальше от чудовища. Его привезли в это место для случки с местными козочками из какой-то дальней станицы. Представляю, что он делал с местными козочками…
В паре темного эроса мужчина — самец-сатир, страшный козлище, девочка-female может быть и козочкой-нимфочкой, и обильной телесами мамой семейства. Всё равно тон, высоту, характер страсти задает он, интенсивность похоти. Безусловно, к темному эросу относится его крайность — инцест. Между козлищем-отцом и нежной нимфочкой-дочкой. Еще один вариант крайности: сатанинская черная дама Лилит (заменяющая в паре седого кентавра, сатира, фавна) и пастушок. Если это инцест, то сатанинская Лилит-мама задает трагический, дьявольский тон, и нежный отрок, тычащийся в мамку своей трогательной нежностью, положения не спасает, их эрос черен, а по краям алеет адским пламенем. Темный эрос — чаше всего гибельная страсть. Он — грех по определению. Он невесел, однако крепок и тянет к себе. Простые пары, живущие в темном эросе, спасены от разрушения только своим неведением, ибо не ведают, что творят.
Оглядываясь на свою жизнь, вижу, что светлый эрос был у меня с Еленой, после темного эроса с Анной. Старше меня на шесть лет, телосложением — богиня Деметра, широкобедрая и невысокая, Анна была классическая Лилит, да еще безумна временами. (Правда, она была доброго нрава. Я написал о ней в книге «Молодой негодяй».) После темного эроса с Анной светлый с Еленой был для меня как поток радостных аполлонических солнечных лучей-стрел, мне было и светло и радостно. Все, кто наблюдал нас в те годы (все они, впрочем, давно умерли, поэты Цыферов, Сапгир, Холин),— все отмечали, какая мы были наивная, светлая, сияющая пара: пастушок и нимфочка.
С Наташей Медведевой эрос был светел в самом начале, а в последние годы был большим страданием. Период отношений пастушок — нимфочка был вскоре смыт ее алкогольными приключениями в мире мужчин. Образовались отношения Лилит и сатира, а они невыносимы. Не так давно у меня опять была подобная связь с некой двадцатитрехлетней сатирессой. Я не смог с ней существовать достаточно долго, связь продлилась четыре месяца. Я называл ее «Зверь».
В настоящем моем возрасте я обречен на темный эрос. Увы.
Диспетчер Людмила
Память — как большой черный мешок. Шаришь в памяти, обыскиваешь дальние углы, вроде всё знаешь в твоем мешке что лежит, но время от времени вдруг вытаскиваешь то, что никак не ожидал увидеть. Чего не ожидал найти.
Сегодня я обнаружил там Людмилу. Она появилась в моей странной жизни в 1995-м. Я баллотировался в Госдуму в северо-западном углу столицы, вот округа я уже не помню. Я выступал перед избирателями в библиотеках, и центрах социального обеспечения, и везде, где мог, потому что в несколько клубов и на несколько предприятий меня не пустили. Так, не пустили на табачную фабрику «Ява», поскольку ее продали англичанам, а англичане не хотели никакой агитации на их фабрике. В тот вечер я выступал в большой библиотеке в районе Савеловского вокзала. После встречи я торопился на следующую встречу с избирателями, она попросила меня подписать книгу. Я сказал, что мне некогда, и посмотрел на нее. Она была высокой молодой женщиной с медовыми глазами, бледным лицом и чувственным ртом. «Поехали со мной,— сказал я, взял ее за руку и повел к машине,— подпишу в дороге». Действительно, вечером я подписал ей книгу, правда, уже в квартире в Калошином переулке на Старом Арбате, я снимал ее и жил тогда один. Я подписал ей книгу уже после того, как мы стали любовниками. Я тогда не разводил сантиментов, не задавал женщинам вопросов, а брал их в руки. В большинстве случаев меня не отвергали.
Оказалось, что она работает диспетчером ЖЭКа в моем именно ЖЭКе, что на Старом Арбате. Ну, знаете, вы звоните в ЖЭК, или ДЕЗ, или как там называется сейчас жилищная контора, а там отвечает женский голос. Вот это Людмила. И вы ей сообщаете, что хотите, чтоб вам прислали слесаря. Или электрика. А жила она в подмосковном городе Королев. У нее было двое детей и муж, которого она без смеха отрекомендовала — «муж-фашист». Он был членом группировки, отколовшейся от РНЕ. Она сказала, что до сих пор никогда не изменяла мужу, и, вы знаете, я ей поверил. Она выглядела убедительно. Молчаливая, ласковая, совсем простая женщина с крупным горячим белым задом, иссосанными детьми сиськами и хрупкими плечами. Длинные тяжелые волосы, у корней чуть темнее, но было ясно, что она натуральная блондинка.
Ночами мы не спали. Она приходила после дежурства, снимала свою коричневой кожи куртку, узкую юбку, и мы потом всю ночь жили в постели. В постели ели, пили, любили друг друга, смотрели телевизор. Да, вот так, банально, телевизор. Однажды мы целую ночь смотрели фильм «Майская ночь, или Утопленница». Было очень страшно смотреть, как жуткая панночка пыталась достать бурсака Хому Брута из мелового круга, как летал со свистом гроб с панночкой, как потом привели Вия. Мы от страха прижимались друг к другу как дети и тихо постанывали. Будучи старше ее лет на двадцать минимум, я всё же чувствовал, что она пытается относиться ко мне как к еще одному ребенку, первому по старшинству. Я такого отношения очень не люблю, потому я порой кричал на нее. Она слушалась.
Потом ее побил муж, кажется, за то, что она оставила детей на несколько дней одних. В их семье было сложно, я так и не понял, жил ли муж с ними либо приходил время от времени. Она не очень жаловалась мне на мужа, скорее признавала себя виновной в том, что да, оставила детей, мальчика и девочку, одних. Правда, там была еще ее мама.
Как-то я взял Людмилу с собой на мероприятие во Дворце молодежи, там, где метро «Фрунзенская». Она пошла, в своей кожаной куртке, в узкой юбке, в невысоких таких ботиках на кнопках, скромная и чувственная. Как женщина из старого французского фильма. Что там было во Дворце молодежи, я отлично помню: там на сцене стреляли из пистолета, соревновались VIP-персоны. Помню, что стреляли Хакамада и Жириновский, там был буфет и какие-то призы. Когда мы с Людмилой вошли во Дворец, на входе нас встретили десятки телекамер и еще больше фотографов. Все они набросились на нас. Она очень смущалась. А еще больше засмущалась и попыталась выбраться из круга репортеров, когда я на вопрос, кто ваша девушка, сообщил репортерам: «Ее зовут Людмила, она работает диспетчером в ЖЭКе, там, где я живу».
Репортеры весело заулыбались, решив, очевидно, что Лимонов вот стебётся таким образом. Но я-то правду сказал. Вечером она простила меня, потому что я объяснил ей за час с лишним, что стесняться того, что она работает диспетчером, не следует. Что она красивая юная женщина, и пусть все они идут… ну, куда подальше.
На самом деле она не была простой женщиной. Ей снились страшнейшие и сложнейшие сны. Такие сны простой смертной сниться не будут. Так, один из снов, она его видела не один раз, выглядел так: Людмила сидит на какой-то деревянной поверхности, заливаемой водой, а вокруг, в какую сторону ни погляди,— бескрайний океан. Она сидит на корточках совершенно нагая. (Мотив наготы, к месту будет сказано, присутствует в женских снах довольно часто. Недавно Катя Волкова мне рассказывала о своем типично актерском сне. Она едет в трамвае и вдруг понимает, что она совершенно голая. С ужасом выбирается из трамвая, забегает в какой-то первый попавшийся дом, стучит в квартиры, просит дать ей одежду, но ей отказывают.)
Осень 1995-го мы, как говорят, «протусовались» вместе. Мне нравилось управлять ею и даже нравилось то, что она крупнее меня и у нее дети. Я даже предлагал ей брать детей ко мне, если ей не на кого их оставить. Пусть играют в соседней комнате. Правда, она никогда не приводила детей, хотя, застенчиво улыбаясь, со мной соглашалась. Расстались мы, потому что ее затмила одна дочь художника, коварная и развращенная московская девочка двадцати двух лет. Устоять перед коварством и развращенностью я не смог. Я стал влюбленным болваном по вечерам переводить своей новой подружке песни Эдит Пиаф, выплескивающиеся из динамиков моего музыкального центра, я пил с ней красное вино ночи напролет, и хотя никогда не сказал Людмиле, что влюбился в другую, но она, видимо, догадалась и исчезла из моей жизни так же, как появилась. Как-то, нетрезвый и сентиментальный, я позвонил в ЖЭК и спросил Людмилу.
— Она у нас больше не работает,— сказали мне.
«Ты хороший товарищ, красавица…»
Был август, а я уже сидел в тюрьме с апреля. Рабочий день уже закончился, а автозак — раскаленная тюрьма на колесах, всё колесил по московским улицам, собирая заключенных из судов. Такая у ментов натура, объяснимая их жадностью. Они экономят на нас бензин, потому пускают как можно меньше автозаков на московские улицы, прокладывая маршруты таким образом, чтобы загрузиться нашими телами до отказа. То, что зэки, как дохлая рыба, еле дышат в своих двух «голубятнях» и в «стаканах», ментов не трогает, у них нелюдские души. К самому концу дня мы еще долго сидим, закрытые в автозаках, во дворе Бутырской тюрьмы. Там они сортируют нас уже потюремно. Из-за ментовской жадности мы попадаем в наши «хаты» после полуночи. Сэкономленный бензин они продают налево.
Этих девок мы подобрали в «Серпах». Так называется на тюремном языке психиатрический институт имени Сербского. Их было три. Одна, глаза наши прилипли к ней, с крутыми бедрами, затянутыми в белые штаны, с промытыми каштановыми волосами до талии, высокая, как манекенщица. Лицо, правда, красивое, но звериное. С большими двумя баулами бодро влезла. Мент, сидящий в предбаннике с плохоньким автоматом, конечно, посадил такой кусок рядом с собой. Она теранулась, садясь, о него бедром, а мы позавидовали. От нее на нас пахнуло смесью, может, духов или дезодоранта, может, шампуня. Но сквозь этот запах парфюмерии едко пахнуло бабьим летним потом и еще чем-то. И мы задвигали ноздрями, бедняги, каждый вспомнил любовь летом. Женский пот — такая вдохновляющая эфирная дурь, и мертвого подымет. Из «голубятен» те, кто сидел в глубине, потянулись к «решке». Что такое голубятня? Автозак по длине разделен на два отсека. Каждый со своей «решкой» (решеткой) и отдельными замками. Обычно в каждой «голубятне» везут десяток зэков. Но могут забить и пятнадцать, а утрамбовать — и больше. Еще в автозаке обычно есть пара «стаканов» — это железные ящики на одну персону. Туда обыкновенно сажают тех, кому полагается изоляция, особо опасных или, вот, девочек. Я сказал, что на «Серпах» их село три. Ну да, двух посадили в «стаканы». Одна была вдребезги больна. Опухшее лицо, слепые глаза статуи, стрижка под ноль, другая — совсем старушка. Эту же, с крутыми бедрами, звали Лена. Она сама сказала, когда мы спросили.
В автозак я садился первым, потому сидел у «решки». Я смотрел на нее. Она была как злая кобыла. Зрачок коричневый, белок кровавый, с синевой, лицо темное, черты крупные. Через «решку» она была в метре от меня.
— Что, не вышло?— спросил из-за моего плеча Костя. Мы уже с ним ездили часа четыре, обо всем успели поговорить.
— Не вышло,— согласилась она.— Но ничего, у меня и так всего два года.
— А статья какая?— спросили из глубины голубятни…
— Сто одиннадцатая. Сбили мне адвокаты.
— «Перебили» надо говорить,— поправил Костя.— А была сто пятая?
— Точно,— сказала она.— Как ты понял?
— Чего тут понимать. Как девка красивая, так сто пятая — убийство. А ты загорела где?
— Крем это такой, тон.
— Лен, а Лен, дай хоть пальчик?!— позвал кто-то за моей спиной.
— Я ща тебе дам кое-что,— сказал мент негромко. Незло.
— Кого же завалила?— поинтересовался Костя.
— Кого? Любимого человека, конечно. Сволота был жуткая.
— А у тебя, конечно, были смягчающие?
— Одни смягчающие,— она усмехнулась.— Мягче не бывает.
Все помолчали.
— Лен, а Лен, встань, мы на тебя посмотрим?!— попросили из другой «голубятни». Им было ее видно вкось, впрямую им был виден помятый неказистый мент.
Она было приподнялась.
— Сиди!— сказал мент.
— Старшой, разреши, женщину год не видел, а сегодня на пятнашку осудили, дай хоть посмотрю, какие они бывают. Ничего плохого,— сказал тот же голос, что просил ее встать.
— Ну да, старшой, разреши!— вступился второй голос.
— Ноги затекли, я встану?— сказала Лена. И встала. Мент ничего не сказал, только заворчал, как медведь.
На нас пахнуло ею. Теперь до меня дошел, помимо дезодоранта и пота, и другой ее запах. Ну как бы это деликатно, без пошлости, ну, женщины запах. Отчетливый такой. Может, у них там на «Серпах» мыться их нечасто водили. А может, у нее месячные начались. Но от нее пахло бабой! В этот момент я вспомнил (не вспомнил на самом деле, но в моих ноздрях вспыхнули!) запахи моих любимых женщин, каковые у меня были сквозь годы, и законных моих и случайных связей… Боже мой! Это было то, оно, облачко запахов. Более всего запахи случайных связей.
— Какая ты красивая!— воскликнул сзади тот, кто просил у нее подать пальчик. И мы все в нашей «голубятне» вздохнули. Потом вздохнули в соседней. А Лена обернулась округ себя и подглядела на нас через плечо. Постояла. Отставила стройную ногу в узкой белой брючине и ягодицу — в нас! Как завзятая опытная манекенщица. Потом обернулась другой ягодицей к нам и поглядела через другое плечо. Взмахнула волосами. Мы ахнули.
— Ну хватит тут «булками» трясти!— разозлился мент. Вскочив, отпер «стакан», вытолкнул оттуда старушку и затолкал Лену. Хрустнул замком. А «булки» — по-тюремному — ягодицы.
— Изверг,— сказали сзади.— Ничего человеческого. Сказано — «мент».
— Кто это сказал?! А ну выходи!— Мент встал и тюкнул прикладом по нашей решке.
— Да никто не сказал. Всем и так ясно,— спокойно резюмировал голос.— Ничего человеческого…
Мент заворчал и сел. Если мы задыхались, то ему было жарко. Поленился нас репрессировать.
Некоторое время все молчали. Многие закурили.
— Лен, а Лен?!— позвали из другой «голубятни».
— Что?— отозвалась она глухо из «стакана».
— Ты хороший товарищ, красавица. Пусть у тебя всё будет хорошо.
— И у вас, пацаны…
Автозак въехал во двор Лефортовской тюрьмы, и меня высадили. Была уже полночь.
Retro love story
Она курила, чуть прихрамывала, ее слушались тюренские урки, она ходила с ножом. Ее звали Людка. Она была старше меня на год и была в меня влюблена. А я стеснялся ее. Мне было лет шестнадцать, вряд ли больше. Она была жгуче-черная, с кошачьими глазами-сливами, нахальная, а мне нравились нежные блондинки. Она ко мне навязывалась. Она искала меня на танцплощадке у клуба «Победа», приезжала за мной в клуб «Стахановский», она приводила меня домой пьяного и ждала меня непрошеная, под снегом и на ветру. Иногда я думаю, что мне нужно было на ней жениться, потому что в последующие пятьдесят лет у меня не было female надежнее и вернее Людки. Но тогда я ее стеснялся.
В Харькове есть район Тюренка. Частные дома сгрудились на холмах вокруг пруда с минеральной водой. Когда-то здесь было имение помещика Тюрина. Тюренские ребята считались в мое время самыми хулиганистыми и опасными в Харькове. Застрявшие между городом и деревней, они дрались ножами, а при случае могли и зарубить топором. Людка жила на Тюренке. И не только жила, но и пользовалась уважением и авторитетом. При этом будучи еврейской девочкой…
Тогда еще девушки не носили брюк. Она, как мусульманская женщина, под сарафаном с большими карманами носила шаровары — «треники», но не бесформенные мужские, но такие ловкие, подшитые. И мужские ботинки. Зимой на ней появлялось мужское пальто.
Каждую субботу я с толпой салтовской шпаны посещал народные гулянья на площади у кинотеатра «Победа». Летом у «Победы» в парке работала танцплощадка. В какое бы время я ни появился у «Победы», обычно уже подвыпивший, такова была традиция, пацаны тотчас оповещали меня: «Эд, тебя Людка ищет!». В голосах некоторых пацанов звучала, как мне казалось, насмешка. В голосах других слышна была зависть. Людка прилипла ко мне, как тогда грубо говорили, «как банный лист к жопе», и не хотела отлипать. Почему? Оглядываясь назад, вижу две причины. Первая: я был, что называется, good looking boy (употребляю английский, чтобы не звучать слащаво). Худущий, слегка татарский, шпанистый, смахивающий одновременно и на уже погибшего только что Джеймса Дина и на еще не родившегося отечественного Цоя. Вторая причина: я писал стихи. И охотно читал их. Людке стихи нравились очень. Когда я продрался сквозь пары крепленого «биомицина» («бiле мiцне» — с украинского «белое крепкое») и жуткого портвейна наших первых встреч, я услышал, что у Людки есть старший брат — известный поэт, и живет он в Ленинграде. Людка читала брату мои стихи, и брат похвалил стихи. А третья причина: Людка, видимо, меня искренне любила. И умилялась мне, пьяному парнишке, всем своим маленьким жестким сердцем под сарафаном. Почему я знаю? Дело в том, что, хоть и пьяный, я часто ловил на себе ее взгляд, восхищенный, заботливый и заискивающий. Как мы познакомились? Мы оказались записаны в клубе «Победа», и я, и Людка, в некую уже забытую мною «секцию» чего-то, досуга, может быть. Помню, что дело касалось подростков, оставшихся на лето в городе. Там мы и познакомились, я — пьяный, и Людка, подбрасывающая нож. Те еще подросточки! Впрочем, Светлана Сергеевна, приветливая женщина лет сорока, нас таких вовсе не пугалась. Она находила нас симпатичными и смешными. А мы друг другу понравились. И еще ближе познакомились в однодневном походе в Старый Салтов, куда мы ездили на автобусе. Светлана Сергеевна и наша сборная группа городской скучающей шпаны из трех стыкующихся у «Победы» районов города: Салтовки, Тюренки и Плехановки. Возвращаясь из похода вечером, мы сидели в трамвае с Людкой обнявшись, не потому, что между нами что-то появилось. Просто она напилась со мной портвейна из фляги, и мы понадобились друг другу как опора. Светлана Сергеевна сказала, что мы подходим друг другу.
Старшие ребята, Кот и Лева, оба отсидели за драку с милиционерами, сказали: «Эд, она горбоносая, и с ней вся Тюренка спала». Старшие ребята для меня много значили, им было 22 — Коту и 23 — Леве, я им верил. Я стал сторониться Людки… Но она как банный лист не отлипала.
Я присмотрелся к Людкиному носу. Действительно, у нее была маленькая горбинка на носу. Еле заметная. Как-то пьяный (она воспользовалась тем, что я пьян, чтобы целоваться со мной) я бросил ей: «Ты со всей Тюренкой спала, Людка!» «Не спала я, Эд, я вообще целкой была до лета. Те, кому я не дала, такие слухи и распространяют…» Людка грустно смотрела на меня при этом. А потом мы стали, как тогда говорили, «обжиматься», то есть тесно обниматься и тереться друг о друга. Дело было в беседке детского сада, куда мы забрались, чтобы пить «биомицин». Груди были довольно большие, и Людка довольно постанывала. Потом мы поочередно лежали друг на друге, но у нас ничего так и не было. Видимо, она мне не подходила на уровне клеток, потому что чисто животное возбуждение было, а вот моего индивидуального желания не было. Я уже знал, как это делается, невинность потерял за год до этого в Алуште с пьяной старшей девкой за автобусной остановкой летней южной ночью. Но с Людкой мы обжимались, перекатывались, я мацал груди, ляжки и влезал рукою куда ее мама не велела, но не «барались», как тогда говорили, не трахались то есть. Встала она с пола той беседки грустная. Но еще с год ходила за мною тенью, искала на танцах, обнимала, отводила домой пьяного, стояла в тени кленов, лузгала семечки, ожидая меня. Общество считало, что мы «бараемся» с Людкой.
Потом в моей жизни появилась Светка. Светка была похожа на куклу, длинноногая светло-русая тонковолосая дочь одинокой, всегда густо накрашенной женщины. К Светкиной маме толпами ходили мужики. На этом основании в поселке Светкину мать считали проституткой, тогда как она всего лишь была эмансипированной женщиной, работавшей в заводской администрации «Серпа и Молота». У Светки репутация была чуть лучше, чем у матери, но даже если бы была хуже, я бы всё равно влюбился в нее.
А я влюбился.
Ноябрьские праздники я, как тогда говорили, «гулял» со Светкой, в лучшей компании на Салтовке, у Сашки Леховича — сына директора строительного управления. 6 ноября мы ходили закупать продукты, несколько мальчиков и девочек, в том числе и Светка под руку со мной. У гастронома номер семь стояла в компании тюренских Людка, в мужском пальто и кепке. Они распивали бутылку, передавая ее из рук в руки. Прямо из горла. Людка увидела меня и демонстративно закинула руку на плечо Тузика — предводителя тюренских. И повисла на нем. Я полагаю, она тогда привела тюренских к гастроному номер семь специально. 6 ноября им нечего было делать в нашем районе на Салтовке, довольно далеко от их среды обитания. Пришла бросить мне вызов.
Больше я ее не видел. В 1989 году, когда мне впервые разрешили приехать в СССР, я побывал и в Харькове. Среди прочих сведений о моих друзьях и подружках я узнал, что Светка вышла замуж за начальника цеха, а Людка… «Эдик, не поверишь, Людка звонила мне из Германии, очень интересовалась, как ты, и просила твой адрес. Сказала, что до сих пор тебя любит… Адрес я не дала,— сказала мать.— Мало ли чего…»
Безусловная любовь
Первое, что приходит на ум в связи с unconditional love, это судьба двух девушек: Евы Браун и Клары Петаччи, разделивших с их ужасными супругами их последний час, и смерть. Хотя обе могли этого не делать. Ева приехала в Берлин в марте 1945 года из Мюнхена в машине, попадая под обстрелы союзной авиации, с единственной целью: умереть с фюрером. Старый, сгорбленный, разрушенный лекарствами злодей оценил жест возлюбленной, женился на ней за день до их общего самоубийства, случившегося 30 апреля 1945 года. Четырьмя днями раньше у стены старой виллы вблизи Неаполя встала рядом с дуче под огонь итальянских партизан Клара Петаччи, его возлюбленная. У Клары была репутация легкомысленной актриски. Почему она не ушла, как ей сказали партизаны, а предпочла погибнуть рядом со старым любовником? Unconditional love или мощное чувство Истории, влияние мифов великолепного Рима с его героическими женщинами прошлого? Мы никогда не узнаем. Хочется верить, что unconditional love.
Следующее, что приходит на ум,— это судьба моих родителей, проживших вместе шестьдесят два года. Такие себе Филимон и Бавкида. Урны с их прахом замурованы в крематории на окраине Харькова, в Украине. Из соснового массива доносится горький запах сосен. Растут в аллеях крематория туи, голубые и мясистые. Вмурованы рядом две фотографии: хмурого лысого старика и моложавой, улыбающейся матери, хотя они умерли в одном возрасте, с дистанцией в четыре года. Отец умер в 2004-м, мать в 2008-м. Оба умерли в марте. Из-за этого общего месяца смерти гравировальщик крематория допустил символическую ошибку. Когда нужно было смонтировать фотографию матери рядом с фотографией отца, то пришлось не добавлять под фотографией надпись, а гравировать ее заново. В результате у обоих моих родителей оказалась одна и та же дата смерти, составленная из двух разных дат: года и дня. Год взят смерти матери, а число отца: 25 марта 2008 года. Получилось, что они жили счастливо и умерли в один день.
Они-таки жили счастливо, хотя не умерли в один день. Видимо, они наслаждались обществом друг друга. Во всяком случае, до тех пор, пока отцу не надоело жить, и он переложил заботу о своем теле на плечи матери. Случилось это вскоре после того, как меня освободили из лагеря летом 2003 года. Видимо, он достиг своей психологической цели: единственный скандальный сын опять оказался удачливым и вышел на свободу. Тут-то отец и лег. Нет, у него не было никакого заболевания. Он просто прожил всё, что мог, и больше жить не хотел. А заняться ему было нечем. Это у больших творцов, у artists и интеллектуалов всегда есть занятия: творчество, мышление, клокочущие или затухающие идеи, а у простых людей, а мой отец был талантливым, но простым человеком, у них есть лишь физическая жизнь. А свою физическую жизнь он продолжать не хотел, ему надоело. От питания он не отказывался, жена Раиса — моя мама — приготовила ему десятки тысяч борщей и котлет за их совместную жизнь, потому он ел по инерции и даже с аппетитом. Но вставать не хотел. И однажды перестал выходить в туалет. И тут безусловная любовь моей матери к нему дала сеть мелких трещин…
Она, видимо, держалась, прежде чем пожаловалась мне на свою жизнь. Пожаловалась все-таки, заплакала по телефону, когда рассказывала мне о беспомощном отце, с тонкими ногами валявшемся на полу, ягодицы измазаны дерьмом, он не дошел до туалета. Она причитала, что отец, «а ведь он был такой красивый, Эдик, он превратился в полутруп!». Я отвечал ей, что готов нанять отцу сиделку.
Мать гневно отказалась: «Я не хочу, чтоб мой позор видели чужие». Я пытался уговорить ее по телефону, я даже приехать к ней не мог, украинские власти запретили мне въезд в Украину. «Отец твой — офицер, а я — жена офицера,— я не хочу, чтобы наш позор вышел из квартиры…» В конце концов, таская его в туалет, она надорвала себе позвоночник, и у нее начались боли. Уже с надорванным позвоночником она придумала себе облегчение: сосед Сашка вырезал ей сиденье стула. Под стулом находилось ведро с водой. Она научилась сволакивать мужа прямо с постели на этот стул.
«Вечная любовь, вечная любовь… — прохрипела она мне однажды по телефону,— я должна теперь по полдня лежать из-за болей в позвоночнике. Вот она, вечная любовь — волочить беспомощного мужа, отмывать от дерьма в ванной!» Она звучала очень горько. Она винила его. Она спрашивала у меня, почему, ну почему он позволил себе отказаться от жизни, свалив свое физическое существование на нее? Я объяснил ей. Я сказал: «Вы так долго жили вместе, он давно считает тебя частью себя. И то, что он полностью передоверил физическое обслуживание своего тела тебе, значит, что он считает твое тело своим! Если это и эгоизм, то эгоизм на уровне клеток».
Ее это мое объяснение не утешило.
Потом он умер. Я не смог добиться разрешения Украины приехать на его похороны. Пересечь их драгоценную границу. Правда и то, что его похоронили спешно, уже на следующий день после смерти. Вероятнее всего, из экономии, поскольку за содержание в морге нужно платить. Я бы заплатил, пока украинские власти решали бы мой вопрос, но мать спешно кремировала отца. Так спешно, что даже мои посланцы: два нацбола, мужик и девушка, не успели на похороны, успели только на поминки.
Потом отец стал приходить к ней ночами и стучаться в дверь: «Раечка, я пришел за тобой, пойдем»,— говорил отец.
«Но я хитрая,— объясняла мне мать по телефону.— Я ему не открыла. Меня научили не открывать, сказали, он заберет тебя с собой, если откроешь. Не открыла, но утром жалела, он так уговаривал…»
Она быстро простила ему его слабость последних лет. Он опять стал для нее самым красивым, самым хорошим, самым любимым, ее мужем. «Мне повезло в жизни, что я встретила твоего отца. Таких людей больше нет»,— говорила она мне по телефону. От недели к неделе, от месяца к месяцу всё сильнее становилось ее желание уйти к нему. Она не сомневалась, что он ждет ее. Она ездила к нему в колумбарий и разговаривала с ним. И передавала содержание разговоров мне. Она передавала мне от него приветы! Я не пытался даже заикнуться о сомнении в реальности ее разговоров с мертвым отцом и в реальности его приветов. Я интенсивно размышлял об этой странной паре, о своих родителях, проживших большую часть жизни без меня и вообще без сколько-нибудь заметного участия других людей. «Что они всё время делали?» — думал я. Ну, секс у них давно уже, наверно, прекратился, как обычно бывает у простых людей. Это непростые, к коим я отношу и себя, живут своей яростью и долго пылают энергией страстей. Пикассо в шестьдесят три имел жену и не уставал видеться с тремя молодыми любовницами. Что делали мои родители последние лет двадцать? Мама готовила борщи, котлеты и салаты. Они питались три раза в день. Смотрели телевизор, читали газеты. Разговаривали. На гитаре отец играть давно перестал. Когда я приезжал последний раз к ним, гитара была покрыта толстейшим слоем пыли. Что они делали, в самом деле? Они любили быть вместе.
Когда она умерла через четыре года после него, как и он, в возрасте восьмидесяти шести лет, некие высшие силы, наблюдавшие свыше шестидесяти лет их ангельское совместное существование, подтолкнули под руку гравировальщика Харьковского крематория, и он сделал так, что они умерли в один день.
А еще в связи с unconditional love я, конечно же, обращаюсь к моим деткам. Вчера я ездил к моим деткам, внукам странной пары Раисы и Вениамина. По случаю лета мои малые детки живут за городом, вместе с их матерью, актрисой. Я их называю «моя братва». Когда я вхожу в калитку, ко мне бежит златокудрый принц — сын мой Богдан, а за ним ковыляет, старательно поддерживая равновесие, моя годовалая дочь, рыженькая упрямая Сашка. Богдашкин прыгает в мои объятия, а Сашка добирается до меня чуть позже. Мордочка у нее измазана в земле, она любит тащить в рот камни и растения. У нее есть уже четыре зуба. Сашка никогда не плачет, она, как и Богдан,— существо абсолютно позитивное. Это мои первые дети. Я их родил в совсем уже неприличном возрасте. Богдан родился, когда мне было шестьдесят три года, а Сашка — когда мне было шестьдесят пять лет. Сознаюсь, что до их рождения я как-то не верил, что способен любить моих детей безусловной любовью. Но вот, оказалось, могу. Я думаю, что люблю их намного больше, чем мой отец любил меня. Я, если доживу, буду им всегда говорить, как я люблю их сильно. Это нужно человеку, чтоб его любили.
Сашке я привез три куклы. Две небольшие и одну крупную. Потому что выяснилось, что у Сашки нет ни одной куклы и она играет с машинками Богдана! У девочки нету куклы?! Нонсенс, сказал я себе и поехал с охранниками в «Детский мир» на улице 1905 года. Один из охранников, Олег,— опытный отец, его девочке уже шесть лет. Олег уже ездил со мной к детям и заметил однообразный ассортимент игрушек. По его слову я накупил ванночек и ведерок, крокодилов, уточек, различного размера рыб, всяческих простых разборных игрушек, развивающих у ребенков сообразительность. Богдану я закупил крупный пистолет, стреляющий очередями и одиночными.
Уже возле калитки Богдан получил свой пистолет. Он схватил его с такой страстью, что из пистолета вывалились батарейки, и мы стали искать их в траве. Нашли. Моя жена вынесла из дома заспанную Сашку, я ее взял на руки и понес демонстрировать ей кукол. Прибежал Богдан и заявил, что куклы тоже ему. «Мое! Мое!» — кричал он и не хотел слушать голос разума, когда я увещевал его, объясняя, что куклы — это игрушки девочек, а мальчику, ему,— подобает пистолет. Кукол Богдан в покое не оставил, однако мужской инстинкт в нем всё же в конце концов возобладал, и он вернулся к пистолету.
Из дому опять вышла моя жена, вынесла надувной бассейн. Трое моих парней-охранников по очереди надули бассейн, а я стал наливать в него воду. Шланга в хозяйстве не оказалось, поэтому пришлось наполнять его с помощью пятилитровой пластиковой бутыли. Дети как саранча полезли в бассейн. Сашка, пыхтя, пыталась вывалиться в бассейн в одежде, а там уже плескался энергично Богдан. У маленького злодея густые ресницы-щетки, зеленоватые огромные глаза, и с золотыми кудрями в ансамбле получился принц, и никак иначе не скажешь, глядя на него. Боязно за него, такого красивого.
Такие вот внуки у Вениамина и Раисы. Отец умер за два года до рождения Богдана, но моя мать всё же успела наглядеться на внука, ведь жена моя возила сына к бабушке в 2007 году, еще грудного.
Вместе они умеют весело визжать на высоких нотах. Оказавшись в воде, брат и сестра стали визжать, как две маленькие испорченные скрипки. Даже уши у меня, отца, задребезжали. Сашка вылезла из воды раньше, ее одели в старую рубашку Богдана, и жена начала кормить ее картошкой с мясом. Сашка поесть любит. Из ревности, видимо, к Сашкиной тарелке немедленно присоединился посиневший от холода Богдан. Как птенцы, они по очереди разевали рты. При этом тащили друг у друга из рук кукол, а куклы падали в траву. Всё это происходило за садовым столом, зажатым между двумя садовыми лавками.
Потом я качал их по очереди на качели. Богдан требовал: «Сильно! Сильно!»,— и никак не хотел слезать. Сашка в панамке ждала своей очереди, стоя опасно близко к качели с Богданом. Когда всё же ненасытный сын мой устал, и я его вытащил из качели и стал качать Сашку, дочь блаженно осклабилась треугольничком рта. «Червячки мои милые!» — думал я. Охранники скромно сидели в отдалении у большого камня, благородно не мешаясь в общение отца с детьми.
Я сел на дрова, вынул из кармана фляжку и сделал глоток. Во фляжке у меня портвейн. Подошел Богдан, сел на полено и пролепетал: «Ты не бойся, я с тобой!»,— чем вызвал мое безграничное удивление. Это уже второй случай, когда мой маленький сын, ему два года и восемь месяцев, произносит ко мне эту фразу. С чего он взял, что я чего-то боюсь? И где он позаимствовал эту фразу? Поразмыслив, я пришел вот к какому выводу: Богдан не боится ничего, смело засовывает руку в пасть собаке, отбирает игрушки у детей старше его в два-три раза, но он боится мультяшных привидений! Он бежит от экрана в угол и боится даже обернуться. Он надувает щеки и пищит: «Они страшшные! Они стррашные!» Я думаю, что в такие моменты либо мать, либо старшая сестра Лера (дочь моей жены от другого брака) успокаивали Богдана словами: «Ты не бойся, я с тобой!». И он теперь повторяет эту фразу мне. Хотя я и не боюсь привидений. Или боюсь? Может быть, и боюсь. Совсем недавно я избавился от черепа, прожившего со мною под одной крышей пару лет. Мне стало казаться, что череп стал распространять на меня свое влияние. Он у меня находился на шкафу в большой комнате и пустыми глазницами был нацелен на дверь комнаты. Вначале я стал бессознательно закрывать дверь на ночь, а сплю я всегда в моем небольшом кабинете; позднее я обнаружил, что всё реже и реже бываю в большой комнате, а когда покидаю ее, то у меня, что называется, появляется «мороз по коже». Всё это, решил я, свидетельства того, что череп (это череп женщины, как-то во сне, в первую же ночь ее пребывания у меня, череп пытался душить меня, и когда я ее победил во сне, она представилась мне: «Майя»!) набрал в силе и влиянии. Может быть, он соединился с некими враждебными мне силами? Почем я знаю? Поэтому я положил череп в коробку, и охранники вынесли его прочь из квартиры… Богдан что-то знает, чего не знаю я. Он пищит, ободряя своего отца, недаром.
Чтобы я мог уехать от Богдана, жена уводит его кормить, чтобы положить его спать. Если я буду уезжать на глазах у него, он душераздирающе будет повторять: «Папа, папа, ты куда? Папа?!» У него ко мне unconditional love. Между тем ему придется нелегко. Ведь хочет он этого или нет, он унаследует от меня титул. Так же как и Сашка. Я не граф, но я хуже, я Лимонов. Это как быть Стюартом в Англии после казни короля.
Что с ними будет? Совсем недавно мне приснился сон. Я сижу в первом ряду в большом зале. Перед залом на сцене стоит моя девочка Сашка в узком черном платье с блестками, на каблуках, рыжие волосы у нее. Напоминает она молодую Патрисию Каас, и по всему я понимаю, что она будет петь. Я сижу и очень ею горжусь. Я, я отец ее! Хочу я закричать. И просыпаюсь!
На правой руке на «обручальном» пальчике у Сашки родимое пятно, как раз на той фаланге, где надевается кольцо. По всему выходит, что обручится она с каким-нибудь огненным персонажем. Может быть, из того ряда, что и два старых злодея, с трагических девушек которых я начинал мой текст об unconditional love.
Наша юная праматерь Ева
Она стоит под условным деревом, узкоплечая, бледная, голенькая, с внушительными бедрами, наша Праматерь всех. Протягивает глуповатому Адаму запретный плод. Стоит на тысяче полотен, упомяну лишь старшего Кранаха, Ева — важнейшая фигура человечества. Запретный плод чаще всего изображается яблоком. Обвившись вокруг ствола Древа Познания, вытягивает головку к Еве Змей. Вот она — сцена грехопадения. У Адама редкая бородка и, да, подчеркну еще раз, у него простоватый вид. А Ева смело протягивает Адаму уже надкусанный ею плод. С этого мы начались. Смелая жена и глуповатый муж.
Немного предыстории. Сцене, где Ева протягивает мужу плод, предшествует сцена, где Адама еще нет, вот как она описывается в 3-й главе «Книги Бытия».
«А Змей был хитрее всех полевых зверей, которых сделал Яхве-Бог. И он сказал женщине: «Разве сказал Бог: «не ешьте от всех деревьев Сада?»».
И сказала женщина Змею: «плоды деревьев Сада мы едим, а плоды того дерева, что посреди Сада, сказал Бог: «не ешьте его и не касайтесь его, чтобы Вы не умерли»».
И сказал Змей женщине: «…умереть вы не умрете, ибо знает Бог, что в день, когда вы поедите от него, откроются ваши глаза, и вы будете как боги, знающими добро и зло»».
Далее идет переход к сцене, которую изображают полотна человечества, с которой я начал мой текст: «И увидела женщина, что хорошо это дерево для еды и что вожделенно оно для глаз, и приятно это дерево на вид, и взяла плодов, и ела, и дала также своему мужу, и он ел с нею».
Что же, собственно, совершила смелая наша прародительница? К чему искусил Змей Еву? Самое распространенное профаническое мнение, самая популярная трактовка: отведав плод, Адам и Ева испытали плотское вожделение друг к другу, и результатом этого плотского вожделения являемся все мы — человечество.
Однако почему Создатель так жестоко наказал всех участников сцены в Райском саду? Адама и Еву изгнал из рая? «В муках ты будешь рожать сыновей, и своему мужу ты покоришься, и он будет властвовать над тобой»,— приговорил он женщину. Человеку Создатель бросил: «В муках ты будешь питаться все дни своей жизни… и ты будешь есть полевую траву».
«В поте своего лица ты будешь есть хлеб,
пока не вернешься в землю, ибо из нее ты взят,
ибо прах ты
и во прах возвратишься».
Третий участник сцены, Змей, отделался легче всех:
«на своем животе будешь ходить
и прах будешь есть
все дни своей жизни».
К тому же получается, что Создатель покарал их за то, к чему сам их и предназначил. Ведь в 1-й главе Книги Бытия, стих 28, четко сказано: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь!»». Разгневаться на им же разрешенное «плодитесь» Создатель не мог. За что он разгневался, он ясно определил в стихе 22 главы 3-й Книги Бытия. «И сказал Яхве-Бог:
«Вот человек стал один из нас,
Знающим добро и зло. А теперь: как бы не протянул он свою руку и не взял бы также от Дерева Жизни, и не поел бы, и не стал бы жить вечно!»».
В результате поедания плода с Древа Познания добра и зла человек обрел разум. Ибо познание совершается с помощью разума. Головной мозг есть у всех высших животных, однако разумен лишь человек. Головной мозг животных никогда не был активирован свыше, вот в чем дело. А в тот нулевой год человечества, на свежем благоухающем ветру райского сада, Ева, надкусив плод с Древа Познания, активировала свой головной мозг, обрела разум. Химико-магическое действо было исполнено в райском саду. До поедания плода человек и его жена были этакие себе зомби, как животные Земли.
Многое объяснит одна история. Однажды, помню, в Париже со мной случилось чрезвычайное происшествие. У меня «выключили» на какое-то количество минут разум. Случилось это в начале восьмидесятых годов. Я ехал в парижском метро, направляясь в мое издательство «Ramsay», находившееся на rue Chercher-Midi. Мне нужно было выйти из метро на остановке «Бульвар Сен-Жермен». Там есть два выхода на этой станции. Я всегда выходил из того, что находится у базилики Сен-Жермен, переходил бульвар поверху, шел некоторое время и попадал на «мою» rue Chercher-Midi. В этот раз я вышел из метро и… оказался в совершенно незнакомом месте!
Некий узкий эскалатор вывез меня прямо на улицу. Меня окружали серые плиты незнакомых зданий. Я сошел с эскалатора и прислонился к стене дома, потому что меня обуял ужас. Я понял, что я не знаю, на какой улице нахожусь, в каком городе, в какой стране. Я не знаю, куда я иду и какое у меня имя. Я вообще вряд ли понимал, человек ли я. Такого страха я никогда в жизни не испытывал. Потому что оказался в совершенно незнакомом мне состоянии, в котором никогда раньше не бывал. Физически у меня нет, не было болей, не кружилась голова, но у меня была на какое-то время совсем стерта память. Я шел, помню, сворачивая в переулки, потом остановился опять в беспомощном ужасе. Я потерял разум и всё, что к нему полагается: ориентировку, все знания…
Внезапно разум включили. Первой вернулась ориентировка, я понял, где я нахожусь. Затем я осознал, кто я. Последним я вспомнил, куда я шел. Я, впрочем, не пошел в издательство. Я вернулся к метро и выяснил, что в этот раз я вышел из второго выхода из метро «Бульвар Сен-Жермен», он находится в небольшом переулке за банком «Насьеналь де Пари». Выход этот небольшой, почти незаметный. Узенький эскалатор вывозит струйку людей прямо на улицу. Домой я пошел быстро, пешком, опасаясь, что разум опять отключат.
Полагаю, что до «грехопадения» на ароматном ветру райского сада первая пара — наши прародители — находились в состоянии, подобном тому, которое я испытал в середине восьмидесятых годов в Paris. Но без моего чувства ужаса, потому что до активации мозга они не были разумны. Потому не пугались своего безразумия. Они испугались, когда отведали плода Древа Познания, испугались, увидев тот же мир разумными глазами. Поэтому они и прятались от ужаса среди деревьев сада. А вовсе не потому, что устыдились своей наготы.
Активация была мгновенной, по характеру сродни той, что совершил Создатель, вдохнув в человека «дух жизни». Но и несколько иной по существу «дух жизни», и производное от него — «душа» — совсем незримы, помещаются они в теле, но нигде и везде. Змей же, «соблазнив» Еву, заставил через раскушенный плод заработать уже существующий и у животных головной мозг. Но заработать в ином, высшем режиме. «Будете как боги». Укус Евы мгновенно наделил нашу праматерь воображением, наблюдением, способностью к анализу, памятью, воистину, они стали как Боги в сравнении с животным миром, но только что не бессмертны. Укус Адама наделил его, нашего праотца, тем же набором.
Еве как самой смелой из пары человечество обязано. Она — важнейшая фигура человечества. Первая революционерка, восставшая против Создателя, против судьбы безразумного существа, предназначенного Создателем для эксплуатации (подробнее можно узнать в моей книге «Ереси», изд-во «Амфора», СПб, 2008 г.). Через поступок Евы человечество получило разум. Ева для человечества важнее Богоматери. Богоматерь (Это если верить, что Христос был сыном человеческим и сыном Божьим. Многие гностики, впрочем, отрицали человеческую природу Христа, утверждая, что он всего лишь принял на время человеческий облик.) — всего лишь мать того, кто исправил человечество. Преподал человечеству моральный урок, пытался обратить его, человечество, по пути взаимной любви. В то время как без поступка Евы мы бы прыгали и ползали. Глори, глори, Аллилуйя для Евы.
Интересно, что в последние десятилетия неустанно движущаяся наука склоняется ко мнению, что мы действительно ни в каком не аллегорическом, но в самом прямом смысле произошли от одной пары людей. Они — наши прародители, общие для всех. Что до меня, то я всегда понимал Великие книги человечества — Пятикнижие Моисеево (Тора и Библия) и Коран мусульман — буквально. Я глубоко верю, что человек как вид был создан Создателем, и животный мир Земли лишь послужил готовыми узлами при создании человека, но человек — не животное, его природа иная. Он создан искусственно Создателем на планете Земля для своих целей.
Говоря о Еве, невозможно обойти молчанием то существо, которое Библия называет «Змеем». Это, конечно, не животное, поскольку обладает даже не разумом, а сверхразумом, знает столько же, сколько и Создатель. Знает тайны райского сада как минимум и предназначение, к примеру, некоторых его деревьев. Змеиный облик ему в наказание дает Создатель («на своем животе будешь ходить») после того, как «Змей» склонил женщину к поеданию запретного плода. Каков был облик этой силы до того, как ее наказал Создатель, священная Книга Бытия не сообщает. Да, собственно, и не в облике дело. Роль эта величайшая. Он (Змей) фактически стал соавтором Создателя. Создатель не хотел человека разумным. Разумным его сделал Соавтор.
Кто он был, для удобства превратившийся в Змея, или представившийся Змеем, или искореженный в Змея Создателем после, в наказание? Какой природы и породы? Как минимум он сам был Создателем, потому что смог стать Соавтором Создателя. Обладал ли он теми же креативными возможностями, что и Создатель, или его возможности были меньшими? В христианской традиции Змей — одно из имен падшего ангела Люцифера, низвергнутого Создателем с небес в наказание за восстание против Создателя. В гностической традиции Люцифер часто называется старшим сыном Создателя. Роль Люцифера сквозь богословские наслоения враждебной теологии всё же проглядывает даже в самом переводе имени его: «Люцифер» — «светоносный». Говорят ведь «светоч разума», ибо разум осветил для человека окружающий его мир: землю, планеты, небеса и звезды. Апокрифические фрагменты мифов о благодетеле человечества Прометее, принесшем человечеству среди прочих благ огонь, позволяют отождествить его с Люцифером. То, что авраамические религии сделали из Соавтора сотворения человека чудовище с рогами, копытами, серным запахом, восседающее где-то в Аду, нам понятно почему. Это месть. Создатель исполнил человека для своих целей (энергетического насыщения) как безразумного (говорят «безмозглый»), такого, каким я метался какое-то количество минут у жерла метро «Бульвар Сен-Жермен». А Соавтор, сын Бога, даровал ему разум. Сын Создателя, он, конечно, знал все тайны Отца. А хрупкая, голенькая, любопытная Ева решилась на поступок. Спасибо тебе, юная девушка, наша общая мамка.
На утренних сеансах
Мы подъехали к кинотеатру «Октябрьский» чуть раньше девяти утра, а сеанс был в девять. Вышли из «Волги» и прошли метров десять до входа. Было ужасающе холодно. Ни птиц в небе, ни автомобилей на Новом Арбате, поскольку воскресное утро и минус 28°.
Мы явились на «Ромовый дневник» с Джонни Деппом в главной роли американского парня, который приехал на остров Пуэрто-Рико в двадцатые годы и работал там журналистом, набухиваясь рома. Что и смотреть в ледяной день, как не «Ромовый дневник». Прекрасно подойдет к теплому пальто или рваной фуфайке.
В главном холле «Октябрьского» нам сообщили, что зал, который нам нужен, расположен с тыльной стороны кинотеатра. «Вдоль фасада до конца и направо!» Легко сказать, ветер дул нам в лица, и, если бы были воробьи в воздухе, они бы сыпались на нас, ледяные… С тыльной стороны было несколько дверей, но все оказались закрыты. Там был «черный» открытый ход, но он вел в кафе, куда нас не пустили. «Только для служащих!»
Наконец появилась Фифи. В легкой шубейке, расстегнутой настежь, в одной руке бутылка пива, в другой — чаша с попкорном, длинная шея, голая. Улыбается.
«Тебе не холодно, сумасшедшая?»
«Отличная погода!»
Фифи умело идентифицировала вход в нужный нам зал, но пришлось ожидать еще четверть часа, пока его откроют, русские абсолютно безжалостны друг к другу.
В зале присутствовали всего лишь мы четверо (я, два охранника и Фифи) и небольшой отряд студенток, человек пять. Все нормальные люди спали себе в глубине Москвы.
Фильм оказался в стиле ретро, но мне понравился. Потому что я сам работал в допотопной эмигрантской газете в Нью-Йорке в семидесятые годы, там еще линотипы были. Вы не знаете, что такое линотипы? Это машины, в недрах которых течет расплавленный свинец, за клавишами машин сидят наборщики и выливают строки газеты. Потом их собирает в полосу в деревянном ящике дядька — maitre-en-page. Газета называлась «Новое русское слово», и расположена она была на 56 Street, между 8-й авеню и Бродвеем. Разве не шикарно? Не хуже, чем в Пуэрто-Рико в двадцатые годы. Впрочем, для современного человека семидесятые годы уже так же далеки, как и двадцатые. Мы там тоже бухали на 56 Street, хотя и не ром, но коньяки. У меня есть большой рассказ об этой газете, который называется «Коньяк Наполеон», при случае прочтите.
Это энергичная Фифи стала вытаскивать меня в кино на утренние сеансы. Без нее я был бы напрочь оторван от современного кинематографа, я же радикальный политик и просто так на улицах не разгуливаю. Мне нельзя, у меня есть служба безопасности, которая бдит мою безопасность. Благодаря Фифи я просмотрел на утренних сеансах и фильм в стиле ретро «Семь дней с Мэрилин Монро», и фильм нашего режиссера-философа Сокурова «Фауст», и только что вышедшего «Прометея». «Прометея» мы смотрели где-то на крайнем юге Москвы, чуть ли не в промзоне. Нас было пятеро. Серега Медведев в то утро съел в кинозале двухлитровую чашу попкорна. Ну то есть не съел, но опорожнил, ни одной попкоринки не осталось, он показал, когда выходил с сеанса. Водитель Женя, родом из Удмуртии, съел скромно однолитровую чашу. Мы с Фифи съели одну чашу на двоих, литровую. Но мы еще пили немецкое пиво. У Фифи диплом преподавателя немецкого языка, потому она считает своим долгом покупать германское пиво.
А Ридли Скотт, режиссер, видимо, размышляет о тех же громадных вопросах, что и я, ну вот в только что вышедшей моей книге «Illuminationes». В «Прометее» экспедиция отправилась на планету, где живут боги. По прибытии туда участников-ученых ожидают исключительно неприятные сюрпризы. Боги, оказывается, вымерли от жуткого какого-то вируса, а когда экспедиция сумела разбудить погруженного в искусственный летаргический сон одного оставшегося в наличии бога, он разорвал землян на части. Там еще много эпизодов, но вкратце суть фильма именно такова. Что сближает меня и Скотта? В «Illuminations» речь идет как раз о Создателе человека. Я считаю, что Создатель создал нас из подручного материала, на базе фауны Земли, дабы создать себе запасы энергетической пиши — он поглощает наши души.
Просмотрев очередной фильм, мы, я и Фифи, обычно отправляемся ко мне. Ребята откланиваются, доставив нас в квартиру. Мы с Фифи выпиваем шампанского либо вина и серьезно занимаемся любовью. Затем может быть едим, опять пьем вино, обсуждаем фильм и занимаемся любовью. Позанимавшись, настонавшись, начувствовавшись и накричавшись, мы валимся с ног и спим… Мы с Фифи не живем вместе, потому обычно успеваем изголодаться друг по другу от weekend(а) до weekend(a). Когда же аппетит у нас очень сильный, Фифи приезжает ко мне еще и среди недели, после работы.
Из-за этих утренних сеансов в кинотеатрах я неплохо изучил топографию Москвы. Фифи ведь всякий раз выбирает новый фильм, а по утрам новые фильмы показывают где придется, не везде, порой не отыщешь где.
Недавно Фифи узнала, что на утренние сеансы ходить не модно, модно на вечерние. Но на вечерние мы не можем, потому что на них ходит много людей, а люди представляют угрозу моей безопасности. Мы с Фифи погрустили и остались немодными. Вообще-то мне утренние сеансы нравятся, кроме нас, от двух до пяти посетителей в зале, странно пусто, приятно пусто.
А однажды мы той же компанией отправились в Большой театр, смотреть оперетту «Летучая мышь» в новом зале театра. Дело было тоже днем.
Охранникам зал понравился. Они любят искусство, хотя, например, фильм «Фауст» понравился только Жене, водителю из Удмуртии. А на спектакле «Летучая мышь» в Большом театре я открыл для себя одну особенность, касающуюся зрителей спектакля. Театр был полон женских пар. Все дочери, каждая лет под тридцать или сорок, перебравшиеся в Москву из провинции, привели на «Летучую мышь» своих пожилых и стареньких мам, приехавших из провинции. Я насчитал двадцать одну пару и сбился.
Дом
В Тверской области, недалеко от границы с Московской, есть один дом. Он расположен далеко в глубине еле живой обезлюдевшей деревеньки. Летом он совсем не видим, скрытый сверху кронами столетних лип, а снизу высокими, трехметровыми сорняками. Построенный когда-то буквой «П» дом был первую сотню лет своей жизни барской усадьбой, а последние лет девяносто — школой. В начале двухтысячных он некоторое время простоял без присмотра, на радость ветрам, дождям и мародерам. Его многочисленные печи были разобраны на кирпич, полы выворочены и вывезены, совсем погибнуть в тот раз ему помешал я. Я купил его за копейки. В тот год у меня родился сын, и я, поздний, очень поздний отец, размечтался, позволил увлечь себя манящей мечтой новой жизни. Я решил, что постепенно отвоюю дом у хаоса, комнату за комнатой. И все его пятьсот или больше метров, высокие потолки, анфилады комнат, будут наши, мои и моей семьи. А семья прибавится, мечтал я.
К дому прилегала усадьба. Сразу за его задней стеной, в метре от стены, шумели мощные деревья парка. Лишь некоторые из них упали от старости, перегородив могучими сырыми телами аллею, ведущую к церкви. Каменную церковь с двухметровой толщины стенами умудрились сразу после революции взорвать местные безбожники-коммунисты. Пробили огромные две дыры, одну в стене, другую сбоку купола, но церковь устояла. И краснокирпичная, как Брестская крепость, церковь и не думала разрушаться дальше, вцепилась в пейзаж, поросла деревьями, но присутствовала. Со своими культяпками и ранами она была более убедительна, чем все церковные новоделы в России вместе взятые, включая храм Христа Спасителя в Москве. Я уверен: в эту церковь спускается сам Христос, посидеть там невидимо на скамье под исстрадавшимися сводами.
Выйдя из церкви через одну из пробоин, можно оказаться на тропинке, ведущей к очень большому пруду. Если очистить подход к пруду от камышей, можно устроить там мостки и приличную купальню. Пруд с трех сторон окружает плохо проходимый лес, и тянется он на добрые восемьдесят километров, говорили мне местные. Лес совсем дикий, с волками, медведями и, может быть, Бабой-ягой или ядовитой Красной Шапочкой. Если они еще водятся вообще… шапочки эти…
Домом и усадьбой соблазнил меня местный управляющий. Некогда он был председателем совхоза, последним в ряду председателей, а потом стал директором, а далее управляющим. «Сам бы его взял,— сказал он,— да…— тут он замялся, не назвал причины и только рукой махнул: — Вот вам он как раз подходит…»
На самом деле мне, декларировавшему чуть ли не шестьдесят лет подряд презрение к собственности, этот дом-призрак был не впору, не из моей мечты. Но в тот короткий период — от осени до следующего лета — сын-младенец, красавица-жена заставили меня размечтаться о другой судьбе. Сейчас я иронически улыбаюсь этакой печоринской русской лермонтовской улыбочкой над собой, наивным, глупым мужиком. А еще в тюрьме сидел, эх ты!.. Клюнул на семейное счастье. И что б ты там делал, наблюдал бы, как долго и нудно рассеивается туман, сидел бы с маленьким сыном на крыльце, ожидая из Москвы красавицу-жену актрису… Приедет сегодня или подвыпьет и не сядет за руль, да ты сам ей запретишь садиться. А сын не будет засыпать, и ты будешь ходить по всем своим холодным, незаконченным, неотремонтированным залам, прижимая теплого сына к себе…
За церковью расположилось семейное кладбище — могильные плиты князей С., нескольких поколений владельцев усадьбы и дома. После революции изрядная часть семьи сумела просочиться за границу, двое умерли в Париже, один — в Лондоне.
Старая барыня С. рискнула остаться в усадьбе, мужики и бабы тогда еще многолюдной деревни ее не тронут, правильно решила барыня. Она ведь приглашала деревенских детей на Пасху и Рождество, угощала, учила их грамоте. Барыню считали справедливой. Но, на лихую беду барыни, вернулись с войны солдаты, промаявшиеся на войне по три-четыре года. Председатель местного комитета бедноты однажды привязал барыню к телеге, запряженной двумя лошадьми, и вскачь пронесся со старухой по дороге на Сергиев Посад. Где именно она испустила дух, никто не понял. Потомки этого председателя до сих пор живут в крайнем от дороги доме. У них трактор. Зарабатывают они своим трактором. Призрак барыни, говорят, не раз встречали на дороге в Сергиев Посад.
Жена моя привезла туда модных архитекторов. Архитекторы полазали в доме, поснимали его на мобильные телефоны. Потом сказали, что проще снести дом и построить новый. Я сказал, что нет, дело не пойдет, дом мне именно и дорог. Жена обиделась, архитекторы надулись, а чего надулись, ведь денег всё равно никаких не было.
Летом меня там покусали в голову слепни, поскольку там пасутся крестьянские козы. Управляющий за небольшие деньги нанял бригаду таджиков, и они закрыли все окна и один угол крыши толстым пластиком, сделали примитивную ограду, скорее предохраняющую от скота, а не от людей.
В октябре жена и ее мать приехали и вкопали вокруг дома десятка три саженцев яблонь. И это было последнее действие нашей семьи на этой территории. Потому что потом семья затрещала и распалась. Барин из меня не получился, как и муж.
Дом-призрак так и стоит там, невидимый летом, видимый только зимой. Во взорванной церкви всё так же часто бывает Христос. А по дороге из Сергиева Посада бредет домой окровавленная старая барыня.
Paris, контесса и драгоценности
Один мой знакомый ловелас, скривившись, выдавил как-то из себя: «Я не люблю ювелирные изделия на женщинах, о них вечно исцарапаешься…».
Это профессиональный взгляд на интимные отношения, роза удобнее без шипов. Но, конечно же, сверкающие камни прибавляют к магии полов. И стоимость сверкающих камней на шее и в ушах также добавляет к магии. Казалось бы, не должна, вроде бы стоимость — противоположная материя, но ей-богу, тяжелая сила богатства, как крепкие и глубокие духи, заставляет голову сделать несколько кругов кряду. Титул, кстати говоря, также имеет силу. Натуральная, родившаяся от отца и матери графа и графини, контесса давит своим титулом на мужчину.
Контесса явилась к нему в студию на улице Архивов и была поражена. Она привезла кашемировый теплый-претеплый шарф, широкий и длинный, и бутылку Veuve Clicquot, вокруг горлышка которой был повязан шарф.
Она нашла его студию ужасной, ну просто кошмарной по своему убожеству, она прошлась по студии, заглянула в туалет. Туалет был с мотором. Когда посетитель нажимал на клапан сливного бачка, мотор включался. И должен был проталкивать дерьмо через узкую трубку в широкую трубу канализации, идущую по фасаду средневекового здания. Должен, но не всегда проталкивал. И тогда дерьмо поднималось в соседствующую сидячую ванну. Он ей объяснил про мотор и ванну. Она содрогнулась, пробормотала: «Quel horrior!»
Он обнял ее сзади в дверях этого чудовищного туалета. Ее тело было сильным. Завиток черных свежих волос выбился ей на шею и покрыл украшения на ее шее. Они познакомились вчера вечером и уже успели made love в ее квартире на улице Короля Сицилии. Сутки спустя она явилась к нему. «Я хочу посмотреть, как ты живешь!» «Вот и смотри»,— подумал он. Он уже успел понять, что он ей нравится.
Они выглядели так:
Она — женщина, стремительно приближающаяся к своим сорока годам, высокая, до сих пор еще стройная, с сильной талией (может быть, она делает упражнения, подумал он), с сильными смуглыми сиськами и твердыми бедрами. Длинноногая и узкоплечая, как и полагается графине. Скандальная, прошедшая через многие руки. Была замужем за известным издателем, работает в прославленном Доме моды. Пьяница, прошлой ночью она поставила к своему ложу бутылку простонародного пива, с закручивающейся пробкой, и несколько раз за ночь прикладывалась к бутылке. Ее звали Жаклин.
Он, эмигрант из Восточной Европы, парень моложе ее лет на десять, судьба приземлила его в Париже, и ему нравилось, что это случилось. От французских мужчин он отличался наглостью и железобетонной уверенностью в себе. Это был его первый год в Paris, первая студия в Paris и первая контесса, встретившаяся ему в жизни.
Он правильно решил, что девка и есть девка, даже если она контесса с какой-то, как она сказала, особо древней кровью провинции Лангедок в ее венах. Ночью она сказала ему в перерыве между making love: «Знаешь, иные шлюшки считают себя графинями потому, что сумели женить на себе графа. У меня все предки титулованные, начиная с Крестовых походов. Представляешь?»
Он сказал ей на смеси английского и французского, что девка есть девка, и судя по тому, как она учащенно задышала и прижалась к нему, он понял, что его к ней отношение ей нравится. Он понял, что ей нравятся грубости, и ночью вел себя с ней грубо. На самом деле он не был так уж груб, и вполне отесан, и читал и Флобера и Бодлера. Но женщин он уже понимал.
У него были несколько кусков березового бревна, отпиленных на стройке от забора, за забором реконструировали универсальный магазин. Он сложил бревна в старенький камин и зажег их. Хозяйка студио старушка мадмуазель Но предупредила его, чтобы он не вскрывал камин, однако у него кончились его небольшие сбережения. Отапливаться электрическим «шоффажем», имеющимся в студио, ему было дорого, потому он вскрыл покрывающий камин серый «макет», просто разрезал его и отогнул вниз, таким языком. Обнажился вполне здоровый, в рабочем состоянии камин, и ясно стало, что мадмуазель Но просто не хотела, чтобы он пользовался открытым огнем в ее студио.
— Камин в Paris не роскошь, а скорее отопление для бедных, да, Жаклин?
Они уселись на пол перед камином и пили «Вдову Клико» из грубых стаканов хозяйки.
— Да, Paris строился в доиндустриальную эпоху. Тогда только каминами и отапливались. Самое примитивное отопление и очень опасное. Столько пожаров из-за них.
Она смотрела на него взволнованно. Убожество его студии, по-видимому, как написали бы в старых романах, «отогрело ее огрубевшее циничное сердце». Она ведь родилась и жила совсем в ином мире навощенных паркетов и больших светлых окон. Ее муж — издатель, и она дружила с президентом Помпиду и с актером Аленом Делоном. Она была замешана в скандале под названием Affaire Marcovici. Марковичи был телохранителем Делона, его нашли убитым после оргии, в которой участвовали тогда еще юная Жаклин, Делон и Помпиду с женой. В квартире ее на улице Короля Сицилии только одна гардеробная комната, где хранились платья и туфли Жаклин, была в два раза больше его студио.
После «Вдовы Клико» они стали пить дешевый и вонючий ром «Negrita», у него была литровая бутылка. Контесса поглядела на этикетку с негритянкой и покачала головой. Но отважно и совсем по-мужски опрокинула свой стакан. И этим, как написали бы в старинных романах, «согрела его огрубевшее сердце». Аристократка, древняя кровь, молодец-девка, он ласково схватил ее за горло и сжал. Он намеревался далее сдвинуть руку вниз и взять ее внушительную сиську, одну, потом вторую, но под рукой оказалось ожерелье. Он вспомнил, что французы называют ожерелье «колье» и что из-за колье Марии-Антуанетты якобы началась Великая французская революция.
— Фамильные драгоценности?
— Да, mon colonel, именно они. Бриллианты. Целое состояние.
— Что, настоящие?
— Тебе же говорят — целое состояние.
— Ну, сколько?
— Не буду говорить, а то ты меня зарежешь и сбежишь в Бразилию.
— Почему в Бразилию?
— Те, кто режет женщин, всегда бегут в Бразилию. Так пишут в газетах.
— И ты бродишь по улицам с целым состоянием на шее?
— Я хотела сделать тебе приятное. К тому же отличить фамильные драгоценности, старинные бриллианты от купленного за сто франков в Латинском квартале ожерелья, отштампованного в Гонконге, со стекляшками, никто не в состоянии. Когда я иду в моем старом пальто, никому в голову не придет. Посмотри, как они горят тонкими острыми лучиками.
Он все-таки добрался до сисек контессы, а затем они надолго отправились в область взаимного гипноза, иллюзий, внушения и самовнушения. Бриллианты остались на Жаклин и работали совместно со свечкой, и с красными бревнами камина, посылали лучи и перекрещивали их.
Потом они лежали на спине, и он гладил ее то по животу, то по сиськам, то по бриллиантам.
— Без драгоценностей женщина проста и неодета,— сказала Жаклин.
— А как быть тому, у кого их нет?
— Раздобыть. Для начала пойти на панель, затем соблазнить одного богатого джентльмена и стереть свою pussy до дыр, но иметь драгоценности. Ты заметил еще одно мое украшение, цепочку на правой щиколотке?
Он заметил. Когда она принимала его в себе лежа на спине, эта цепочка вздрагивала за его левым плечом вместе со щиколоткой и узкой ступней контессы.
Впоследствии они узаконили роли.
Она: взбалмошная, ненадежная, всегда пребывающая лишь в настоящем времени. Пьяница, дебошир, скандалист, сучка и блядь. Женщина, вполне способная лечь под водителя в своих бриллиантах.
Он — животное, brut, всякий раз насилующий непослушную кобылицу, грубый гунн с Востока, проникающий бесцеремонно в ее древнюю плоть, сделанную совместно поколениями полупьяных аристократов в спальнях замков Лангедока. Абсолютно ненадежный парень, вероятнее всего, перепробовавший всех девок-эмигранток одной с ним национальности.
И, следует сказать, у них хорошо получалось взаимодействие. И в его дымной студио, под красные березовые дрова — к утру они мирно алели в камине. И в ее огромной, как сарай, квартире, на кожаном ложе, сделанном для нее самим Старком. (Мы валяемся на «Старке», не забывала она сказать). Так они и жили. Они говорили друг другу грубости и находили в этом удовольствие.
«Шире раздвинь ноги, еще шире! Подними зад!» — кричал он ей.
«Сделай меня беременной, my muscular man!» — стонала она.
— Что кричали заводские девки, когда они были под тобой?— Интересовалась она, он рассказал ей, что работал на заводах.— Я тоже буду так кричать. Научи меня ругательствам на твоем языке!
Он научил.
Однажды он нашел ее колье, упавшее за только что сложенный им диван, ночью служивший им ложем. Он позвонил ей и сказал, чтобы она приехала и забрала свое целое состояние немедленно. У него такая хлипкая входная дверь, что не дай бог кто вломится, а тут колье.
Она хохотала. Вот сейчас пойду в полицию и скажу, что ты меня ограбил. К тебе придут и найдут мое колье.
— А я скажу, что ты его забыла у меня.
— А я повторю, что ты меня вчера вечером ограбил на улице. Полиция поверит мне, потому что я француженка и контесса.
— Прекрати, Жаклин!
— Прекращаю,— сказала она.— Признаюсь, я нарочно оставила колье у тебя, чтобы проверить тебя. Поздравляю, ты прошел проверку.
— Ты еще хуже, чем я о тебе думал.
Они не ушли тогда друг от друга. Она приехала с Veuve Clicquot, и всё кончилось тем, что она надела колье ему на… яйца.
— Ты единственный, достойный носить мою фамильную драгоценность.
Их неожиданно разбросала жизнь. Случилось так, что он уехал и потом не смог вернуться во Францию. Через много лет он оказался в тюрьме в его родной стране.
Как-то разносивший почту зэк (в тюрьме его называли «грамотный») принес ему открытку из Республики Панама. «Му muscular man,— писала она.— Сегодня вспоминала тебя и поцеловала мое колье, которое, ты помнишь, я как-то надела тебе на яйца. Мы так смеялись. Твоя Жаклин».
«Эммануэле»
Они, красивая пара, приехали в Италию зимой. Этак лет за шесть или восемь до того, как в мире появились первые зарегистрированные случаи заболевания AIDS. Мир еще нежился в удовольствиях случившейся в конце шестидесятых сексуальной революции, совершённой поколением хиппи — детей цветов.
Стояла счастливая пора, когда предложить make love было так же просто, как предложить гостю бокал вина. Вьетнамская война кончилась, новые войны еще не начали даже вызревать. И тут на экраны Европы вышел фильм «Эммануэле», такой себе современный, середины семидесятых «Декамерон». Их итальянские знакомые пригласили пару. Она — тоненькая высокая блондинка с серыми глазами, чувственная и тонконогая, он — тридцатилетний парень мачо, с густыми крупными кругляшами каштановых кудрей.
Радостный, экзотичный, красивый, полный светлого эроса фильм сшиб их с ног. Пусть они и любили друг друга вот уже два года молодой звериной любовью абсолютно чуждых друг другу существ. Сидя в итальянском кинозале, окруженные римскими друзьями, они смущенно вздыхали. Она вздыхала чаще, чем он, и глубже. Они идентифицировали себя с главными героями: молодой парой, дипломатом, получившим назначение в Таиланд, и его юной женой. Было одно «но», но большое: они были эмигранты, ожидали в Риме разрешения выехать на ПМЖ в Соединенные Штаты, потому жили на крошечное пособие. И если у нее всё же был высокий статус красивой юной девушки, то у него был самый низкий из возможных социальный статус перемещенного лица, безработного. А «Эммануэле» — современный «Декамерон» — их задел.
Были простые радости. Можно было встать рано утром и пойти по живописным, просыпающимся улочкам Вечного города в Ватикан, он знал маршрут через холм Сан-Николо, пальмы, гущи кустарников, замшелые памятники. Она оставалась спать, она не любила вставать рано. В Москве, с бывшим мужем, другим, она жила ночной жизнью. Потому он целовал ее, сонную, и уходил один. Не очень охотно.
На Новый год их пригласили в компанию. Человек двадцать итальянцев, итальянок и они…
Его жена, как, впрочем, и всегда, оказалась юнее, красивее и экзотичнее всех присутствовавших женщин. Она выбрала себе черную маску, и в прорези для глаз сияли радостно ее фарфоровые глаза. Комнат было много, люди ходили, меняли места, пили шампанское, разговаривали. Его жена разговаривала много и охотно. Еще она смеялась. Когда наступил момент Нового года, все мужчины захотели поцеловаться с его женой.
С ним тоже кое-кто поцеловался. Он говорил в ту пору по-английски гораздо хуже, чем его жена, поэтому был необщителен. Она прошла было мимо него, остановилась, поцеловала, прошептав: «Не напивайся!» — и удалилась. Там был полумрак, а он ненавидел полумрак, он любил много верхнего света. А тут был полумрак, кое-где свет, музыка, смешки, голоса.
Он поговорил с профессором, с хирургом. Оказалось, почти все в компании были доктора. Каким образом они попали в медицинскую среду? Это были знакомые его жены. С кем-то из них она познакомилась первой. Говоря о его жене, произнося ее имя, хирург улыбался, обнажая желтые зубы. Хирург предложил выпить виски, и он согласился, хотя до этого пил шампанское. Потом подошел еще один хирург и тоже выпил с ним. Он выпил. Но ему тотчас налили еще. Точно таким же образом прошедшим летом в Сочи его спаивали грузины, он безошибочно тогда понял, что его пытаются отбить от жены. Тогда у них ничего не получилось. Появился третий хирург, и он выпил с ним. Потом откланялся, к их разочарованию, пошел искать ее.
Он нашел ее в небольшой комнате для курения. Она сидела в кресле и курила сигару. Маску она сняла. Рядом с нею в другом кресле сидел седой мужчина в смокинге. «Это мой муж»,— сказала его жена. Мужчина встал и, приветливо пожав ему руку, назвал себя. Его звали Лучио, Луче, видимо, Лука, он же Лучиано.
— Вы тоже хирург?— обратился он к мужчине.
— Хирург,— подтвердил тот.
— Все хирурги,— сказал он жене.— Может быть, уедем?
— Ты что, нализался?— сказала она строго.— Ночь, мы далеко от центра. Погуляем еще, Лучо нас отвезет.
— Ты давно его знаешь?— спросил он.
— Месяц уже…
— Ты что, с ним спишь?
— Нет. Но выспалась бы, если бы не ты. Он мне нравится.
Лучо-Лучиано напряженно вслушивался в незнакомые слова.
— Нужно было ехать сюда одной.
— Да, мне тоже было бы легче.
«Это тебе не фильм «Эммануэле»»,— почему-то подумал он. Он представил себе ее и этого Лучиано, занимавшихся любовью. Одна поза, прикинул он, другая. Нет, его решительно не возбуждала никак его жена с этим мужчиной. Но возможность подобного вызывала раздражение.
— Пойду выпью еще,— он встал и вышел, не оглянувшись на них.
В ванной комнате большое зеркало было освещено снизу. Он впервые за полгода увидел себя в большом зеркале, там, где они жили, большого не было. Он был разочарован собой. Итальянские серые, узкие в заднице брюки были ему длинноваты и опускались на башмаки неприятной гармошкой. Туфли выглядели тяжелыми и запыленными. Платок, повязанный на шею вместо галстука,— платки на мужчине любила его жена — скомкался от пота, что ли. «Как веревка на повешенном»,— уязвил он сам себя. Лицо у него было какое-то желтое и, невыгодно освещенное снизу, казалось усталым и немолодым.
Он мысленно сравнил себя со своей свежей, юной, грациозной женой и пришел к душераздирающему выводу: «Здесь, за границей, мы друг другу не пара. Никакого подобия сценария «Эммануэле» у нас с ней не состоится. Как долго она еще будет со мной, держась за свою прежнюю, выдыхающуюся любовь?»
Он терпеливо промолчал весь вечер. Пил с хирургами, не стесняя себя осторожностью, но так и не напился, остался в памяти и продолжал контролировать себя. Жены он давно вокруг себя не видел, однако, когда гости начали разъезжаться, появилась и она. Они спустились по холодной итальянской лестнице на римскую улицу и сели в автомобиль, за рулем которого сидел как-то присмиревший Лучиано. Может быть, он устал, ведь немолод, голова седая.
Лучиано домчал их до via Catanzaro, где они жили у знакомых в крошечной комнате. Попрощались. Вошли, открыв дверь своим ключом.
Вот тут-то его прорвало. Он набросился на нее как на врага и обидчика. Топтал, изгибал, будто хотел уничтожить. Когда всё кончилось, она сказала: «Это не любовь, это ненависть». И они уснули.
Она завела себе любовника через одиннадцать месяцев, уже в Америке. Через еще два месяца они расстались.
Актриса, исполнявшая главную роль в «Эммануэле», состарилась. Время от времени по радио бывают слышны аккорды музыки из того фильма, музыки талантливой и романтичной. Ею рекламируют лекарства.
Совсем недавно та актриса умерла.
Девушки
Фифи приходит ко мне по выходным. Вначале я слышу ее приподнятый голосок по домофону. «Это я!» — вызывающе заявляет она. Через некоторое время я вижу в глазок ее худенькую маньеристую фигурку. Она всегда в бейсболке, надвинутой на глаза, с сумкой и красивыми пакетами в руках. И коробками. Часть принесенного — сладости из какой-нибудь «Шоколадницы» для нас, а пакеты и коробки — это то, что она успела купить себе по пути. Фифи — завзятый покупатель. У нее с собой обычно туча только что приобретенных трусов, пеньюаров и еще черт знает какие свежие и соблазнительные женские штучки. Ради этого она и работает. Поцеловав меня, она бежит в мою ванную комнату, бросив на ходу:
— Дай мне твои маленькие ножнички!
Я знаю уже, для чего: срезать ярлыки, этикетки и ценники, чтобы появиться передо мной в новом, окрутиться вокруг себя и спросить: «Ну как?». (Первый раз я было подумал, что ей надо срезать заусенец.) Я обычно отвечаю: «Сногсшибательно!», или «Неотразимо!», или «Элегантно!», или «Таинственно!».
Еще Фифи приносит мне новые диски и заставляет смотреть. Ради нее я даже вытащил из темного угла кухни забытый мною телевизор и поставил его в большую комнату. Я «подсел», как сейчас говорят, на новые фильмы, которые она приносит. Вначале, правда, я «подсел» на Фифи. Двадцать восемь лет, у нее грубые черные волосы. Она изящна. Моя мама, если бы была жива, назвала бы ее «дамой».
Последний фильм, который мы просмотрели, был «District 9» («Район № 9»), о том, как инопланетяне, похожие на огромных стоячих раков, прилетели на Землю, а их корабль вышел из строя и завис над Южной Африкой. Инопланетян поселили в трущобе Йоханнесбурга. Фифи меня образовывает и осовременивает, без нее я бы никогда не взялся купить или смотреть «District 9». С ней я даже ем принесенные ею гамбургеры из «Макдоналдса».
Девушки меня всегда чему-нибудь учили. Наташка-дощечка, помню, убедила меня слушать Мумий Тролля. Я считал его женственным, манерным и… голубоватым. Я же был другом Егора Летова, какой Мумий Тролль — смешно!.. Наташка заставила прослушать (кажется, это был первый) альбом Тролля и сказала мне: «Да, он женственный и манерный, но это клёво!». С тех пор хожу, полный мелодий и фраз этого владивостокского типчика. «В подворотне нас ждет маниак / Хочет нас посадить на крючок / Остались мы на растерзание / Парочка простых и молодых ребят». «Со смены не вернулась молодая жена…».
Последняя, тревожная строка вызывает в моей памяти эпизод. Я тащу напившуюся мою подружку Вальку домой, к родителям. Мне восемнадцать лет, ей пятнадцать. Она навалилась на меня, пахнет мамиными духами, алкоголем, своим молодым потом… У нее развязались вычурные завязки ее туфель. Весна, я прислонил ее к стене, нас видят фланирующие жители рабочего поселка. Вы любите пьяненьких девушек? Я да, до сих пор люблю пьяненьких девушек… «Владивосток две тыщи!»
От всех девушек я чему-то научился. С девушками становишься современным просто потому, что несовременных девушек нет. Несовременными бывают только женщины. Моя тогда еще не жена, но девушка Катя показала мне, как легко управлять компьютером. По утрам она, трогательно надев очки (очки на девушках трогательны), проверяла свою электронную почту, желая увидеть предложение от режиссера. По почте ей присылали сценарии. Мы их читали вместе. И я приобщился, втянулся, приобрел навыки. И когда мне достался от одной либеральной политической партии в наследство компьютер, я разумно схватился за возможность. И оставил его себе.
По сути дела, всему, что я умею, меня научили девушки, вдруг вот признаюсь я себе. Моя светская молодая жена Елена научила меня есть не покладая ножа и вилки. (Как я ел до этого, не помню. Может быть, с помощью только вилки?) Впоследствии, попадая вдруг за одни столы с аристократами и даже с наследниками престолов, я удивлял их своей ловкостью за столом. Моя первая жена Анна фактически способствовала превращению моему из рабочего парня в интеллектуала. Приносила мне актуальные книги из книжных магазинов, где она работала. Если бы не она, базовые знания я бы собирал много дольше. Другое дело, что, конечно, я был благодатным материалом, сам страстно желал знаний, с удовольствием пожирал знания. Я, собственно, главным образом сошелся с ней и стал жить в ее семье, потому что у меня было сильнейшее желание уйти в другой, более интересный мир, чем мир рабочего поселка.
Мысленно вспоминаю, кто еще чему меня научил. Как ни странно, моя самая страстная любовь Наташа Медведева вряд ли меня чему научила. Если и научила, то вот не вспомню, чему. Я научил ее многому, это да…
Маленькая Настя как-то принесла домой кассету Мэрлина Мэнсона (до того она была фанатом Летова и Янки Дягилевой), и мы послушали. Через некоторое время она повесила в коридоре нашей квартиры его портрет с разными глазами. Впрочем, когда появился второй альбом Мумий Тролля, она распевала старательно, смешно убирая в квартире, распевала тоненьким голоском: «Как же тебе повезло, моей невесте / Завтра мы идем тратить все свои / Все твои деньги вместе…». Так что вкусы Насти раздваивались и растраивались…
А вот еще более давнее воспоминание. Ведь и с «Рамонс» я познакомился благодаря девушке! Девушкам. У моей подружки Джулии Карпентер была лучшая герл-френд (они вместе учились в хай-скул) Мэрианн. Бойфрендом же Мэрианн оказался музыкант Марк Белл. Тогда он был барабанщиком в группе первого панка на планете Ричарда Хэлла, тогда он как раз выпустил первый вообще панк-альбом «Blank Generation». Впоследствии Марк ушел к «Рамонс». Все они умерли, Марк один остался в живых. И еще я.
Вот так важны девушки. Мы, мужчины, имеем свойство застывать в одной форме. А девушки побуждают нас изменяться. Фифи заставила меня смотреть даже юного Джонни Деппа в фильме «Плакса». При этом мы ели гамбургеры.
Подарок
На свое тридцатилетие 22 февраля 1973 года я получил дорогой и редкий подарок. Елена Сергеевна Козлова — юная чужая жена — оставила мужа, сорокасемилетнего старца (!), и ушла быть со мной. Жить со мной было негде, я снимал комнату в девять квадратных метров на улице Погодинской, вблизи Новодевичьего монастыря, в коммуналке. Два года она ходила ко мне в эту комнату заниматься любовью, но жить там, конечно, было невозможно. Поэтому она ушла быть со мной. По-видимому, хоть в шалаше.
Я восстанавливаю в памяти тот далекий день. Была оттепель. Около полудня мы встретились в некоем кафе на Мясницкой, тогда улица называлась Кировской, недалеко от Почтамта. Моя любовь сидела в вязаном платье, в парике, в темных очках. Из-под очков были заметны заплаканные глаза. Мы пили что-то крепкое, кажется, это были коктейли, держались за руки. Время от времени мы целовались, но не как страстные любовники, как прежде, а как очень близкие, может быть, очень близкие брат и сестра. От нее нежно пахло слабым ландышем «Кристиан Диор». Было страшно и невесело.
Она уже сказала Виктору (сорокасемилетнему старцу), что уходит, но ей еще предстояло поехать за вещами. В кафе мы ждали Галку, ее подругу, тощую и наглую девицу с простым русским лицом, пухлыми губами, волосы блондинки забраны в пучок, этакий мини-спецназ из Вологды. Предполагалось, что Галка сумеет отбить Елену, если вдруг сорокасемилетний старец попытается помешать ей уйти. Уже был нанят автомобиль УАЗ, чтобы погрузить в него многочисленные картины, подаренные Елене друзьями художниками, ее книги, ее иконы, ее особое деревянное кресло и, конечно, многочисленные чемоданы и картонки с ее вещами, она была модная московская красавица. А сестра у нее жила в Ливане. Мы уже договорились, что вещи Елены мы складируем в доме 10, в Большом Гнездниковском переулке, в квартире моих друзей. Там же и переночуем. Мой друг художник Бачурин собирался дать нам свою мастерскую на месяц. Мастерская находилась на чердаке дома в Уланском переулке, сейчас там возвышаются здания «Лукойла».
Тогда кафе в Москве было мало. В лучшем случае в них было неуютно, как в предбаннике общественных бань. В том кафе было получше, чем обычно. Невысокая эстрадка на фоне стены с прибалтийской мозаикой. Тихая музыка. Столы и стулья были так тяжелы, словно сделаны из чугуна. Мелкие лампочки трех либо четырех цветов мерцали. Мы сидели у окна, за окном (около полудня!) было просто темно, и редкие прохожие шлепали башмаками по оттепели. Галка всё не шла.
Вдруг я отчетливо подумал, что ведь я праздную свою первую социальную победу в жизни. Ко мне, нищему поэту, ушла красавица, светская дама, можно сказать, бросив богатого, очень богатого модного художника. У этого ловкого и неглупого человека, представьте себе, в Москве был «мерседес»! Белый! Тридцать три года назад. Но, видимо, то, что я вытворял с ней в желтой комнате на Погодинской, было для нее важнее и его денег, и «мерседеса», и ящиков с «шерри-бренди», каковой она очень любила, и тех изумительных стильных вещей, каковые Виктор ей доставал, чтобы украсить все ее 177 см роста… Я помню, что мне стало весело, я преисполнился могучей гордостью за самого себя. Само собой разумеется, что я считал себя блестяще одаренным человеком, в иные дни я нагло считал себя гением, но талант во мне был от Бога, а тут я первый раз победил в ухищренном социуме Москвы и России. Впоследствии эта история мезальянса светской красавицы, избалованной юной жены богача и неизвестного поэта из черт знает какого-то там Харькова долго гудела по Москве и подавляла умы.
Потом появилась Галка в легкой шубейке (с плеча Елены), как тогда носили: этакий кафтан, отороченный мехом по горлу, и полы, и внизу, с тигровым рисунком по кафтану. Мини-спецназ явился с ярко накрашенными губами, с тонкой сигареткой в руке и в папахе. Настроен спецназ был крайне решительно. (Елена цинично предполагала, что Галка имеет виды на освободившуюся должность подруги сорокасемилетнего старца.) Попросив шампанского и выпив с нами, спецназ решительно поднялась. «Готова, Ленок?! Смелее! Пойдем!» Моя любовь обреченно встала.
Так они и идут в моей памяти — две храбрые русские девушки, по кафе на Мясницкой, уменьшаясь в перспективе, женщины семидесятых годов. И я сижу счастливый-счастливый, потому что меня предпочли, и моя ценность поэта и любовника оказалась выше, чем его доходы.
Через четыре часа я встретил ее заплаканную в дверях дома в Гнездниковском переулке, на поводке она вела заляпанного грязью белого королевского пуделя, точнее, пуделицу. С тех пор мне не случалось больше видеть таких заляпанных пуделей. Мои друзья носили по длинному коридору ее картины, корзины и картонки. А она стояла слабая и очень пьяная, со слезами улыбаясь в моих руках. Ну и что, что через три года мы расстались! Ну и что, что расстались, случившееся потом не умаляет восхитительного чувства могущества, которое я испытал впервые в тот день моего рождения. С того дня я уверился в моих собственных силах, в своей звезде, в том, что могу одерживать социальные победы. Любые победы.
Как Москва гудела в ту зиму! И весной! Как нам перемывали кости! Как был встревожен весь beau-monde, что неизвестный чужак увел их девушку, девушку их круга. Художник Лев Збарский звонил актрисе Галине Волчек, художник Борис Мессерер — актеру Кваше, актер Кваша — художнику Брусиловскому… и так по цепи.
Признаюсь, что моя хулиганствующая натура наслаждалась эффектом, вызванным моим камнем в их болоте. Сюда же, думаю, примешивалась и классовая ненависть, а как же. Все они были ведь обеспеченными, знаменитыми…
Пудель был грязный, ну такой заляпанный, лапы и брюхо черные. Я повторяю, поверьте, с тех пор мне не случалось больше видеть таких заляпанных пуделей.
В возрасте Фауста
Всю ночь я читал в интернете «Фауста» Гёте. Утром пришла из клуба, где она танцует, моя подруга. Разделась. Влезла в кровать и прижалась задом. Я прошипел: «Не буди меня! Не мешай спать!» Она повозилась и уснула. Я поглядел на нее: рот полуоткрыт, темные хмурые черты лица. Легкий запашок алкоголя. Моя подруга. И я, Фауст, в черной майке рядом с ней… Шестидесяти пяти лет от роду.
Ночью я остановился на 12-й сцене «Фауста». Фауст встречает Маргариту на улице в 7-й сцене. Коротко. Только и успевает сказать: «Прекрасной барышне привет! Я провожу вас… если смею». А Маргарита отвечает: «Прекрасной барышни здесь нет! Домой одна дойти сумею». Затем появляется Мефистофель, и Фауст озадачивает его: «Ты должен мне добыть девчонку непременно». Мефистофель говорит, что это будет непросто, девчонка невинна, она идет от священника, он только что подслушал исповедь. Но наглый Фауст ничего не хочет знать, поскольку он прошел курс омоложения у ведьмы еще в 6-й сцене. Он даже шантажирует Мефистофеля: «Почтеннейший магистр-педант, нельзя ли / Меня теперь избавить от морали? / Без лишних слов, скажу тебе одно: / Знай: если эту ночь я в неге страстной / Не проведу с малюткою прекрасной, / То в полночь нам с тобой расстаться суждено».
В 8-й сцене Мефистофель приводит Фауста в комнату Маргариты. Мефистофель ставит в шкаф ларчик с драгоценностями. В 10-й сцене Мефистофель посещает соседку Маргариты Марту и назначает ей и Маргарите свидание в саду, куда он приходит с Фаустом. И вот 12-я сцена. Ситуация, в которой я сам неоднократно бывал и бываю: Фауст под руку с Маргаритой.
Маргарита: «Я чувствую, что вы жалеете меня, / Ко мне снисходите; мне перед Вами стыдно, / Вы путешественник: привыкли вы, как видно, / Всегда любезным быть, ведь понимаю я, / Что вас, кто столько видел, столько знает, / Мой бедный разговор совсем не занимает…»
Фауст: «Одно словечко, взор один лишь твой / Мне занимательней всей мудрости земной». (Целует ее руку.)
Маргарита: «Ах, как решились вы! Ну что вам за охота, / Взгляните, как жестка, груба моя рука; / На мне лежит и черная работа: / У маменьки любовь к порядку велика».
На этой фразе я и остановился ночью. Почему меня потянуло перечитать «Фауста»? Я читал книгу семнадцатилетним подростком. Забыл о ней на долгие годы. Опять вспомнил в 1980-м, кажется, году, когда наткнулся на английский текст книги «STEPPENWOLF» Германа Гессе — историю стремительно стареющего интеллектуала на грани самоубийства. Гарри Степной Волк переживает кризис, пережитый Фаустом, он задавлен своим интеллектом, задавлен знанием, буржуазным образом жизни. Спасается он вполне по-фаустовски: встречает в заведении «Черный орел» у стойки бара бледную и красивую девушку. В волосах у нее камелия. Она вытирает ему очки и заказывает вино. Хочет идти с ним танцевать, но выясняет, что он танцевать не умеет и боится идти домой. Так начинаются странные отношения Гарри Степного Волка и Термины (Эрмины), девушки — завсегдатая ночных клубов. Постепенно Термина оживляет старого мизантропа, пробуждает в нем аппетит к жизни, приводит ему любовницу Марию, выполняет одновременно роли Мефистофеля и Маргариты. В книге множество раз появляется и сам Гёте. Так, явившись Гарри Степному Волку во сне, Гёте говорит: «Да, это, может быть, непростительно, что я прожил до восьмидесяти двух лет. Однако мое удовлетворение по этому поводу куда менее значительно, чем вы думаете. Вы правы, что огромная жажда самосохранения присутствовала у меня постоянно. Я находился в постоянном страхе смерти и неустанно боролся с этим. Я верю, что эта борьба против смерти, безусловная воля и желание жить есть мотивирующая сила, стоящая за жизнями и поступками всех исключительных людей. Мои восемьдесят два года показывают также исчерпывающе, что все мы должны умереть в конце, как если бы я умер школьником. Если это поможет оправдать меня, я должен заметить также следующее: очень многое было от ребенка в моей природе и любви к потере времени и игре. И это повторялось и повторялось до тех пор, пока я не увидел, что рано или поздно должен наступить предел игре…»
Когда я попал в возраст Фауста (настой, выпитый у ведьмы, делает его моложе, напомню, на тридцать лет), случай стал меня сталкивать и с Фаустом, и с Гёте. Так, 29 февраля этого года в Берлине режиссер Франк Касторф поставил спектакль по мотивам моего первого романа и моей биографии (спектакль называется «Fuck off Amerika»), отставив на время проект постановки спектакля «Faust Faust Faust, ein Klassik-Trip». Сейчас «Fuck off, Amerika» и «Faust Faust Faust» идут поочередно в Народном театре в Берлине. Так случилось.
Как видно, у меня те же заботы, что и у Фауста, и у Гарри Степного Волка. Маргариты, Эрмины и Марии населяют мою жизнь. Омоложение через юных женщин — привычное человечеству омоложение и согревание крови. Что до моих ученых занятий, то моя книга «Ереси» — свидетельство того, что я не уступаю чернокнижникам Средневековья, и еще неизвестно, кто круче: я или Ницше. Утверждение, что человек создан создателями для удовлетворения их потребности в энергетической пище, искусственно разведен, как разводят карпов в пруду или кроликов, что человек — биоробот, могло бы привести меня в Международный трибунал. Однако мое восстание, самое радикальное в истории человечества, плохо заметили. «Ереси» вышли весной при почти полном молчании критики. (Собственно критиков в России не существует, есть женщины и немного мужчин, анонсирующих обыкновенно выход новых книг заметных авторов.) «Ереси» удостоились двухтрех недоуменных пассажей. Кажется, критик «Газеты» заметил, что «книга могла бы вызвать гомерический хохот, если бы не вызывала иррационального восхищения». Я думаю, критики боятся высказаться. Нужно либо заявить, что автор безумен, либо оспаривать его галлюцинаторное видение мира. Вселенной, хаоса и тьмы миров.
Фауст был великий ученый. И всё же стремительно бросает Мефистофелю: «Ты должен мне добыть девчонку непременно». Еще и стебается над Мефистофелем: «Не меньше ж ей четырнадцати лет?». Так-то, мои соотечественники-печенеги. Вот по коридору прошла моя подруга. Голая.
Если ты джентльмен
Есть такие старые ребята или старые девушки, у которых за деньрожденческим столом обязательно собираются потертые и улыбчивые бывшие супруги. Иногда несколько. «Это моя первая жена!» — старушка-хиппи с седыми косичками в сарафане с цветочками машет сухонькой ручкой с конца стола. «Это моя вторая…» — грудастая матрона улыбается всем помадой с широкого загорелого лица… Действующая жена, тридцатилетний монстрик, весело порхает в мини-юбке среди подруг, поднося салаты, сыры и мясо. Картина противная. Препротивная.
Дело в том, что такая растительная примиренность между старыми овощами убивает и перечеркивает твои собственные страсти. Ведь вы же когда-то расстались, ведь один из вас этого захотел, партнера ломало страданиями, может, и за пистолет хватался, если пистолет был. А теперь все сидят голубоглазые, добрые, как адвентисты седьмого дня.
Примирение с бывшими — это растаптывание своих собственных страстей, отрицание трагичности твоей же жизни. Нет, я ни с кем не примирился. Даже с двумя мертвыми женами. Иной раз я вступаю в диалог с ними.
«Дура! Дура! Я часто повторял тебе: ты не понимаешь!.. И в этом моем излюбленном обороте оказалась вся твоя сущностная характеристика, как позднее мрачно подтвердила твоя смерть. Ты сама хрупкая, нуждающаяся в опоре, не имела достаточно ума понять, что каждый твой мужчина должен быть опорой. Но твой наркоман, Наташа, сам искал в тебе опору, а для этой цели ты — слабенькая, нервная — не была годна. Вот ты и сдохла, надломившись»,— так я обычно обращаюсь к мертвой Наташе Медведевой. Ее смерть меня не замирила. Я обычно полемизирую с ней, надо лишь чуть выпить и иметь настроение для общения с мертвыми женами. Она, разумеется, не отвечает. Я не жалею ее, не выбираю выражений…
Лет десять назад или чуть больше я отправился на выставку бывшей жены Елены, взяв с собой тогдашнюю подружку Лизу. Разница между этими двумя lady’s составляла двадцать два года. Бывшая Елена, в прошлом модель, сохранила неплохую долговязую фигуру, но обрюзгла лицом и задницей. И вкус ей начисто изменил. В сорок шесть лет явиться публике в шортах, соломенная шляпка на голове, кудельки из-под шляпы, видимо, модной в Италии, где она обитает, пластиковый прозрачный плащ поверх. О, она напоминала чучело гороховое! Хотя и роста в ней 177 см. Лизе было в том году двадцать четыре, тоненькая, как шнурок, 178 см, маньеристская, персонаж прямо с полотна Тамары Лемпицкой! О, как я смаковал свой триумф, свою победу над женщиной, которая меня двадцать лет тому назад оставила! Моим орудием мести послужила тоненькая Лизка. Ничего никому нельзя прощать. Нужно помнить все нанесенные обиды и обязательно отомстить. Человек — существо страстное. Не подавляйте свою природу. Резюмирую мое отношение к бывшим супругам в стихотворении (Да, я вовсю пишу стихи!).
Быть джентльменом
Если ты джентльмен, то уж ты джентльмен,
Не вскрываешь себе ты вен.
Ты спокойно в моменты трагической смуты
С коньяком или бренди глотаешь минуты…
Если ты джентльмен, то злодейку-красотку
Не ударишь, всосавши в кишки свои водку.
Но подымешься, строгий, прямой и седой,
Молодую девицу притащишь домой
Отомстить своей прежней неверной девице
Орхидеею свежей в петлице…
За предательство нужно, конечно, убить,
Нелегко джентльменом в Московии быть.
В окружении русских, как меж печенегов,
С их зятьями и тещами Вещих Олегов.
С перепутанным психо, но с бодрым лицом.
Джентльменом остаться, не ставши скотом,—
Это вам не в Британии лордом служить,
Джентльменом в России — как ангелом быть.
Отомщу своей прежней коварной девице
Орхидеею свежей в петлице!
Пусть галдят они все: печенеги, старухи.
Да утешусь я в юной пылающей шлюхе!
М. и Ж
Мои родители прожили вместе шестьдесят два года! Я был женат шесть раз, и самый долгий брак, с невыносимой Натальей Медведевой, длился тринадцать лет. Все другие были куда короче. Правда, я не типичен. Я artist, человек искусства.
Долгие зимние вечера в отдаленных деревнях переживать было, разумеется, удобнее с лицом противоположного пола. Во всех смыслах. Необходимым компонентом служило производство детей, скудным хозяйствам нужны были рабочие руки. Чем больше, тем лучше. Ведь теплый кусок года, пригодный для земледелия, длится в России четыре месяца. Однотягловый мужик (семья из четырех человек, с одним взрослым мужчиной) стремился стать многодетным. Зажиточность зависела более всего от плодородия его женщины. У них было что делать вместе, они всё делали вместе.
Пролетарии на заводах устраивали уже иные семьи. Они продавали свои рабочие руки. Дети уже означали и лишний рот. Вырасти его, а он убежит (это в деревне убежать было трудно). У пролетариев было меньше детей.
Современная, конца XX — начала XXI века, жизнь еще более снизила ценность семьи. Дети как поддержка старикам в старости? Но с тридцатых годов XX века стариков начинают постепенно поддерживать государства: боясь социальных взрывов, вводят практику пенсионного обеспечения. Городские жители не работают семьей, выгоды от семьи нет, поэтому она съеживается до семьи с одним-двумя детьми, а то и вовсе без детей.
Сейчас, в XXI веке, уже не совсем понятно, зачем мужчины и женщины живут вместе. Чтобы находиться подле любимого существа в те два-три года, пока длится средней силы половое влечение? Видимо, так. И только так. Желание иметь детей (иметь не как перспективные рабочие руки, не для материальной выгоды) у какого-то количества женщин есть. Однако если внимательно проанализировать феномен матерей-одиночек, то выяснится, что, не ужившись с мужчиной, женщина решает (природа ей подсказывает) завести маленького мужчину, который еще лет двадцать будет от нее зависеть. Ей будет кем командовать. Женщина, по сути, пытается повторить с ребенком брак. Не сумев подчинить мужчину, сделать его бессловесной дойной коровой, она пытается сама родить зависимого от нее мужчину. Женщина не хочет зависеть, она хочет, чтобы от нее зависели. И она всё более завидует мужчине. И подсознательно копирует своего ненавистного кумира. Доказательство — тещи, эти зачастую настоящие кони с яйцами, мужики да и только.
Справедливости ради следует сказать, что большинство мужчин к концу жизни устают бороться за место под солнцем, и им кажется, что покой, быт, диван перед телевизором — это самое большое благо на земле. Современный мужчина умирает почти женщиной. Вот так. Предвижу вопли и крики несогласных.
Добавлю еще, что женщина в современной цивилизации не так уж часто бывает женщиной. Чаще она бывает человеком, и как таковой она испытывает чувство конкуренции и зависти к своему партнеру по постели, если партнер более известен, талантлив, удачлив. (Чего там! Моя подружка Магги когда-то рассказывала мне, как ее мать, войдя в ванную, счастливо отметила: груди-то у тебя падают, детка! Она радовалась, что дочь стареет.) Я лично чувствовал и злобу, и зависть женщин, она прорывалась иногда у пьяной Наташи Медведевой. «Я больше тебя!» — кричала она. Думаю, изрядная доля зависти Кати Волковой ко мне сыграла свою роль в малопонятном мне бегстве моей жены в downshifting, в Гоа. Она там, важная, командует нашими детьми.
Семьи, в общем, трещат, раскалываются. Даже те хлипкие, которые были еще в XX веке. Сходиться для производства детей М. и Ж. будут, но расходиться будут тотчас после производства. Потом ученые откроют, что это нормально и так было до того, как люди стали жить семьями. А тем временем наука изыщет возможность выращивать детей из зародышей вне утробы госпожи-матери. Ну, конечно, изрядная часть М. и Ж. будет по-прежнему жить по закону Адама и Евы — as a good old family. Но большая часть не будет.
Выбирайте щенков
Для вынужденного womenоведа, каковым я поневоле являюсь на шестьдесят шестом году жизни, совершенно очевидны несколько прописных истин. Я сейчас их проиллюстрирую здесь, приведя мое недавно написанное стихотворение:
Тебя мучает ревность со злобой, тоска,
Ты не видел два месяца с лишним сынка,
Ты болеешь, простуда и астма вдвоем
Истязают тебя этим солнечным днем…
Потерпел неудачу опять ты в любви.
Неудачником, впрочем, себя не зови.
Вся проблема твоя с этой трудной женой,
Как проблема с собакой большой.
Выбирая собаку, купить чтоб в друзья,
Выбирайте щенков, взрослых сучек нельзя.
Ведь у этих у взрослых красивейших сучек
Было много несчастных, трагических случек,
Было много предательства, много грехов.
Чего нет у родившихся только щенков…
Итак, первая прописная истина: выбирайте щенков. Еще теплых, только от мамы. У них не было травм. Жизнь, как правило, не нанесла им еще ударов. Если же вы подбираете на морозной улице красивую взрослую собаку she с ошейником и потерянными испуганными глазами, понятно, что вы берете травмированное существо. Глубины ее травм вы не знаете, только догадываетесь, что не раз она была избита, не раз изнасилована. В переводе с собачьей на человечью природу уже к двадцати пяти годам, и уж точно к тридцати годам, почти каждая женщина аккумулирует, как правило, увесистый печальный опыт отношений с мужчинами. Целый груз. В лучшем случае у нее была несчастная любовь. К тридцати женщину уже, как правило, несколько раз бросили. (Заметим здесь сходство словарей: «брошенная собака» и «брошенная женщина».) В соответствии со своим негативным опытом она смотрит на мир пессимистично. Поэтому ясно, что веселой и красивой ваша жизнь с этой женщиной не будет. Что в постели, что вне постели. А каждому хочется, чтобы жизнь была и веселой, и красивой. И в постели, и вне постели. Грустный секс с объектом, которого жалко? Такая ситуация удовлетворит лишь особого мужчину — большого любителя грусти.
Что касается look, не так уж он и важен. Забавная прелесть околосовершеннолетней she dog вполне может соперничать с телом прекрасно расцветшей женщины в ее двадцать пять — тридцать, впрочем, от них получаешь различные удовольствия. Хорош и первый, и второй возраст. Но за тридцать лет лучше не заглядывать, вовсе не потому, что женщина так уж успевает постареть к этому возрасту, а потому, что постарела ее душа. А ведь на самом деле, вопреки общепринятому мнению толп и учебникам сексологии, совокупляешься-то с душой! В душе she dog после тридцати — мрачновато, и хорошо еще, если это только скептицизм. Чаще всего мировоззрение такой дамы — пессимизм, а то и цинизм, недоверие к мужчине, а то и враждебность ко всем мужчинам. Я лично стараюсь избегать женщин после тридцати, а когда увлекаюсь и нарушаю свои собственные правила, то ничем хорошим это не кончается, как в моем стихотворении. Кончается лишь констатацией грустного факта.
Браки
Теперь на свадьбы арендуют длинные лимузины-сороконожки, где, видимо, внутри передвигаются согнувшись, пока доберутся до своего места. Едут, если в Москве, то на Красную площадь, на Воробьевы горы — пейзаж оттуда поганый, бараки какие-то видны, а если в Питере, то едут к памятнику Петру I, к Медному всаднику. В годы моего детства брачующиеся в предместье Харькова, называемом Тюрина Дача, приезжали к пруду с минеральной водой, и жених при полном параде, черный костюм, галстук, взбирался на самый верх на вышку и прыгал в воду. За больных прыгали родственники. Сильная была такая традиция.
На свадьбах все напиваются и творят безобразия. Наутро чувствуют угрызения совести. Я был на свадьбе, где за одним длинным столом сидели мусульмане и пили морс и чай, а за другим — русские с водкой. И ничего, отпраздновали, в кафе на территории МГУ.
Раньше водоразделом, чертой оседлости, была армия. До армии обыкновенно парни не женились. Приходили из армии, тут-то, изголодавшись, и женились. А до армии редко кто рисковал, чтобы оставить юную жену на три года без присмотра. Это всё была народная жизнь. А народная жизнь всегда практична и учитывает человеческие слабости. По-научному народная жизнь называется «традиционализм».
Традиционализм был удобен для среднего человека. Брак обеспечивал мужу и жене обильный секс, если они этого хотели, и детей, необходимых для поддержания государства. Все были довольны и терпели, если вдруг не всегда были довольны или не совсем. Всё же лучше, чем рыскать в поисках партнеров и женщине и мужчине.
Особые люди: обыкновенно художники, поэты, актеры — жили менее традиционно, либо совсем нетрадиционно: успевали за жизнь побывать в нескольких брачных союзах, разводились, женились заново. Их называли «богема», по имени области в Чехии, откуда пришли в Россию и Европу цыгане. Впрочем, цыгане пришли не только оттуда.
Сейчас живут иначе. Раньше были «традиционалисты» и лишь немногие «богема». Сейчас все «богема» и лишь немногие живут законом, данным Адамом и Евой, то есть «традиционалистов» значительно преуменьшилось. Нравы стали такие, что брак стесняет многих. Скольких? У меня нет статистических данных, но, глядя вокруг себя, я обнаруживаю большое количество неудавшихся, распавшихся браков и лишь небольшое количество состоявшихся, то есть осуществленных: есть дети, брак длится.
На вопрос, обязан ли мужчина жениться, мой ответ: мужчина обязан иметь детей. Несомненно. Что касается брака, то мои современники, да и я сам, часто путаем брак с вожделением, с плотской любовью. И когда она проходит (а рано или поздно, через два, либо дважды два, или больше лет, любовь всё же проходит), то, по нашему мнению, двоим бывшим возлюбленным вместе уже нечего делать. А надсмотрщика Бога над нами нет. И государство смотрит в сторону. Поэтому темпераменты раскаляются, союзы разрываются. Конец love story — конец брака.
В Австрии судили маньяка Фритцля. Ему семьдесят три года. Он изнасиловал впервые свою дочь, когда ей было одиннадцать лет. Когда ей исполнилось восемнадцать лет, он поместил дочь в подвал, где продержал ее двадцать четыре года, в прошлом году ее освободила полиция. Это как же надо вожделеть собственную дочь, чтобы насиловать ее тридцать один год подряд! Это история насилия, но и love story с его стороны. Фритцль получил за свою звериную любовь пожизненное заключение. А вы говорите — «брак»! Она родила ему в подвале семерых детей!
«Ой, какая!»
22 мая 1980 года я столкнулся в аэропорте Кеннеди в Нью-Йорке с актрисой Настасьей Кински. И сумел поругаться с ней. Мы оба опаздывали на рейс компании PANAM в Париж. Я оттолкнул ее, чтобы первым бросить свои веши на ленту, влекущую багаж к контролю. «Леди — первые!» — обиженно воскликнула она. «Еще чего!» — парировал я. В самолете она поместилась в первом классе, а я в экономе. Я летел завоевывать Париж, а она его уже давно завоевала. Я подумал тогда, что встреча эта принесет мне удачу. Так и случилось. Помимо удачи, Кински мне очень нравилась, я долгие годы был ее фанатом. Теперь она уже старая.
До 2005-го мне нравилась Моника Беллуччи. Я заметил ее с фильма «Малена», где она играет сицилийскую красавицу, у которой муж-солдат на фронте. Действие происходит во Вторую мировую войну. И жизнь показана глазами влюбленного в красавицу Малену мальчика-подростка по имени Ренато. Как влажный, трепетный цветок из оранжереи, ходит по улицам сицилийского городка Малена. Столкновение красоты с некрасотой — вот таков конфликт фильма. Трудно, адски тяжело женщине отстоять свою красоту в суровом мире уродов — мораль фильма.
Еще один фильм с Моникой «Сколько ты стоишь?», пожалуй, повторяет «Малену». Герой актера Бернара Кампана выигрывает вдруг в лотерею пару миллионов евро. Он знает, куда деть выигрыш: отправляется в ночной клуб, где влажный, трепетный цветок оранжереи — итальянка продает каждую ночь свое тело. Кампан — ничем не примечательный лысый мужик под сорок — покупает девушку. Однако за ней тянется ее прошлая жизнь: она, оказывается, подружка местного мафиози Жерара Депардье…
Говорят «с лица воду не пить», а с лиц красавиц как раз пить можно. С лица Беллуччи — одно удовольствие, и со всех остальных частей тела — пей, не напьешься. Кинокрасавицы — это мужские мечты на экране. На них хочется смотреть неотрывно, но также и обладать хочется, иметь в постели. Последнее желание, впрочем, для храбрых только.
В апреле 2005 года, а именно 15 апреля, я познакомился с самой красивой актрисой российского кино, с Екатериной Волковой. Беллуччи скромно отошла в сторону. Спустя четыре года сурово констатирую, что на актрисах, на своей мечте, жениться не следует. Следует их обожать со стороны, вздыхать о них, и пусть они будут недоступными. Катя родила от меня двоих чудесных, неземных детей, но это уже другая история.
Кинематограф — это вообще сказка на ночь. Вырастая из затрепанных детских книжек и из мультфильмов, мы — грубые создания — верим во влажные, трепетные цветы оранжерей, глядим на них с упоением из глубины темных залов либо в одиночестве кабинета. Вот, подвергаясь страшным опасностям и диким приключениям, пробирается по жизни женщина-цветок. До чего же она хороша… И она хороша тем более, чем больше опасностей на нее сваливается.
Было бы ошибочным вдруг развести тут на бумаге занудный фрейдизм. Сексуальность красоток-актрис далеко не самое в них главное. Основное — что они работают, каждая — мечтой, чудесным, приятным сновидением. Чтобы рот открыть полным идиотом и еле выдавить: «Ой, какая!»
Похоть и политика
Вначале — несколько исторических справок, вырванных из истории наобум… По меньшей мере два великих политика, воина-завоевателя, были гомосексуалистами и не просто предавались пороку в ночи, но и выделялись тем, что кипящая страсть принуждала их принимать политические решения. Это Александр Великий Македонский и Фридрих Великий Прусский.
Ну и что, что гомосексуалисты!.. Кипящая страсть важна. Великая Клеопатра вручала судьбу Египта вместе со своим телом своим любовникам — императорам Рима. О страстях и пороках Тиберия, Нерона и блистательного Калигулы — до сих пор галдят народы, упоенно лицезрея голливудские productions. Екатерина II Великая меняла своих фаворитов с затянутыми в рейтузы приборами, как у жеребцов, зачастую меняя и курс политики России. Французский политик, президент Жорж Клемансо, по прозвищу Тигр, героически умер в возрасте восьмидесяти восьми лет во время сеанса оральной любви с женщиной тридцати шести лет. Каждому французу известно, что любовница приходила к Тигру дважды в неделю, что он принимал ее в небольшом алькове за кабинетом и там же и умер под ласками подруги. Если правда, что Лаврентий Берия снаряжал экспедиции в поисках красоток на московских улицах, то и пуританская большевистская Россия не ударила в грязь лицом, как говорят, «в этом вопросе». Для Великого Мао в последние годы его жизни устраивались танцевальные вечера, где помимо музыкантов присутствовали лишь юные солдатки Китайской народной армии. Мао наблюдал за девушками из-за ширмы. В какой-то момент он появлялся, выбирал себе партнершу, танцевал с двумя-тремя солдатками, затем, продолжая танцевать, исчезал с одной из них за ширмой. Это документально известно.
Депутаты парламентов не являются по сути своей политиками и в большинстве своем выглядят бесполыми. Это потому, что у депутатов нет власти, а политика — это власть. Но те, кто отвоевал власть сам, в огне заговора, революции либо войны,— страстные люди. Что римские императоры, что мужеубийца — некрасивая, но величавая немка Екатерина, что удивительный крестьянский император Мао. Таким людям от природы дана повышенная витальность и лошадиная страсть, утолить свою похоть они не могут и в старости. Дело в том, что необычная мощная энергия великих политиков включает в себя составной частью и повышенный плотский инстинкт — похоть неутолимую. На поприще похоти, на лугах, на полях похоти резво прыгают жеребцами и сатирами не только там поэт Пушкин или живописец Пикассо (в возрасте шестидесяти четырех лет он имел трех молодых любовниц!), но и великие политики. Неутолимая тоска плоти терзает их ежечасно, может быть, больше, чем поэтов. Множество жен имели китайский Мао, югославский Тито, Хуан Перон of Argentina, Муссолини of Italy, John Kennedy of USA… И каких жен! Тзян Цинь — бывшая актриса, политик-радикал, один из четырех злых гениев культурной революции, Йованка Броз — бывшая охранница Тито, офицер и актриса, Эвита Перон — актриса, Клара Петаччи — актриса, Жаклин Кеннеди…
В свою очередь женщинам до безумия нравится власть и мужчина, ее олицетворяющий. Клару Петаччи считали пустой, избалованной актриской, а она предпочла быть расстрелянной с Муссолини, хотя могла уйти. Но не ушла… Осталась в истории. Показывают дом и кровать, где они провели последнюю ночь.
Мне все эти адские парочки безоговорочно нравятся. Антоний и Клеопатра, Цезарь и Клеопатра, Мао и Тзян Цинь, Хуан Перон и Эвита Перон, Джон Кеннеди и Жаклин Кеннеди, Кеннеди и Мэрилин Монро, Тито и Йованка Броз с темными сросшимися бровями. Их связывала похоть. Я предпочитаю слово «похоть». Оно сильнее слова sex.
Смерть и любовь над миром царят
О тантризме в наше время, по-моему, не слышал только ленивый. Упрощенная суть тантризма сводится к тому, что просветления, или нирваны, или самосовершенства (в зависимости от степени откровения) можно достигнуть не только аскетизмом и воздержанием, но и, напротив,— избытком греха, излишествами плоти. В культе тантризма очень существенным элементом является половой акт, поскольку тантристы считают, что занятие любовью является мощным целительным и тонизирующим средством. Так как занятие любовью включает совместное использование и генерацию жизненной энергии человека. Сексуальная практика, согласно тантризму, тесно связана с физическим и умственным здоровьем, а еще помогает совершенствовать духовные способности.
По преданию, тантра пришла на землю Индии через танец бога Шивы на его свадьбе. В результате танец свелся к 84 тысячам эротических поз, но их можно выполнить только в измененном состоянии сознания. Потому во время тантрических практик употребление вина, мяса и наркотиков (имеются в виду традиционные растительного происхождения наркотические растения и травы) было широко распространено. Современные тантристы, в особенности европейские и российские, всячески открещиваются от наименования их практических занятий сексуальными оргиями. Я склонен верить, что подавляющее большинство тантрических школ не практикуют во время своих занятий половой акт. Однако судите сами: вся мифология тантризма покоится на любовных отношениях бога Шивы и влюбленной в него его вечной супруги богини Кали.
Начнем с Шивы. На священных изображениях тантр Шива представлен с рыжими волосами и рыжей бородой. Его голову украшает медный шлем с козлиными рогами, руки и ноги его в крови, а тело покрыто пеплом. В одной руке он держит человеческий череп, наполненный вином, а в другой — палицу с остатками человеческой головы на ней. Символ же Шивы, изначальное его тело (или его тонкая сущность) — это лингам (фаллос).
Теперь о возлюбленной Кали (она же богиня смерти). «Она… черна. Ее местопребывание — место сожжения трупов. У нее растрепанные волосы, иссушенное тело и устрашающий вид. У нее впалые красные глаза. Она держит в правой руке череп, наполненный вином, и в левой — свежеотрубленную голову. С улыбающимся лицом она постоянно жует сырое мясо. Ее тело увешано различными украшениями. Она нагая и всегда опьяненная вином. Обычное место для поклонения ей — это место кремации, где поклоняющийся должен совершать ритуалы, будучи обнаженным».
Даже этих сведений хватит, чтобы понять, что боги тантризма — боги жестоких оргий. Даже если отвлечься от черепов и принять их за символические выражения любовных страстей, действительно стоящих близко к смерти (как лучшие из нас знают). Европейский и российский тантризм, конечно, выхолощенный вариант, практикуемый бледнолицыми и хладнокровными братьями у себя на Севере.
«Махамудра-Тилака» рекомендует выбирать для тантрических упражнений девушек не старше двадцати лет, так как старше они уже лишены «тайной силы». Чем младше, тем лучше — советует «Махамудра-Тилака». Интересно, согласны ли с этими советами современные индийские законодатели? «Махамудра…», впрочем, была написана во тьме веков.
Любовь в своей неевропейской нехолодной версии, безусловно, связана с большим количеством мистического насилия, впрочем, редко доходящего до кульминации. Козлиные рога Дьявола видятся женщине на голове любимого, может, и не каждого любимого, но бывает. «Ее» красные глаза я видел под собою во тьме не единожды, у нее — нагой, и всегда опьяненной вином. Некоторые и жевали, как жуют сырое мясо. Подчинить себе чужой дух — более или менее ярко выраженное желание яростных мужчин и женщин. Любовь — поединок, а также акт грязный и кровавый тоже. Не гигиеничный, как бы ни старались американцы. Но исполненный жестокой трагедийности и пронзительных прозрений.
В заключение — стихотворение:
Смерть и Любовь над миром царят,
Только Любовь и Смерть.
И потому Блядь и Солдат
Нам подпирают твердь
неба. Горячие их тела
(он — мускулистый, она — бела,
так никого и не родила,
но каждому мясо свое дала)
переплелись и пульсируют вместе.
Ей — безнадежной неверной невесте —
В тело безумное сперму льет,
Зная, что смерть там она найдет.
У Бляди мокрый язык шершав.
В щели ее огонь.
Солдат, отрубатель и рук и глав,
Он семя в нее, как конь…
Она ему гладит затылок,
И он извивается, пылок…
Прекрасные еврейки
На вкус да цвет товарищей, как известно, нет. Первый же «вкусораздел» — это деление орды мужчин на фанатов либо блондинок, либо брюнеток. Помимо этих двух категорий есть меньшая: экзотические женщины. Так, однажды на одну ночь со мной осталась (дело было в Нью-Йорке) женщина — потомок ацтеков. Она была явственно краснокожей, все части тела у нее были как тыквы: две тыквы грудей, две тыквы (и очень крупные) — ягодиц, странная и красивая тыква лица, изумительно узкие ноготки. Она была, скорее, красивое экзотическое животное, чем человек, помню, что с ней было страшно.
В России самыми близкими экзотическими были женщины из племен евреев и цыган. Но цыган еще где там иди найди, либо в таборе, либо в ресторанном хоре, а вот дочери еврейского народа всегда были рядом. Русский человек — человек северный, по натуре хмурый и невеселый. Поэтому его так и тянуло и тянет еще к цыганам — горячему индийскому племени, выселившемуся в незапамятные времена из Индостана и пришедшему возмущать и веселить русские и европейские души. Мальчиком на окраине города Харькова я познакомился с оседлыми цыганами, а чуть позже приятель мой Толик Толмачев долгое время встречался с юной цыганкой Машей (он вскоре женился на ней — поступок для русского человека, скорее, опрометчивый) и хотел, чтобы я встречался с ее младшей сестрой, но что-то у нас тогда с сестрой не сладилось.
Еврейское племя притягивает и возмущает русского человека уже многие столетия. Эти выходцы из Египта, а вероятнее всего, самые что ни на есть стопроцентные древние египтяне, невозможно экзотичны. Даже те их женщины, которые оевропеились, всё равно брызжут в глаза Древним Востоком. Они и на ощупь иные и пахнут по-иному. У них все инстинкты иные, чем у женщин моего, русского племени. Если в русской женщине преобладающий психотип — трогательная беззащитность, которую одним мужчинам хочется защитить, другим — обидеть, то дочери еврейского народа чаще всего требовательно агрессивны. (Юные еврейки также бывают трогательно беззащитны, но куда реже русских.) Экзотическая, тенистая бездна эти девочки и дамы, надо сказать. Некоторые из них замечательно развратны.
В меня, на протяжении моей жизни, бывали влюблены красивые и страстные еврейки. Чем-то я им нравился. Возможно, тем, что был разительно иной, чем мужчины их племени. Надо сказать, что своим успехом у дочерей еврейского народа я гордился. Перефразируя и переворачивая известное из Бабеля, восторженное о русских женщинах, похвалюсь: «Я мог провести целую ночь с еврейкой, и дочь еврейского народа оставалась мной довольна».
Меня всегда возбуждали еврейки. В них есть какая-то тайна. Я же говорю, на самом деле эти выходцы из Египта и есть древние египтяне. Разве не зовут их пророка Мозес (сравните: Рамзес, Тутмос)? Египтяне они, египтяне. Иная крупноглазая, с гористым профилем, белая, как козье молоко, девица, как будто только что освободилась от бинтов мумии, ожила, налилась соками и мерцает сильными страстными глазами из-под крупных век. Тайна есть, а ведь именно тайна необходима как условие для сильного влечения и возбуждения.
Еврейские девочки немало помогли мне в моей жизни. В тяжелые для меня времена непризнания и лишений мои экзотические подруги давали мне в дар свои загадочные тела. Если вы читали «Дневник неудачника», то вы знаете об этом.
«Ты можешь отложить очередь кого хочешь из них…»
В прекрасной Франции идут общественные баталии по поводу ношения фуляра, он же хиджаб,— головного платка французских мусульманок. Французское правительство намеревается запретить ношение хиджаба в школах и в общественных учреждениях. Мусульман во Франции далеко не горстка, но девять с половиной миллионов, и они постоянно высказывают свою непокорность (уже несколько лет мусульманская молодежь сжигает ежегодно сотни автомобилей, протестуя против полицейского насилия), потому фуляр — это большая проблема. Запрет на его ношение грозит волной насилия. Между тем этот черненький скромный платочек — лишь светская версия полного наряда мусульманки — знаменитой паранджи. Паранджа покрывает всё тело от лица до щиколоток. У бедных женщин она бедная и пыльная, у богатых — поражает изысканностью. Паранджу российские туристы могут наблюдать в Арабских Эмиратах и в Саудовской Аравии.
В русской литературе хиджаб и паранджа известны со времен покорения Кавказа, то есть уже несколько столетий, и, как правило, и полный, и усеченный вариант объединены под словом «чадра». Есенин писал: «незадаром мне мигнули очи, приоткинув черную чадру», помните? Словари пишут, что женщины в мусульманских странах носят свою чадру-паранджу-хиджаб «из культурно-религиозных соображений». На самом деле цель ношения этих одежд — скрыть тело женщины от взглядов других мужчин. В современной же Франции платочек-фуляр, конечно, не имеет целью скрыть тело, но является отличительным религиозным признаком мусульманки. Запрещать его, по-моему, не нужно, европейцы уже давно одичали и в погоне за якобы толерантностью стали нетерпимыми варварами. Например, история с датским художником-остолопом, позволившим себе оскорбить карикатурами пророка Мухаммеда, поражает беззастенчивой наглостью этого жалкого европейца. Он что, не мог избрать других тем для своих карикатур, ему понадобилась фигура великого пророка и проповедника, которого почитают едва ли не полтора миллиарда человек?
Но вернемся к хиджабу-парандже-чадре. За «мигнувшие очи» алкоголик-поэт Есенин мог (это было в Баку в начале двадцатых годов) заплатить жизнью, случись это в суровом Иране, куда его фантазия поместила чайхану, чайханщика с толстыми плечами и обладательницу мигнувших очей. В Иране adultéré наказывался и наказывается смертью. Без чадры женщина может появляться только перед близкими родственниками. В суре «Сонмы» сказано: «Делаете вы что-нибудь открыто или скрываете это, не имеет значения, ибо, поистине, Аллаху всё известно. Не совершат греха жены пророка, если будут появляться открытыми перед своими отцами, сыновьями, братьями, сыновьями братьев, сыновьями сестер, прислуживающими женщинами и своими невольниками». И только; от всех иных взоров женщина обязана скрывать себя. На прогулку и в магазины она отправляется только в сопровождении родственников.
Конечно же, в подобных условиях европейский флирт не имеет места быть вовсе. Ни в городских кварталах Эмиратов, ни в чеченской либо ингушской деревне, ни в афганской деревне, ни в суданском каком-нибудь Хартуме. Это не плохо и не хорошо, это иные обычаи. Нас они считают распущенными, развратными язычниками, я полагаю, погрязшими во грехе. А мы, разводя руками и хихикая, рассуждаем о четырех женах, которых пророк Мухаммад разрешил иметь правоверному мусульманину, точнее, передал им волю Аллаха по этому поводу. Более того, Аллах установил и очередность принятия мусульманином на его ложе его жен, и случаи отступления от правил предусмотрел. В той же суре «Сонмы» приводятся слова младшей жены пророка Аиши: «После ниспослания того айята, в котором сказано: «Ты можешь отложить очередь, кого хочешь из них, и можешь принять кого хочешь, а что касается той, которую пожелаешь ты из тех, кого ты удалил, то не будет в этом греха для тебя», посланник Аллаха обычно спрашивал разрешения у той жены из нас, очередь которой была в тот день, если хотел пойти вместо нее к другой». Всё предусмотрено, как видите. Варвары — это мы.
Dark energy
Познакомился я с ней в книжном магазине, куда меня позвали представлять мою новую книгу. Она подошла, представилась, я подписал ей книгу. Она обратила на себя мое внимание тем, что была очень тщательно одета и накрашена. Все мои подруги того времени носили джинсы и ограничивались умыванием утром. На этой была шуба (!), а под расстегнутой шубой — вечернее платье. Я подумал, что ей лет тридцать.
В один из скучных вечеров я позвонил ей. Мы договорились, что она приедет на выходные, потому что она жила в Петербурге. Она приехала. Мало накрашенная и в джинсах. Баз особых проблем, рассчитанно «отдалась» «любимому» писателю. Оказалось, ей на семь лет меньше, на семь лет затягивали шуба, платье и окраска. Каждая новая женщина — это новая тайна, которую нужно разгадать. Не следует только влезать в тайну так, что уже не выберешься. Я знаю, что не следует, но порой увлекаюсь. В два приема она переехала ко мне. Оказалась холерического темперамента юной пиковой дамой, то есть натуральной ведьмочкой, которая работает ведьмой по призванию, а не по желанию причинять зло. После нескольких месяцев скорее счастливой и удовлетворенной совместной жизни я вдруг обнаружил, что нет мне от нее ни сна, ни отдыха. Что она не нуждается даже во сне, и круглые сутки качает из меня жизненную энергию. Ясно было, что ведет она себя так не со зла, но иначе она не может. Если в первый раз, когда она скреблась в двери моего кабинета ночью, я был свеже поражен, обнаружив ее в белом парике, белых чулках, белых трусах, за дверью, то впоследствии, в черт знает какой полусотый раз обнаруживая ее там, я стал ее бояться. Если я не платил ей вниманием, она плакала, ссорилась и скандалила. На помощь ей приходил алкоголь.
Думать тут было не о чем. Она хотела каждую минуту присутствовать в моей жизни. Я же был не против того, чтобы она присутствовала в моей постели, но превращаться в муху, высосанную she-пауком, я не хотел. Будь я молодой человек, я, может быть, оттягивал бы неизбежное решение, колебался бы. Но такой продукт тяжелой жизни, как я, понял, что есть только один выход.
Я вызвал ее, дал ей две недели сроку, после которого она должна была покинуть общее наше жилище. Затем я пригласил старшего моего охранника, огласил при нем мое решение, назвал дату и попросил выбросить ее, если она вздумает замешкаться.
Вначале она сделала вид, что ищет себе квартиру. Однако день эдак на десятый она, эпатируя меня, пролежала в ванне полдня, а выйдя, заявила, что не уйдет и что, мол, сделаешь?! Тут она встала в своем кокетливом пеньюаре ведьмочки и дергала одной ногой, улыбаясь. Я сказал ей, что я ей всё сказал, отныне ею займутся охранники. Жесткие снаружи, добрые внутри, парни мои собрали ей ее вещи, и ровно на четырнадцатый день ей пришлось отбыть.
Уже на пути к выходной двери она попыталась зайти в мой кабинет попрощаться, слезы на глазах. Старший охранник сказал ей спокойно, что делать этого не надо. Не следует.
Еще год, наверно, она звонила мне и писала мне на «мыло» то злые, то страстные послания. Она была в отчаянии оттого, что такая вкусная муха ушла из ее паутины невредимой.
Нет, она милая, страстная девочка. Она не виновата, что она — темная энергия, dark energy, что нет ей самой покоя ни на минуту, и никому от нее покоя нет. Вот так вот я четыре месяца прожил с энергетическим вампиром. Даже когда я умудрялся заснуть, я чувствовал ее взгляд на моем черепе. Она хотела меня всего, включая мои мысли. Думаю, если бы я не предпринял решительных мер тотчас же, я бы погиб вскоре. Несмотря на то что я очень сильный организм, я думаю, она бы меня погубила. И искренне бы недоумевала, отчего это «любимый писатель» вдруг откинулся. По профессии она была стриптизерша. А училась на фокусника.
Преодоление космического одиночества
Одна моя подруга рассуждала как-то вслух: «Женщина — впускает, мужчина — входит». С первого взгляда — вроде вульгарная физиология. Однако, отвлекшись от вульгарной физиологии, понимаешь, что психологически так и есть. Она впускает, он входит. Два пола — это два вида человека. Один нацелен на проникновение, другой — на впускание. Он — должен быть настойчив, она — уступчива.
Ясно, что к этой чисто целевой схеме поведения двух полов в нашей (назовем ее «европейской») цивилизации примешивается влияние цивилизации, смещающее цели и усложняющее поведение. Некрасивая женщина сговорчивее, красивая имеет высокую цену. Богатая дама впускает после сложных церемоний. Феминизм несостоятелен уже потому, что без соблюдения физиологических ролей не может быть удовольствия.
У меня есть одна догадка. В былые чопорные времена прошлых веков говорили «физическая близость», имея в виду половой акт. Обращу тут внимание на определение «близость». Ну конечно, это то самое проникновение, когда мужчина входит, женщина впускает. Учителя в старших классах школ и в вузах объясняли нам необходимость физической близости исключительно инстинктом продолжения рода. Инстинкт продолжения рода существует, не отрицаю его, однако я верю, что этот инстинкт просто пристроился к другому, куда более мощному инстинкту. А именно к инстинкту преодоления космического одиночества человека. Удовольствие от «секса», как сейчас это называют, собственно и происходит от преодоления изначального космического одиночества, соединения с другим существом. Удовольствие — следствие преодоления. Именно поэтому мы (как мужчины, так и женщины) вовсе не обязаны быть очарованы партнером, вовсе не обязательно, что он нам нравится, чтобы подходил интеллектуально, был одного с нами уровня культуры или физического развития. Одиночество преодолевается и с неприятным партнером. И в случае насилия, уж простите великодушно мне неприятную правду. А вот рожать ребенка от неприятного партнера женщина не хочет, тем более от насильника. А преодолевать космическое одиночество необходимо довольно часто, без этого человек вянет и хворает. Соединяясь с другим существом, он (она) как бы заряжает свой жизненный аккумулятор.
Обыватель часто сально подшучивает над соединением двух полов. Между тем это основная мистерия жизни, преодоление космического одиночества. В юности изнеженные мужчины, бывает, пытаются отказаться от своей ролевой агрессивности. Этого делать не надо. Столкновение полов задумано как конфликт: он рвется войти, она хочет впустить, но сопротивляется. Всё это — необходимые условия, правила мистерии.
Цивилизация всё более разводит «постель» и реальный мир. Действительность постели: он — агрессивный, она — податливая и в конце концов уступающая, всё более расходится с реальностью европейской цивилизации, в которой женщина бывает зачастую влиятельнее мужчины, может больше зарабатывать, иметь под своим руководством сотни мужчин, играет зачастую куда более крупную социальную роль. А вот в мусульманских странах уклад реальной жизни всё еще зеркально отражает действительность постели.
То, что европейская цивилизация отошла от заданных изначально параметров поведения двух видов человека — мужчины и женщины — и всё более выравнивает их, наверняка не пройдет даром для человечества. Наверняка вскоре мы почувствуем негативный set back. Возможно, снизится желание двух видов человека обладать друг другом. Возможно, исчезнет страсть. Тогда мы вымрем. А дети, рожденные без страсти, в пробирках, будут серыми, квелыми и плаксивыми.
«Ухажеры» и дамы
Женщины в России — существа привилегированные. Их хотят, а они вроде случайно тут оказались… Я не раз наталкивался в России на презрительное и снисходительное отношение женщин к мужчинам.
Как-то, год назад, в одном интервью мать моих детей назвала меня «донором», похвалив, дескать, «хорошим донором оказался». Где она подцепила этот феминистский фашиствующий жаргончик?.. Но мне было очень обидно, я помню. Ведь первый наш ребенок — сын — плод страсти и любви, второй — девочка — плод страсти и, может быть, ненависти. Но уж никак не «донором» был я ей — матери моих детей. С тех пор я раздумываю, почему даже самые захудалые русские девушки высокомерно относятся к соискателям их благосклонности. И пришел к выводу, что это — традиция.
У народа нашего, циничного и материалистического, если судить по пословицам, песням и поговоркам (несмотря на прославленную русскую душу), издавна существует сомнительное выражение «ухаживать за девушкой» и образованное от него существительное «ухажер». В знаменитой песне коробейник ухаживает за вышедшей к нему девушкой довольно умело, не тратя слов даром, раскладывает перед нею «все товары»: «ленты, кружева, парча». Девушка выбрала, что хотела, и отдалась коробейнику. «Знает только ночь глубокая, / Как поладили они. / Расступись ты, рожь широкая, / Тайну свято сохрани», резюмирует песня. То есть тайна в том, что коробейник закупил девушку на ночь.
Еще слово «ухаживать» отсылает нас к медицинскому жаргону. Ухаживают ведь за больными, подносят им утку, несут еду, кормят с ложки, если больной не может есть сам.
В сумме мы получаем следующую модель поведения русского мужчины: в своем стремлении получить благосклонность female он приносит материальные дары, а также служит female своего рода медбратом: кормит (ведет в ресторан), приносит ей, как больному или ребенку, сладости, забивает для нее гвозди и вкручивает шурупы в ее квартире, передвигает мебель. Круг его забот столь же широк, как и у медбрата в больнице. Она же всегда ждет забот и подарков.
На мой взгляд, подобное отношение к she, к female, унизительно для нее и коррумпирует его. К тому же для него эти правила — военная хитрость, внушенная традицией, появившейся на свет черт знает когда, когда еще и коробейников и ресторанов не было. Ну понятно, что новые, свежие поколения наших соотечественников окрашивают эту старую мещанскую половую комедию в новые цвета. Он приглашает ее не в ресторан, но на концерт рок-группы, они идут после в «Макдоналдс», где платит всё равно он, и тому подобная новизна… Однако годам к сорока мужчины и женщины всё равно сваливаются в наезженную предками колею: он — соискатель ее тела, приносящий ей шкуры зверей и сочные куски мяса, за это она ложится с ним на шкуру.
Когда я оказался в Соединенных Штатах Америки, то заметил, что на их земле отношения между полами уже иные. Американка настаивает на оплате половины ресторанного счета или своего билета на концерт, чтобы сохранить свою независимость, чтобы не быть «больной», объектом «ухаживания». Если ты ей нравишься, она без стеснения протянет к тебе руку. Покупка женщины — удел слаборазвитых стран. Для американки мужчина — partner, она исходит из здорового основополагающего принципа, что удовольствие от любви, от сексуального акта получают обе стороны: и женщина, и мужчина. Русская же традиция покоится не на принципе удовольствия обоих, но исходит только от удовольствия мужчины, которое он обязан (вынужден) себе купить. А дама делает вид, что она тут случайно оказалась.
Моя покойная талантливая подруга и жена Наташа Медведева в Париже, помню, мне с ужасом рассказывала о своих беседах с приезжавшими из СССР русскими женщинами. «Все разговоры, Эдвард, только о том, кто и как «развел» своего мужика и на что. Хвастаются друг перед другом, эксплуататорши!»,— возмущалась она. Дело в том, что оба мы, подкидыши, попали на Запад еще молодыми (ей было семнадцать лет) и потому усвоили более современный и куда более честный подход к акту любви. Его хотят и наслаждаются им двое, тогда почему же одна сторона (мужчина) должен унижаться и оплачивать секс? И разве эта родная русская традиция не смахивает подозрительно на некоторый вид проституции? Признаемся себе, что да.
Мы не намерены отказываться от удовольствия
«И посмотрел Бог на землю, и вот, омерзела она, ибо мерзким делает всякая плоть свой путь на Земле / И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти приходит пред лицо Мое, ибо наполнена земля скверной от них, и вот, Я смету их с земли». (Книга Бытия, глава 6-я). То есть еще в незапамятные времена, следующие непосредственно за сотворением человека. Бог устроил нам зачистку. Он наслал на Землю Всемирный потоп, уничтоживший всякую плоть за исключением обитателей Ковчега. В Ковчеге находился «Ной праведный муж, совершенен был в трех поколениях; С Богом ходил Ной». Все установки авраамических религий (христианства, иудаизма и ислама) исполнены этим омерзением к плоти нашей создавшего нас Господа. Зато Ему, Господу народов Европы и Азии, поразительно дорога наша душа, о спасении которой он неустанно печется. Традиционные верования и учения Индии — индуизм и буддизм — также неблагосклонны к плоти, несколько тысяч лет борется буддизм против тела, забивая его аскетизмом, добиваясь отсутствия желаний, погружая его в коллективное бессознательное нирваны.
Совокупление мужчины и женщины морально разрешено авраамическими религиями лишь для целей продолжения рода. Иногда это совокупление обставлено трагикомически, как у сверхортодоксальных иудаистских сект, когда муж и жена имеют секс через простыню с прорезанной в ней дырой. Плоть в авраамических религиях насквозь греховна. Гностические секты II и III веков так же, как секта катаров или альбигойцев в XI–XIII веках, проповедовали безбрачие и полный отказ от продолжения рода. Таким образом они признавали греховной и омерзительной саму жизнь. Интересно, что катары принимали «крещение» на смертном одре. Христианство в их исполнении стало религией смерти. Однако, если подумать, и я не первый и не последний, кто пришел к этому выводу, сами принципы христианства (вера в огромное значение «греха», в воскресение праведников на Страшном суде, когда вся жизнь является лишь приготовлением к смерти) есть принципы религии смерти. Только неисполнение этих принципов в практической жизни спасло христианизированную часть населения планеты от полного исчезновения.
Конечно же, понятие «греха» возникло из желания нашего Творца (сверхсущества, природа которого неясна) контролировать нас. Никаких иных целей, кроме контроля, я лично не усматриваю в поведении Создателя человека. Шестьсот с лишним иудейских заповедей видятся мне как первый уголовный кодекс в истории Земли, призванный смирить эмоциональную природу человека. То, что заповеди были введены властями религиозными, авторитетом пророков, а не властями гражданскими, объясняется лишь отсутствием в те далекие времена властей гражданских. Сам Создатель убоялся наших страстей и заставил нас принять заповеди. Религии — суть смирительные рубашки на человеке.
Я пришел к выводу, что человечество нуждается в глубоком переосмысливании себя самого, переосмысливании создания человека, смысла этого создания и личности Создателя (на самом деле, если исходить из текстов Книги Бытия, был Главный Создатель и его группа). В вышедшей в 2008 году (и непонятой моими современниками) книге «Ереси» я попытался совершить это переосмысливание. Я утверждаю, что человек — биоробот, созданный Создателями — сверхсуществами — как энергетическая пища. Они вывели нас как пищу для самих себя, использовав как основу фауну Земли, ее элементы. В пищу они используют не нашу плоть, но наши души, потому так много воплей о спасении души издают служители религий. Цель человечества — найти своих создателей, выведать у них странную тайну нашего создания, победить их. «Мы, возможно, съедим их и станем бессмертными»,— цитирую самого себя.
Человек восстал против своих создателей сразу же после создания. Отведав плод с Дерева добра и зла, он приобрел разум. Впоследствии он восставал снова и снова. Коллективно пыхтел над строительством Вавилонской башни, которую Бог разрушил и смешал языки, чтоб восставшие не могли договориться. Но мы, бравый и сильный вид, научились передавать знания от мертвых живым. Нужный им процесс нашего размножения мы превратили в нужный нам процесс нашего наслаждения. И не намерены отказываться от удовольствия.
Старые русские
Старые русские
Я люблю окаменелости, метеориты, первые в мире живые существа (тоже окаменелые), кремневые ножи, древние молотки и топоры там всякие. При их лицезрении у меня возникает священное почтение ко Вселенной. Признаваясь в своей страсти время от времени особо доверенным лицам, я стал получать в подарок уникальные вещи: например, позвонок ихтиозавра с прилипшими к нему осколками ребер. Разумеется, кость полностью на молекулярном уровне замещена камнем, но это точнейший слепок с матрицы позвонка ихтиозавра. А у вас есть позвонок ихтиозавра? Ну вот, нет, конечно, а у меня и позвонок динозавра есть. У меня есть несколько метеоритов, только Сихотэ-Алинских четыре. Два слипшихся вместе аммонита в возрасте 160 миллионов лет у меня есть, так же как и скромненький трилобит, с двумя рожками такой, размером с фалангу большого пальца, ему больше 400 миллионов лет. Для сравнения: моему сыну Богдану — два года.
Пару недель назад я отправился, закупив вина и жареную курицу, в гости к своему приятелю Николаю Николаевичу. Охранники подняли меня на лифте в его квартиру, а он меня уже ждал. Охранники ушли ждать меня в машину. А мы уселись за крупный круглый стол. На столе была еда на старинных тарелках, ножи и вилки, которых нынче и в музее не найдешь, такие у них странные маникюрные кончики. И вилки, о, какие у него вилки! Элегантные, как костлявые англичанки, как леди Диана была, только старые и тусклые. (Чистить до блеска не надо, это вульгарно — начищенные приборы, мы же не новые русские!) Два старых русских, мы стали беседовать. Как и я, Николай Николаевич помешан на древностях и окаменелостях, только я в сравнении с ним — как начинающий первоклассник в школе древностей, он, что называется, мэтр. На стенах у него висят всякие жуткие палицы, топоры, а все горизонтальные поверхности и шкафы заполнены древностями. У него есть загадочные вещи: так, например, вытянутый, эллипсоидной формы совершенно черный камень, аккуратно прорезанный по длине и по ширине глубокими линиями. Возможно, это астрологический инструмент древних людей. Возможно, это некий древнейший математический прибор. У него есть яйцо динозавра! У него есть русский боевой топор с Чудского озера, выкованный из «болотного железа». Вы знаете, что такое болотное железо? Правильно, сгустки его наши далекие предки собирали в болотах, расплавляли и делали топоры и сражались с Тевтонским орденом.
В тот вечер Николай Николаевич подарил мне красную турецкую феску с кисточкой, и мы продолжали обед в таком виде. Посмотрев на мои кольца, Николай Николаевич встал, вынул из шкафа свой парадный обсидиановый (не ручаюсь за написание) перстень и надел его. «Чтобы не чувствовать себя ущербным»,— сказал он. Время от времени он вынимает перстень и надевает его в моем присутствии. Почему он не носит его постоянно, не знаю. Может, боится потерять.
Когда мы закурили голландские тонкие сигарки «кафе-крем», Николай Николаевич покашлял и сказал:
— Сегодня, Эд, я покажу тебе мою коллекцию древних каменных топоров. Ты видел некоторые из них.
— А один ты мне даже подарил, Николай, ты не забыл?
— Так вот, поверь мне, у меня, возможно, самая обширная в мире коллекция каменных топоров.— Николай Николаевич как-то боязливо поглядел на меня, словно не веря себе.
— И ты все эти годы скрывал от меня?!.
— Я не был уверен,— он выпустил клуб дыма, да такой густой, что дремавший на кушетке у стола его шотландский рыжий сеттер по имени О’Нил, в просторечии Нолик, чихнул.— Пойдем, я покажу тебе коллекцию,— он встал.
Мы затушили голландские сигарки и вышли в его кабинет. Он стал открывать шкафы и показывать мне эти чудесные топоры, изготовленные в конце III — начале II тысячелетия до нашей эры на территории Восточной Европы и России. Топоры были изготовлены из базальта, диорита, серпентина, диабаза, сиенита и даже кварцита, то есть из твердейших самых что ни на есть валунов. И все они были просверлены. С одной стороны топор был топором, а с другой — представлял из себя молоток. Для чего они служили древним, понять невозможно. Вряд ли они служили орудием убийства людей или животных. Скорее всего, они символически определяли владельца как племенного вождя.
— Видишь, они просверливали отверстие костью. Большой костью. Берцовой. Вот недосверленный экземпляр. Возможно, пришли враги и убили художника…
Мы бережно передавали друг другу экспонаты. Мы уважительно держали в руках плоды трудов древних художников. Большинство экспонатов не превышали в весе полкилограмма, но некоторые затягивали и за пять.
Мы вернулись к столу и выпили за человеческий гений и терпение. Формы топоров были элегантны и совершенны, не к чему было придраться. У этих древних был безупречный вкус. Ни один топор не был похож при этом на другой.
— Костью сверлить, видимо, уходили месяцы, если не годы,— сказал я, подумав.
— А куда им было девать время,— задумчиво заметил Николай Николаевич.— Как твои отношения с женой?
— Стабилизировались. Деньги даю. Иногда гуляю с детьми.
— Н-да… Может, водки выпьем, Эд? У меня неважные отношения с детьми.
Я приучаю моего друга к вину, но он теперь приноровился начинать со мной с вина, а затем переходить на водку.
— Я продолжу с вином. Дети — это уже не мы, что можно требовать от других, отдельных существ.
— Нельзя требовать,— согласился он.— Вот Нолику всегда три или четыре года, он всегда нуждается во мне как в папе, я ему нужен для того, чтобы жить.— Нолик поднял голову, зевнул и легко спрыгнул с кушетки. Подошел к Николаю и лизнул ему руку.
В углу окна за моей спиной появилась луна. А может, она там и была.
— Подпиши мне «Ереси»,— сказал Николай,— вот, я приготовил тебе ручку.
— Я же подписывал тебе летом.
— Ту книжку у меня кто-то украл в деревне.
Я послушно подписал. У Николая есть все мои книги, и все они подписаны мною.
— Я прихожу к выводу, что ты прав, Эд. Создатели создали нас, чтобы питаться нашими душами. Недаром все религии уделяют такое внимание душе.
— Фауст, заметь, продает свою душу дьяволу. Дьявол и Господь соревнуются в борьбе за души людей. Христианство больше всего озабочено спасением души…
Так мы сидели с ним вдвоем за столом, накрытом красной скатертью, два благообразных седых джентльмена. Старые русские. В спину мне светила луна.
Апология чукчей
Чукча не читатель и не писатель, но воин-самурай. Когда я приземлился в Америке в феврале 1975 года, я стал с упоением смотреть две категории фильмов: фильмы о гангстерах и фильмы об индейцах. Российское кино, пробудившись от советского сна, сделало сотни лент о российских гангстерах, а вот о наших индейцах — племенах Крайнего Севера Азии — фильмов вовсе нет. Судьба не сделала из меня кинорежиссера, а то бы я показал нашим робким душам из кино, что нужно снимать.
Я бы, конечно, снял фильм о воинах-чукчах, они достойны не одного фильма. «Немирными чукчами» назвали их казаки, покорявшие в XVIII веке Сибирь. Заставив малочисленные народы Севера платить ясак — дань, русские дошли до крайнего северо-востока Сибири, там, в долинах рек Колыма, Анадырь, Похач, они обнаружили чукчей.
1701 год. В России правит Петр Великий. Некто «сын боярский Алексей Чернышевский отправил своих людей на Анадырский нос». Казаки нашли там поселение чукчей, тринадцать юрт. Казаки потребовали платить русскому царю ясак. Чукчи сказали: «Никому мы ясак никогда не платили и платить не будем. Идите отсюда!» У казаков были пушки, и они пушками воспользовались. Но чукчи сражались отчаянно, не боялись пушек. Десять человек потеряли убитыми. Женщин и детей казаки взяли в плен. Пленники вели себя как римляне времен гордой древней республики. Они душили себя и друг друга, закалывали медными кинжалами. Свобода или смерть! Смерть, смерть…
На следующий день тот же отряд, командовал ими казак Алексей Чудинов, увидел на берегу холодного океана около трехсот готовых драться чукчей. Чукчи стояли насмерть, потеряли двести человек убитыми. Казаки решили, что теперь уж чукчи смирятся, будут платить ясак. Но ровно на следующий день лагерь казаков окружили около трех тысяч чукчей, на оленях и пеших, и напали на казаков и их союзников из племени юкагиров. Чукчи, оказалось, владеют тактикой монгольского боя, только олени заменяют им лошадей, чукчи умело наносили удары с флангов и сражались целый день. Они загнали казаков и юкагиров в неудобное для сражения место, окружили. Семьдесят казаков и юкагиров погибли. Оставшиеся в живых пять суток держали круговую оборону. На шестые вырвались из окружения. Чукчи на оленях долго гнались за казаками, подстреливая их из луков.
Вооружены чукчи были луками и стрелами, копьями, но были у них в военном арсенале и оружия, сходные с японскими. Так, они бросали во врага звезды из кости, казаки называли их «костянками», умело попадали в шею и в лицо противника, убивая наповал. Сегодня воинов-чукчей назвали бы «ниндзя». Воины были непревзойденными мастерами камуфлирования, могли сутками оставаться незамеченными среди ледяных торосов и мрачных кочек.
Русские стали строить на земле чукчей поселения. Всё это происходило по рекам Колыме и Анадырь. Чукчи совершали набеги на поселения. В 1729 году началась чукотская война. Посланный на Колыму отряд Афанасия Шестакова был разбит, казачий голова пал на поле боя. В 1731 году из Анадырской крепости (главный русский плацдарм на земле чукчей) выступил к Ледовитому океану отряд Павлуцкого. Казаки одержали три победы над чукчами, вернулись в крепость с богатой добычей: тысяча оленей и триста женщин-чукч. Женщин отправили в Якутск. Уже в первый день покончили с собой две сотни. До Якутска удалось довезти не больше десятка пленниц.
Война продолжалась, втягивая в себя и другие племена Северо-Восточной Сибири. Чукчи стали нападать на союзников русских — каряков. Известен большой набег 1738 года, когда чукчи «многих разорили», угнали оленей. В 1741 году казаки разгромили войско чукчей. Шесть лет чукчи залечивали раны. В 1747-м ударили по карякам опять. Всё тот же Павлуцкий снарядил в поход большие силы и бросился в погоню за чукчами. С авангардом в восемьдесят казаков он оторвался от своих основных сил. Обнаружил чукчей на месте, называемом Юкагирская сопка. Чукчи дали бой и, перебив всех русских, включая Павлуцкого, оторвались от погони.
Война бушевала, страшная экзотическая война в ледяном климате, с летающими костяными звездами, неукротимыми и свободолюбивыми чукотскими девами, и закончилась победой чукчей! В 1764 году царское правительство посчитало свои убытки. Помимо тысяч казаков и их союзников каряков и юкагиров, погибших в этой войне, только на содержание Анадырской крепости было израсходовано 1 400 000 рублей. Доходы же составили всего 29 152 рубля. Царица-немка хорошо умела считать.
Анадырскую крепость срыли, колокола с церкви перевезли в Среднеколымск, а затем в совсем уже непонятный Гижигинск.
Чукчей оставили в покое. Постепенно, деваться некуда, они всё же вынуждены были вписаться в мир рядом с ними. Так они стали приезжать на Большой Анюй на весеннюю ярмарку, где выменивали свои шкуры, сушеное мясо, тюлений жир и рыбу на железо, табак и… огненную воду, конечно.
Немногие специалисты-историки об этом не пишут, но я полагаю, что огненная вода сыграла самую страшную роль в замирении храбрых и умелых воинов. За два с половиной века секреты воинской подготовки, позволявшие маленьким жилистым воинам с копьями и луками побеждать вооруженных огнестрельным оружием и пушками солдат-казаков, были утеряны. Вряд ли их знают чукчи Абрамовича. Это была воинская подготовка, которой позавидовали бы и ниндзя, и монахи хваленого Шаолиня. Эх, какой бы получился фильм, да не один, о чукотской войне, если бы у нас нашелся чукча-кинорежиссер.
Нельзя закрывать глаза, Эд!
Я получил революционера вместе с квартирой. Оставляя мне ключи, маленький Борис Кушер сказал:
— Вот еще что, тут иногда приходит ко мне переночевать революционер, Володька Гершуни. Держи, Эд, окно в большой комнате незакрытым. Он проходит по крыше угольного склада. Ночью приходит, утром уходит. Он тебе мешать не будет.
И Кушер ушел с большой сумкой. Он был добрый парень и, чем мог, помогал нам, людям искусства. Сам он работал инженером и жил у своей девушки. Квартира на первом этаже в углу здания школы, крошечная, она кишела мышами, досталась Борьке от отца — директора школы. Школа, кажется, и сейчас стоит в Уланском переулке, но достроенная и перестроенная, а сам Уланский застроен офисными высотками. В квартире Кушера по очереди жили мы, поэты и художники.
Революционер пришел уже под утро. Я услышал из микроскопической спальни скрип оконной рамы в соседней комнате, осторожно, чтобы не разбудить подругу Анну, вылез из постели. «А! Что?!» — вскрикнула Анна и опять уснула. И вышел к нему. Мне хотелось на него посмотреть. Шел 1968 год.
Он был бородат, сидел босиком на тахте и выворачивал карманы своего плаща. Доставал из них затертые бумаги.
— Подпольная литература? Добрый вечер,— сказал я, и мы обменялись рукопожатием.— Я Эд.
— Подпольнее некуда. Ты Марченко «Мои показания» читал, Эд?
— Слышал, но не читал.
Он соединил вместе несколько комков бумаги, разгладил их и дал мне стопку.
— На! Читай! Даю на сутки. Страшная книга.
Бумага была, как тогда говорили, папиросная, текст на ней, напечатанный на машинке, был едва различим.
— Вы, говорят, перевертыши пишете? Борька говорил.
— Да, в тюрьме пристрастился… Гимнастика для ума. Баловство… За Чехословакией следишь? «Хронику» читаешь?
— Что за «хроника»?
— «Хроника текущих событий». На! Прочтешь. Спать пора. Рассвет скоро.
Он сунул мне в руки еще стопку измятых бумаг. Убрал все предметы с тахты. Снял с нее плед. Улегся. Накрылся пледом. Красно-черный плед был коротким. Босые ноги торчали. И борода с другой стороны.
В следующую ночь он не пришел. Появился в последующую. Марченко я прочитал и был дико зол на него за то, что он мне «это» подсунул. Я всё время думал о том, что прочел. Книга таки оказалась страшной.
На его вопрос, какое у меня впечатление, я сказал:
— Жуть. Мрак. У нас на Салтовском поселке многие сидели. Они такого не рассказывали. Это что, всё правда?
— Я Толика знаю. Всё правда. Встряска полезна. Чтоб знал, в какой стране живешь. Тебе лет двадцать?
— Двадцать пять.
— Еще не поздно, точнее, самое время. А то вы все, поэты, в своем соку варитесь.
*
Сквозь толпу времени вижу себя, длинноволосого молодого человека, стоящего у притолоки двери. Чернобородый Володька сидит (всегда босиком) на тахте. На нем простая темная рубашка либо черный видавший виды пиджак. Мы дискутируем. Я нападаю. Он спокойно отвечает. И переделывает меня на свой лад. Меньше года я прожил в Уланском у Кушера. Вселился в конце лета 1968-го, выселился поздней весной 1969-го. Тогда моим всеподавляющим занятием, моей страстью, моей темой были стихи. А чернобородый революционер, влезая в мой мир через окно, смущал меня и испытывал и истязал другим миром. Я оборонялся и не хотел. Он сбавлял тон и, смеясь, рассказывал, как только что вместе с его другом Пашей (Литвиновым) они ушли от «гэбэ» подворотнями.
— Не знают, что там есть сквозной подъезд. Может, до сих пор стоят!— хохотал он.
Кушер сказал мне, что Володька — племянник знаменитого эсера-террориста Гершуни. Я видел, что Володька — достойный представитель своей семьи. Ему было тогда тридцать восемь лет, он уже успел к тому времени отсидеть лет семь. Тюремные годы опростили и огрубили его, я был юноша, а он — сильный, несломанный, жесткий, принципиальный мужик. У него были яркие, что называется, «сверкающие» глаза.
В ту осень все спорили о Чехословакии. Я считал, что «мы», советские, правильно вошли туда только что.
— Эд, тебя гоняют с квартиры на квартиру, как зайца! Ты мне вчера рассказал, как вы сбежали с Анной из квартиры на Открытом шоссе, потому что к соседям пришли гэбэшники и потребовали, чтобы соседи стучали на вас, вынимали из мусорного ведра твою использованную копирку. Ты хочешь жить так всегда, бегать? В чем ты виновен? Ни в чем! Прописки не должно быть, люди должны жить свободно. А свобода наша начинается в Чехословакии… Если мы подавляем чешскую свободу, то наше освобождение не наступит никогда. Нельзя закрывать глаза!
Из-за него я прочел все первые выпуски «Хроники текущих событий», карманы Володькины были всегда набиты «Хроникой». Разделы «В тюрьмах и лагерях», «Аресты, обыски, допросы» окрашивали действительность в мрачные тона. Я противился этому, я даже бывал рад, если он вдруг не появлялся несколько суток. За это время я успокаивался, писал стихи, пил вино и водку с поэтами-СМОГистами. Но если его долго не было, я чувствовал неполность жизни. Когда он появлялся наконец, я сам спрашивал его:
— Новой «Хроники» нет, Володя?
Он, довольный, улыбался и извлекал из бесчисленных карманов комки папиросной бумаги.
— Что, прикипел к информации?
Поздней весной 1969 года я выехал от Кушера. Пора было и честь знать. Бесприютных приятелей у Кушера был не я один. Не знаю, достался ли Володька по наследству новым жильцам Кушера, помню только, что в октябре 1969-го мы узнали, что Гершуни арестовали. Наказание он отбывал в Специальной психиатрической больнице в городе Орле. Тогда у карательной машины КГБ стало модным «лечить» диссидентов в психушках. Володька подвергся насильственному лечению, ему кололи аминазин и галоперидол. Когда он вышел из-за решетки в октябре 1974 года, меня уже не было в России, я в это время уже жил в городе Вене. Знаю, что в следующий раз революционера арестовали в 1982 году. Сидел он в Казахстане где-то, вышел в перестройку в декабре 1987 года, а умер в Москве в 1994 году.
Когда меня арестовали в 2001-м, в апреле, я вошел в камеру № 24 тюрьмы Лефортово и немедленно вспомнил о нем. Ровно тридцать три года понадобилось, чтобы я вдруг почувствовал глубокую связь с этим человеком, который искушал меня в моей юности нашим страшным и страстным русским миром. «Нельзя закрывать глаза, Эд!»
Грабители
Накануне Нового года они пошли резать сумки. Кот, Эд и Гришка. Гришка был самым младшим из них, но самым высоким и самым наглым. Он беспрестанно курил папиросы, плевался, сморкался и был вечно простужен. Еще он был сутул, как складной ножик, и только что освободился из колонии для малолеток.
Кот был парнем с технической жилкой, он пылко мечтал стать Большим Вором, но физически на роль Большого Вора не годился, был удручающе невысокого роста и несерьезно конопат. Свой физический недорост он компенсировал склонностью к придумыванию и изготовлению орудий воровского труда, всяких отмычек и открывалок.
Эд был худощавый подросток романтического склада, он писал стихи. Отец его был на самом деле «мусор», хотя и носил военную форму. Эд своего отца стеснялся, но Кот и Гришка знали, что его отец мусор, и им было всё равно, что отец Эда служит в конвойных войсках. Стоял мороз, и очень крепкий мороз, какой нередко бывает под Новый год в Левобережной Украине, когда висит большая луна и воздух как лед царапает щеки. Снег скрипел под ногами, потому что был в состоянии превращения в лед.
На срезание сумок они вышли с ножницами и палками, изготовленными Котом. Правильно собранные палки и ножницы собирались в такую рогатку многометрового роста, могущую дотянуться вплоть до третьего этажа. Достаточно, чтобы подрезать сумки и авоськи с продуктами и напитками, вывешенными обывателями из форточек.
Они совершали такие походы перед каждыми праздниками. Обыкновенно добыча была богатой: колбаса, сыр, рыба, водка и вино. Обыватель запасался на праздники лучшими из возможных продуктами и, чтобы продукты не протухали, вывешивал, идиот, свои продукты «за окно». Так говорили тогда: «возьми за окном». Ну, там, если сын-подросток просил есть, мать отвечала стандартным «ешь котлеты, возьми за окном».
Сегодня им не везло. Они срезали только одну жидкую сумку и в ней замерзшие до степени каменистости жалкие сардельки. Их даже резать оказалось невозможным, не то что жевать.
Повозившись с сардельками, грязно ругаясь и отплевываясь, Гришка еще и шумно сморкался; они поняли, почему им не везет. Мороз был такой сильный, что обыватели благоразумно убрали свои сумки и авоськи с продуктами из «за окна». Правильно решив, что продукты вымерзнут.
Они стояли у недостроенного никогда стадиона, в тени недостроенных никогда ворот, и ругались так плохо и так негативно, как только могут материться замерзшие подростки. Воспроизводить их ругательства нет нужды, поверьте, это были очень грязные ругательства.
— Я понял, парни,— сказал вдруг Гришка; это «парни» было его речевой характеристикой, он привез «парни» из колонии.— Я понял, не только мороз, не один мороз. Настали новые времена, козье племя накупило себе холодильников. Они теперь хранят продукты в холодильниках.
— Ну не все же? (Кот)
— Не все, но всё большее количество. (Гришка)
— Мать иху! (Эд)
— Иху мать! (Гришка)
— Дальше ходить нет смысла. (Эд)
— Грабанем кого-нибудь? (Гришка)
— Чем? (Эд)
— Есть чем (Кот). Я выкрасил пушку. Высохла…
— Она всё же деревянная (Гришка), вес не тот. Ты ему в плечо, а он чувствует, что нужной тяжести нет. Несерьезно.
— А нужно давить сильно (Кот). Сверху вниз. Клиент будет чувствовать давление и примет его за тяжесть железа.
— Ты бы лучше усилил его железом. (Эд)
— А я усилил (Кот). Гирьку распилил и вмонтировал в ствол и рукоять.
— Дай! (Гришка)
Выйдя из темноты под воротами, подростки рассматривают муляж пистолета ТТ, сделанный Котом с пистолета отца Эда, мусора.
Одеты они жалко, Эд и Гришка в затрепанные пальтишки, Кот в черной фуфайке, на буйных головах подростков старенькие потертые шапки. Эд донашивает отцовские брюки с невыпоротым багровым кантом войск МГБ. У Гришки залатанные поверху ботинки, что свидетельствует о совсем уж бедности. У него только мать, да и то глухонемая, работает уборщицей. Гришке тринадцать лет. Коту и Эду по пятнадцать, но Гришка по развитию выше их. Он много читает и побывал вот в колонии для малолеток. Одевались после войны, впрочем, все плохо, потому тогда сплошь и рядом «раздевали» зазевавшихся поздних прохожих, одежда стоила дорого. Пальто носили десятками лет. Война ведь только что кончилась. Все ходили по улицам бедными, как персонажи Диккенса или Достоевского.
Со стороны: три оборвыша стоят в тени недостроенных ворот стадиона. Снег бело-синий, вдалеке единственный высокий фонарь с желтой лампой, но есть луна.
— Луна, мать ее… (Гришка) Пушку возьму я. Я выше вас. И я психованный. У меня и справка есть. И ругаюсь я — страшнее.
Последний аргумент — самый веский. Уличное ограбление непременным элементом включает в себя важнейший первый этап. Следует напугать клиента, ошеломить его, сразу же подавить. Гришка и до колонии ругался по-страшному, а из колонии уже такие ругательства привез, что здоровым мясникам на Конном рынке не по себе делается. Гришка знает очень грязные, самые грязные ругательства. У женщин ноги трясутся от ужаса.
— Ладно, давай ты. (Кот)
Кот все-таки главный в банде. Молчаливый крепыш, майорский сын все-таки уважаем ими. И Эдом, и Гришкой, и Вовкой-боксером, и Гариком-морфинистом, у Гарика мать — медсестра, и он пристрастился к морфию. Сегодня не все в сборе.
— Палки оставим тут (Кот). Григорий, отдай Эду свой нож.
— Я бы с ножом остался. (Гришка) Пушка-то не «гав-гав».
— Против кого ты будешь с ножом, клиенты же жидкие… (Кот)
Переругиваясь, они огибают достроенный кирпичный забор недостроенного стадиона. Вдоль забора обыкновенно идут от трамвайного круга с последней остановки трамвая редкие в такое время прохожие. Здесь есть еще один вход на стадион, но уже не парадные недостроенные ворота, а просто проем в заборе, но никакой калитки, ледяной ветер задувает и отдувает туда-сюда.
— Здесь и станем. (Кот) По глотку хотите?
— Что же ты молчал-то! (Гришка) Я совсем околел!
— НЗ. (Кот)
Водка согревает. И луна уходит в тучи, тучи ее проглатывают. Но вот прохожих нет. Правда и то, что трамваи ходят с большими промежутками, часто запаздывают, и в это время прохожих немного.
Им бы по домам, и, возможно, каждый по-отдельности ушел бы и улегся. На чем они спят на родительской жилплощади? Обычно на диванах, занавеска отделяет родительскую кровать, за еще одной занавеской бабка и малолетние сестра-брат. Но их трое, и они стесняются друг перед другом. Водка согрела, но ледяной сквозняк со стадиона пробирает до костей.
— Идут. (Кот) Но двое. Мужик и баба.
— Двоих не потянем. (Кот) Баба орать будет. Ждем.
— А может, сделаем их? (Гришка)
— Я говорю — не потянем. (Кот) Ты забыл, что две бабы нам устроили летом, у моста… Нет.
Летом у моста они, правда в большем составе, попытались ограбить двух хорошо одетых женщин с яркими украшениями в ушах и на запястьях, но женщины подняли животный крик, им пришлось самим спасаться бегством, всей банде. Потом они стыдились друг друга до самой осени. Каждый думал: ну какие же мы молодые бандиты, если две орущие армянки нас распугали.
— Нужно было армянкам врезать тогда. (Гришка)
— Ты тоже об этом думаешь? (Эд)
— Переоцениваю, извлекаю урок. (Гришка)
— Идет какой-то щуплый. Шапка на нем дорогая. Пыжик.
— Его-то нам и надо. В крайнем случае шапку возьмем.
Щуплый в пыжике идет к ним долго. То ли на самом деле не торопится, то ли напряженным нервам подростков кажется, что он приближается медленно. Обычно в это время прохожие спешат миновать недостроенный стадион, ограбления тут не раз случались. А этот не спешит.
Они грамотно дают ему миновать проем в заборе и набрасываются на него сзади.
— Стой, сука, мать-мать-перемать, убью, мать. Твою мать! (Гришка)
Гришка изо всех сил жмет муляжом черного ТТ в плечо щуплого. Кот и Эд схватили щуплого за руки. Расстегивают ему пальто.
— Пошевелишься — убью, мать-мать-перемать твою, гада мать, перхоть ты поганая!— рычит Гришка.
Эд проникает в многочисленные карманы пиджака и пальто щуплого. Несколько рублей, паспорт почему-то с собой.
— Ребята, вы чего, я получки еще не получал. Пустой я. Шапку возьмите, а я домой, меня семья ждет. Ребята, а? (Щуплый)
— Проверьте брючные у него тоже. (Гришка)
— Паспорт у него зачем-то. (Эд)
— Посмотри прописку. (Гришка)
— Ребята, возьмите шапку, она новая. За нее нормально дадут. (Щуплый)
— Он тут рядом живет. Материалистическая, 23, квартира 3. (Эд)
— Рядом совсем, третий дом отсюда. (Щуплый)
— Мы идем к тебе в гости. (Гришка)
— Ты что, псих? (Кот — Гришке) Берем шапку и уходим!
— Согреемся у него и уйдем. (Гришка) Я околел, кости даже болят.
— Пошли ко мне, мальчики. (Неожиданно соглашается Щуплый) У меня и водка есть, и закуска. С дочерью познакомлю, она вашего возраста…
— О, у него и «товар» есть дома. (Гришка)
На языке того времени «товар» был синонимом современного «телка». Чаще употреблялся во множественном числе: «товары».
— Пошли. (Кот) Паспорт твой пока у нас будет. Будем уходить — вернем.
Гришка снимает муляж с плеча щуплого, просовывает руку под хлястик его пальто, и так они идут, как обнявшиеся пьяные. Эд и Кот сзади.
— На кой мы туда идем, мать-перемать. (Кот) Григорий — псих ненормальный.
— Зайдем, выпьем и уйдем. (Эд, примирительно) Очень уж холодно.
— Не нравится мне эта идея. Лучше б не заходить. (Кот)
Кот оказывается очень прав.
Квартира номер три на первом этаже. Щуплый звонит несколько раз, и как-то по-особому звонит.
Кот смотрит на Эда, Эд на Кота. Нарастает тревога.
— Сейчас откроет. (Щуплый. Он улыбается)
Дверь распахивается. На пороге — здоровый мужик средних лет. На мужике — «москвичка», такой буклированный полушубок на вате, модный в те годы у провинциалов. «Москвичка» распахнута, грудь у мужика голая, а за поясом у мужика… топор.
— Вот, привел сопляков, ограбить хотели!
— Проходите, грабители. Сейчас мы вам бошки отрубим! (Мужик в «москвичке»)
В то время как он произносит эту страшную фразу, мужик уже втягивает в квартиру Гришку. Из-за спины мужика выскакивают не один и не два, а может, пять мужиков, втаскивают троих подростков в квартиру.
Девочка-подросток там действительно есть, неизвестно, дочь Щуплого или нет. Девочка улыбается и включает радиоприемник (с зеленым глазком) на всю мощность. Шаляпин: «Милей родного брата блоха ему была!.. Блоха-ха-ха-ха-ха!»
На подростков падают удары. Бьют, бьют, бьют. Но не режут и не убивают. Кровь, сопли, распухшие сбитые носы и месиво из губ.
— Хватит. Коза, убавь Шаляпина, (тот, что в «москвичке»)
Шаляпин уже поет «А ночь пришла, она плясала, пила вино и хохотала…»
— Вставайте, сопляки. (тот, что в «москвичке») Получили урок, и будет. Злой, налей пацанам по сотке! И закусить поставь. Грабители, мать-перемать-мать-мать! Птенцы вы…
Тот, что в «москвичке», снимает «москвичку». Топор кладет на стол. Разглядывает муляж ТТ.
— А что, неплохо сделан, (тот, что в «москвичке») Веса только не хватает. Такие вещи нужно лить из свинца. Злой, налей и мне, я с сопляками выпью!
*
Через час их выпроваживают на улицу. Теперь им не холодно, но больно. Они пьяные.
Они отходят подальше от злополучного дома и в недостроенном стадионе оттирают окровавленные физиономии снегом.
— Вы поняли, мы попали на воровскую малину. (Кот)
— Хорошо не на мусорскую. (Гришка)
— А ты молчи, Григорий, мать-перемать-мать, из-за тебя всё и случилось. (Кот)
— Кто же мог знать? (Гришка)
— Голову надо иметь на плечах, а не кастрюлю. (Кот)
— А чего же вы за мной пошли? (Гришка)
— Слабость проявили. (Эд, задумчиво) Сколько они нам дали?
— Сейчас скажу, посчитаю. (Кот считает бумажки) Сорок рублей!
— О, совсем неплохо! (Гришка)
— Ну да, мне, кажется, зуб выбили эти урки. (Кот)
— По домам или продолжим, джентльмены? (Гришка)
— Не, будет, хватит на свою жопу приключений искать.
Кот делит деньги на всех плюс одна доля «на общак». Как у взрослых. Со стороны глядя: три оборвыша, персонажи лондонских романов Диккенса с жалостным сюжетом: «Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал».
Жмут друг другу руки и расходятся, сплевывая кровь.
Эд бредет один, мимо гаражей, мимо профтехучилища, намеренно замедляя шаги. Он не хочет появляться с окровавленной физиономией на глаза родителям. Хочет дождаться, когда они лягут спать. Тогда он умоется на кухне коммуналки и прокрадется в комнату, где ляжет спать, не включая света.
Проходя мимо единственной в поселке пятиэтажки, он сворачивает во двор. Там обычно сидят ночь-заполночь доминошники, стуча о ветхий стол, гоняют мяч подростки. Но в такой лютый холод там, конечно же, никого нет, уверен Эд. Он заходит во двор, чтобы убить время. И во дворе воистину никого нет. Пусто.
От мусорного бака с пустым ведром всё же идет живая душа, небольшая фигурка: Людка, рыжая девочка, училась с Эдом в одной школе, но перевелась в 123-ю.
— Эд, ты чего тут? (Людка)
— Да вот, тебя ищу. (Эд)
— А что у тебя с лицом? (Людка)
— Ничего. (Эд) Мужики побили, взрослые. Вот гуляю, не хочу с такой рожей родителям показываться.
— Идем ко мне, умоешься. (Людка) У нас никто не спит, гуляют.
Вскоре он уже сидит на большой кухне Людкиной семьи, пьют чай, Людкина мать жалобно промокает его разбитое лицо. Охает и ахает при этом. Сообщает, что нос сломан. Она — доктор, поэтому у них отдельная квартира.
— А мы холодильник купили как раз в самые холода. Не угадали,— говорит Людкина мать.
Действительно, в углу, на табурете, холодильник.
— Сейчас все покупают… (Эд)
«Мусор»
Когда живешь долго, то воспоминаний скапливается так много, что они переполняют пузырь памяти и прорываются оттуда сами по себе. При благоприятных обстоятельствах. Холодно сегодня. Сел к батарее спиной, налил себе бокал дешевого краснодарского красного вина, спина разогрелась, и вдруг… обнаруживаю себя пятнадцатилетним. Это 1958 год, сижу на коммунальной кухне в квартире по улице Поперечной в Харькове. В руке стакан красного алжирского вина. Справа от меня мне видны хромовые сапоги и синие галифе с кантом, продолжающиеся вверх объемистым брюхом под толстой исподней рубахой, подтяжки поверх, а выше, если задрать голову,— старая лукавая морда майора милиции Шепотько. Мы с ним увели пять бутылок алжирского с прошедшего вчера буйного празднования дня рождения еще одного соседа — слесаря Коли Макакенко, и вот наслаждаемся: старый хитрый «мусор» и я — подросток-хулиган. Мать моя ушла в гости, отец — на дежурстве в дивизии, Коля и Лида Макакенко уползли на завод, никто не мешает бухать.
Майор Шепотько — это кое-кто. Сейчас он — начальник вытрезвителя, сразу после войны был комендантом железнодорожной станции на границе с Германией. Нрав у него веселый и загульный, женщин у майора перебывало немеряно, до сих пор ходят, на них он, видимо, всё наворованное на этой станции и спустил. Он рассказывает с удовольствием, как потрошил со своей командой и маршальские вагоны, и солдатские вещмешки. Конфисковывал рояли и шмайсеры, и гранаты, и пистолеты, и даже пулеметы и картины великих живописцев. У него были особые полномочия, и даже большие чины предпочитали с ним дружить. Теперь он дружит со мной. Делится со мной добычей из вытрезвителя: всякими ножичками, брелками, цепочками и часами, снятыми с пьяниц. Протрезвев, пьяницы обычно спрашивают, где их деньги, где их часы, где ножички. На что майор невозмутимо отвечает: «Мы тебя, друг, пустым подобрали…»
Помимо того, что майор делится с мной добычей, он дает мне вволю общаться с его оружием, у него несколько трофейных пистолетов: вальтеры, браунинги; первый раз он дал мне в руки вальтер, когда мне было одиннадцать лет, правда, вынул обойму с патронами, и я бегал, щелкая вальтером в кошек и старух, к черной зависти соседских пацанов. Когда мой отец узнал о вооруженном сыне, то вызвал майора на серьезный мужской разговор. Майор, будучи старше моего отца лет на двадцать и много выше, потом смеялся только, но выносить свое оружие из нашей квартиры мне всё же запретил.
Ему тогда было лет пятьдесят пять. Старый, прокуренный, циничный, прожженный, это он вбросил мне в словарь слово «девка», он называл так всех молодых женщин. Стал называть девками женщин и я. У него я слушал на патефоне трофейные пластинки из Германии. Большинство были эмигрантские, Лещенко там сладкий, но были и немецкие, «Лили Марлен» была.
Два дружка,— чем-то я ему нравился, этому животастому, ну, детей-то у него не было. Он мне много всего рассказывал о своих проделках. Он был, если судить его по стандартам обывателя, весь изготовлен из пороков и недостатков. Самым мелким изъяном были его вонючие папиросы «Казбек», а еще одним — он слишком долго засиживался в туалете, покуривая свой «Казбек», и мы, соседи, вынуждены были стучать ему в дверь: «Майор, выходи!»
Весь из пороков: вор, взяточник, без сомнения и преступник, «мусор», он умудрялся быть обаятельным куском человека. Или обаятельным мелким дьяволом. Он просто и доходчиво рассказал мне о девках всё, что мне нужно было знать. Когда я в последующей жизни помнил его циничные заветы, у меня не бывало проблем с девками. А вот когда я размокал, сентиментальничал и воображал ту или иную особь женского полу Прекрасной Дамой, проблемы возникали. Майор рассказал мне исчерпывающе о женском белье. Объяснил. Какое белье должна иметь шлюха, что такое «отодрать по-офицерски». Он сам, как сейчас говорят, «торчал» на женских поясах для поддержки чулок, ну, знаете, были такие допотопные, с резинками. И в женских трусах он был специалистом, и в музыке, которую следует поставить в патефон в интимный момент. Плюс нескончаемым потоком из него лились воспоминания о его приключениях в Германии.
В сравнении с майором мой отец, несмотря на то что играл на гитаре и пел романсы, смотрелся как пуританин, сухарь. Ни он, ни моя мать со мной ни о каких девках не разговаривали и вино со мной не пили. На каждом человеке за жизнь налипает что-то от других людей. От майора на меня многое налипло. И его патефон с хриплой «Лили Марлен», два его огромных ковра из Туркмении, и сабля в золотых ножнах, и вальтер, конечно,— стальной зверек, и тугая мыльная пена на его щеках по утрам, когда брился, и его кашель, и глянцевые военные сапоги.
«Мусор» — называли милиционеров на Салтовке, в нашем рабочем поселке.
— Как там твой сосед-мусор?— спрашивали в школе одноклассники.
— А чё ему делается. Живет, веселый,— отвечал я.— Фотографии вчера показывал. Из Германии.
— Ну и как? Интересно?
— Люди лучше нашего одеты, хоть и война была. Девки в шляпах таких…
В тот день мы с ним налакались алжирского. Мать вернулась и решила, что я пьян. И устроила майору скандал. Обнаружилось, что майор тоже пьян. Он сказал, что мы пили врозь. Я сказал, что я только пришел и что выпил на танцах в Стахановском клубе, ребята угостили. Оба мы пьяно улыбались, а мать растерялась.
Каждый раз, когда мне доводится оказаться у жаркого радиатора со стаканом красного вина, я вспоминаю майора. И несет мне в лицо и в душу горячий воздух других жизней, часть из которых я, впрочем, умудрился прожить.
Что с ним сталось? Где-то году в шестидесятом он неожиданно женился. На красивой, высокой, полной женщине. Ну как королева упитанная она была. Женился и привел ее жить в свою двадцатиметровую комнату. Ладно бы одну, но с нею переехал ее сын, Володька, младше меня на несколько лет, высокий толстяк. Квартира, конечно же, не обрадовалась.
Майор, заимев семью, стал реже уделять мне время. Только мы, бывало, с ним усядемся — он с фляжкой коньяка — на обычные наши места на кухне: я у батареи, он — в углу на табурете,— тут же притаскивался Володька и садился рядом. Ну, в присутствии пасынка майор был сдержаннее, но коньяком меня угощал, бросая Володьке: «Ты еще не дорос!» Потом они переехали.
Ну конечно же, он давно уже на том свете, «мусор», мой друг. Не мог же он жить сто лет, а?
Выжили только двое
«Сталина снимают! Кран пригнали!» — закричал вбежавший в полуподвал мужичонка в вытертом пыжике на голове. Все мы, доселе смирно скучавшие на старых стульях, рванули к выходу, в дверях образовалась давка. Поругиваясь, мы все просочились через неширокую дверь и побежали за мужичонкой. Мне было малопонятно куда, но я бежал со всеми, никому не знакомый, но свой. Одинокий парижский писатель в толпе русских мужиков-коммунистов. Я пришел на улицу Куйбышева познакомиться с народным вождем Анпиловым, у меня была договоренность по телефону, вождь очень запаздывал, я сидел в обшарпанном полуподвале уже около часа, как вдруг вот оно, приключение.
Действительно, к бюсту Сталина был подогнан кран. И подозрительно нерабочего вида мужики неумело набрасывали на него металлические петли. Мужичонка в вытертом пыжике обернулся к нам, широко открыл бледный рот, обнажив его алые внутренности, заорал «Ура!» и призывно загреб рукой в сторону крана. «Ура!» — подхватили мы, включая меня; хотя я не кричал «Ура!» уже лет двадцать, у меня неплохо получилось.
Мы налетели, выхватили петли из их рук. Размахивая этими металлическими петлями, толкая и нанося удары, мы обратили их в бегство. Водитель крана заперся в кабине, и теперь наши облепили кран, стояли на его подножках с обеих сторон и стучали всё яростнее в стекла. Водитель завел мотор, и кран рвануло с места так, что стоявшие на подножках посыпались в снег. Весь сотрясаясь, старый кран улепетывал теперь по улице, опасно покачивая своей стрелой.
— Пусть валит! Ничего у них не вышло. Нам население отсигналило,— сказал мне мужичонка в пыжике.— Надо тут пост поставить. А ты из Бабушкинского райсовета будешь?
— Из Бабушкинского,— согласился я. Если б я сказал, что я из Парижа, мужичонка решил бы, что я демократ.— А Виктор Иванович сегодня будет?
— Должен подойти,— сказал мужичонка.— У тебя время есть? Мне надо пост выставить. Можешь подежурить тут, у бюста, поохранять? Часа через два я тебе смену пришлю.
— Меня бабушкинские послали к Виктору Иванычу. Не могу.
— Ну да, понимаю,— сказал мужичонка.— Кого-нибудь найду. Что-то мне лицо твое знакомое, я тебя по телевизору не видел?
— Нет,— отказался я.— Быть не может!
И вместе с довольными отбитой ими атакой демократов на бюст Сталина коммунистами я пошагал по снегу в штаб.
Анпилов уже был там, возле штаба. Он был окружен, как волк стаей собак, просителями.
— Я пойду спать,— закричал он вдруг,— я спать хочу! Час посплю, тогда попринимаю!
— Я журналист из Парижа,— прошептал я ему; я протиснулся к нему вплотную.
— Спать, спать хочу!— простонал Анпилов и сбежал по ступеням в свой заплесневелый штаб.
*
Познакомился я с ним уже в следующую ночь в гостинице «Москва», в номере депутата Сажи Умалатовой. Там мы, ужасные заговорщики, обсуждали планы. Ночью. Генерал Макашов, Алкснис, Илюхин, депутат Коган из Прибалтики. Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Мы готовили будущее. Почему меня никто не прогнал, не сказал: «Идите отсюда, журналист, вам здесь не место! Мы обсуждаем конфиденциальные планы…» Никто не прогнал. Помню, что часа в три ночи я расхаживал с генералом Макашовым по вестибюлю гостиницы, решая нечто важное.
Москва не спала вообще.
*
В пургу, под хлесткими ударами снежной крупы у станций метро на заметенных снегом столиках мужики выпивали, закусывали жирными замерзающими на морозе колбасками и кричали, кричали, перекрикивая ветер и пургу. И в два ночи, и в три — кричали, пили, закусывали. Доносились куски слов: «Ельцин… что, что Горбачев, что он?» Рядом терпеливо ждали обездоленные. Ждали, когда мужики опустошат бутылки, чтобы вцепиться в них. Совсем убогие подбирали объедки, все это на пронизывающем ледяном ветру. «Россия,— думал я,— какая захватывающая, мощная Россия! Сколько энергии!»
— Ельцин, да кто он, твой Ельцин!.. Стерлигов! Анпилов!
— Ты что, коммунист?— доносится от столиков, из-под пурги.
*
Я пришел в штаб Жириновского, Луков переулок. В вестибюле уборщица («консьержка», подумал я) сгребает мусор в старое ведро. Двустворчатые старые двери настежь.
— На каком этаже Либерально-демократическая партия помещается, не подскажете?
— Партия?— Уборщица подымает чухонский лик с презрительной улыбкой на нем.— Это эти-то сумасшедшие? Третий этаж.
В помещении ЛДПР холодно, и все ходят в пальто, и даже шарфы на шеях. Именно «ходят», в буквальном смысле, передвигаются в хаотическом с виду ритме.
— Вольфыч японцев принимает,— объясняет мне большелобый молодой парень с лицом ну вылитого Рудольфа Гесса, надо же, какое сходство.— После японцев вы зайдете.
Чтобы развлечь меня, делает мне тур по помещению. Здесь явно только что была коммуналка, партийцы лишь завезли старые офисные столы, шкафы и стулья, списанную, судя по ее плачевному состоянию, мебель.
— Здесь у нас отдел кадров. Начальник у нас полковник.— Из старого шкафа на нас глядят древние коробки с бумажками.— Картотека личного состава,— гордо говорит «Гесс».— Иван Иванович нам всё упорядочил.
Иван Иваныч, он же полковник, в потертом сером костюме стеснительно осклабился, ну, я имею в виду, что он чуть-чуть улыбнулся, улыбаться, видимо, не умея.
«Гесс» показывает нам свой кабинет: узкая комната с полуоборванными обоями, окно в нескольких секциях забито фанерой и картоном. От окна несет и холодом, и сквозняком. Выясняется, что «Гесс» — пресс-секретарь Жириновского. Показывает мне вырезки из газет — press-clips назвали бы за границей — в картонных папках.
«С канцелярией у них убого»,— констатирую я, а вот press-clips в изобилии. Жириновский (Вольфыч, Жирик) — яркая фигура, о нем много пишут, пресса всего мира.
— Садитесь, почитайте,— «Гесс» пододвигает мне стул,— а я взгляну пойду, не закончил ли Вольфыч с японцами.
Возвращается почти тотчас.
— Ну, припугнул их Вольфыч, ушли как ошпаренные. Вы, говорит, про Курилы забудьте, а то Хоккайдо отберем… Идемте, Вольфыч ждет вас.
Жириновский в бронежилете. Рыжеватый, плотный мужик. Как потом выясняется, он надел бронежилет, чтобы напугать японцев. Видимо, напугал. За его спиной — огромная карта СССР, чудовищного размера. Я таких ранее не видел. В карту воткнуты синие и желтые флажки, по-видимому, отмечая города, в которых уже существуют отделения ЛДПР.
— Давайте, прибивайтесь к нам, нам талантливые люди нужны,— говорит Жириновский. С глазу на глаз он серьезен и производит впечатление делового человека.
«Вот так просто это делается,— размышляю я, шагая домой на Большую Никитскую.— Вот так просто создаются партии. Всё бедное, стекла картоном забиты». На Большой Никитской мне сняли квартиру, две комнаты, обитые сосновыми планками, как в сауне. Советский шик то ли шестидесятых, то ли восьмидесятых годов. В том же доме находится журнал «Театр», на выходящую на улицу стену прикреплена черная театральная маска.
На следующий день либерал-демократы приезжают ко мне в гости. «Гесс» привозит свою посуду: вилки, ножи, бокалы. В съемной квартире столовых приборов всего по двое, потому привозят. Жириновского сопровождают именитые тогда партийцы (ни один не сохранился до наших дней). И Владимир Михайлович — его могучий телохранитель, отец двух взрослых дочерей. Легенда ЛДПР гласит, что Владимир Михайлович был телохранителем Брежнева, а позднее Брежнев «подарил» его афганскому лидеру Бабраку Кармалю. «Гесс» собственноручно изготавливает на кухне бутерброды. С колбасой, с сыром и с салом. Один из них, с салом, надкусанный и недоеденный Жириновским, я потом долго показываю приходящим ко мне гостям. Всем нравится.
*
Ольге семнадцать лет. У нее широкий расшлепанный носик, зеленые волосы, булавки повсюду и очень белая попа. Она рослая русская девочка с примесью еврейской крови, заехавшая в Москву из… вот не помню, откуда она изначально эмигрировала в Москву. Мы с Ольгой идем в сквот «Петлюры» — молодого украинского художника с диктаторскими замашками — на Петровском бульваре. Всё в России разрушено, старо, облуплено, некрашено, обваливается, воняет сыростью, старостью, помойкой, но разрывается, содрогаясь от энергии. Петлюра и его окружение — это черт знает что! Сброд хулиганья, отбросов общества, художников, девчонок, «слабых на передок», как говорил народ в старину, бездельников и опять девчонок и уродов. Масса уродов. Центром внимания служит некая пани Броня, уродливая бомжеватого вида старуха. Мы с Ольгой попадаем на ее свадьбу с молодым красногубым хулиганом. Апофеоз свадьбы — когда во дворе самодельный лифт подымает пару в темные небеса. И они там целуются под лучом прожектора, а снизу толпа кричит «Горько!». Пани Броня одета в балетную юбочку. Вальпургиева ночь отдыхает. Петлюра, маленький жилистый паренек с усиками, повелевает толпой, как батько Махно, без усилий. Намеками, улыбками, кивками… поощрением, неодобрением. Точно как бандитский украинский батько.
Мы уходим поздно, Ольга приглашает меня к себе. Это Уланский переулок, во дворе. На месте выясняется, что там тоже сквот, где жили некогда «многие люди», но сейчас живут две девочки: Ольга и Кристина. В мокрой холодной темноте — свет исходит только от окон соседнего дома, фонари отсутствуют начисто — мы шагаем по снегу и лужам (началась оттепель!) к месту жительства. Входим в оцинкованную незапертую дверь и попадаем в теплый подвал с тремя дверьми. Воняет кошачьей мочой. На одной из дверей крупный амбарный замок. У Ольги есть ключ. Внутри темно, но она зажигает свечу.
Гордо проводит меня по теплому воняющему сыростью и еще более сильно кошачьей мочой подземелью. Показывает. Находим ореховый ликер (на этикетке — косточка и надпись; язык, вероятнее всего, голландский). Пьянеем. Тискаем друг друга без особого желания, вынуждают обстоятельства: темнота, коптящая свеча, подвал, два humain beings противоположного пола. Следует совокупиться. Попа у нее всё еще холодная.
Приходит подруга и оказывается необычайно высокой, тонкой, смазливой девочкой. Подруга не одна, но не с молодым парнем, что было бы естественно, но с упитанным мужиком, по виду бюрократом, что неестественно. У него портфель, и в портфеле — водка. И еще хлеб. Черный.
Пьем, хохочем, пьем еще. Возимся трое в тряпках на одной постели: Кристина, Ольга, я. Куда подевался мужик-бюрократ — не ясно. Я вспоминаю о сексе. Но Ольгу так неистово вдруг начинает рвать, что love making невозможен. Ее просто трясет.
*
В подержанном лязгающем внутренностями автомобиле меня везут в театр. «Вы обязательно должны посмотреть «М. Баттерфляй», Эдвард»,— убеждает меня Шаталов, издатель моих книг,— они выпускаются, начали выходить пугающими тиражами: 150 тысяч, 250 тысяч, 200 тысяч… Но по причине шоковой терапии господина Гайдара я впоследствии не смогу купить на свои гонорары даже велосипеда… Судьба моих книг совпала с судьбой России, и это меня не радует.
Чтобы попасть в театр на улицу Казакова, нужно пройти по подземному переходу от Курского вокзала. Шагаем,— тех, кто, сопровождая, шел со мною тогда по переходу, начисто стерло время. Но вот переход,— о, этот чудовищный, опасный, населенный уродливыми персонажами отрезок, отросток, о, эта прямая вонючая кишка! Такое впечатление, что шагаешь по вокзалу времен Гражданской войны, где чумазое население свалилось вповалку в тифозной горячке. Пары алкоголя, адская вонь от нечистых людей, тянущиеся к прохожим грязные, цепкие руки, угрожающие костлявые грязные кулаки. Это уже не Гражданская война, это из иллюстрации к Дантову аду. В ответ на мои вопросы, почему власть не чистит эту клоаку, забытые мною спутники только отшучиваются. Спотыкаясь за ними на грязных скользких тропинках вдоль киосков (у киосков столики, там пьют, и хохот и мат, и хохот и мат…), я думаю, что русские — страннейший народ, они влюблены в свою грубость и безответственность, в свои ужасы. Они наслаждаются!
Мы приехали не в тот театр! Приходится вновь прошагать сквозь клоаку Дантова ада, но в обратном направлении. Попав, наконец, в нужный театр, я обнаруживаю там испорченный рай, кощунственно небывалый голос певца Курмангалиева, поющего в церкви арии однополой любви. «В церкви» — поскольку художник, оформлявший спектакль, сделал для спектакля back-ground из сочащихся таинственным светом витражей, имитирующих церковные. Результат: утонченная порочность. Голос Курмангалиева — музыка сфер; по воспоминаниям современников, музыкой сфер звучали голоса певцов-кастратов, всех этих Витори, Фолиньяти, Сато.
Когда после спектакля мы были выдавлены толпой на улицу, там ничего не было видно. Пейзаж исчез, была буря. Буря металась в темноте. Спектакль не контрастировал с Россией, их разделяла только дверь: снежную бурю, в которой хохотали и грязно ругались люди-звери, и музыку сфер.
*
Встал рано. Произвел осмотр своих вещей. Выбрал самые теплые. Позавтракал, вопреки многолетней привычке обходиться без завтрака. Доел бутерброды с салом, оставшиеся от визита Жириновского. Подумал и переложил бутерброды двумя рюмками водки. Отправляясь на демонстрацию в России в зимнее морозное утро, нужно было озаботиться температурой тела. Водка и сало — национальные средства для повышения температуры тела. Да и некоторый подъем бодрости духа ожидается. Спустился вниз на лифте. Сонный вахтер внизу открыл один глаз. Кивнул. День был воскресный. Улицы еще полупусты. Но уже шли группками и поодиночке упрямые, против ветра люди. Я подумал, что это, несомненно, участники демонстрации, мои соратники «красно-коричневые». Я попал в «красно-коричневые» по единственной причине — обожествление России. Когда у тебя есть святыня, ты хочешь ее защитить. Я шел защитить святыню, во мне парижский писатель был окончательно задавлен мальчиком, офицерским сыном, смотрящим на руины харьковского вокзала из окна дома на Красноармейской улице. Внутренняя борьба завершилась в пользу мальчика.
«Свои» и «наши» стекались ручейками, превращаясь в несколько рек. Самая большая текла к Белорусскому вокзалу. Я шел снизу, от «Пушкинской». По Тверской мне пройти не удалось. Невиданное количество войск, целый военный лагерь перегораживал дорогу. Пришлось идти параллельными улицами. За годы жизни вне России я забыл топографию Москвы, но безошибочно пошел за человеческими ручейками, за группами «своих», за мужчинами и женщинами с простыми лицами. Так же просты, как и лица, были их одежды. Впрочем, в те годы вся Москва выглядела поношенной. И я тоже в моем немецком бушлате моряка не выделялся. На голове у меня была кепка.
По мере продвижения к месту сбора — а заявлена была площадь у Белорусского вокзала — человеческая масса густела и смелела. Люди смело вступали в перепалки с контролирующими улицы подразделениями милиции и войск МВД.
«Холуи! Ублюдки!— кричали им из толпы.— Против народа идете! Кому служите!»
«Мальчишки совсем, а уже ни стыда ни совести! Подлецы!»,— старушка в очках подошла вплотную к алюминиевым щитам, за которыми стояли в мятых шинелях солдаты внутренних войск. Она, щурясь, разглядывала лица солдат снизу вверх. «Чему вас матери-то учили, против народа идти!» И старушка плюнула в солдат.
Солдаты морщились. Либо застывали в подобие гипсовых масок. Времена народовластия, по крайней мере декларируемого советской властью, были еще совсем рядом. Это теперь зачерствели лица и души, а тогда еще не зачерствели… Солдаты переживали, милиционеры нервничали.
Через Брестскую я вышел на Тверскую. А там! Там сплошным гудящим железным потоком шли под красными флагами «красно-коричневые». Снега не было, но был ледяной ветер, вырывающий из рук несущих их полотнища лозунгов. «Банду Ельцина под суд!» «Не хотим капитализма. Долой!» Я отметил, что они не вырезали на своих лозунгах внутренности букв «а», «о», «е». Это им бы помогло нести полотнища против ветра. Во Франции, имеющей двухвековой непрерывный опыт манифестаций, внутренности букв всегда вырезают.
Смысла идти к «Белорусской» уже не было. Я вошел в первую попавшуюся колонну и зашагал вместе со всеми к площади Маяковского. Впрочем, дойти туда мы не смогли. Идти было некуда. Площадь была закупорена, нам так сказали, несколькими рядами камазов. Шествие остановилось. Сзади напирали новые колонны.
Я решил продвигаться вперед. Вышел из мерзнущей на ледяном ветру колонны и пошел, с трудом пробираясь вдоль стен зданий. Действительно, косым срезом от угла ресторана и гостиницы «София» до дома 33 на противоположной стороне Тверской уродливо стояли сдвинутые камазы. В просветы между их кузовов были видны металлические ржавые тела второго ряда камазов. Вдоль всего среза, как беспомощные карлики у инопланетных машин, стояли мы, красно-коричневые граждане новой России.
Есть такие противные в быту мужичонки, может быть, пьяницы, и наверняка — хулиганы в своих дворах. Но тут они показали себя во всем своем блеске. В плохих шапках, в засаленной одежде, они стали материть сидящих в кабинах водителей. Они вскочили на подножки и стали стучать в стекла и рвать двери.
— Сколько вам заплатили, подлецы! Выходи, гад, народ тебя судить будет!
Водителям, я уверен, стало страшно.
Глядя на первых смельчаков, народ, и даже женщины, облепили грузовики. Они гроздьями повисли на камазах, а потом сменили тактику. Посыпались с грузовиков вниз и, как пигмеи облепив их, стали раскачивать. Еще за минуту до этого я уверен был, что у них ничего не получится с этими многотонными глыбами железа, но камазы раскачивались. Однако перевернуть их не удавалось.
Тем временем вокруг нас полностью исчезли милиционеры, видимо поняв, что им несдобровать, вот-вот температура народа должна была повыситься на многие градусы, они пробрались на ту сторону заграждения, к своим.
Восставшая — это было неоспоримо, что восставшая,— толпа вдруг опять сменила тактику. Решилась вскарабкаться на камазы. Первыми пошли те же мужичонки, что грозили водителям, а за ними и мы. Я подумал, что и я должен быть в стране отцов не из последних удальцов, и полез. Вскарабкался в кузов. Из кузова стало видно, что в действительности есть три ряда камазов, а не два. И за третьим видно было необозримое море милицейских и солдатских голов под шапками. Некоторое время мы, авангард восставших, осмысливали обстановку. Но логика восстания разворачивала боевые действия помимо нас. Народ, осмелевший после нас, лез и лез вверх, и нас теснили до тех пор, пока мы не оказались прижатыми к борту камаза последней линии. Внизу встревоженные солдаты и милиционеры смотрели, чем всё это кончится.
— Давай руку. Прыгаем вместе,— сказал мне розоволицый мужик в «москвичке», бывшей модной одеждой в шестидесятые годы. И мы прыгнули, рука в руку, чтоб устойчивей приземлиться. И приземлились, сбив с ног пару милиционеров. Вместе с нами и вслед за нами сыпались с камазов бесчисленные «парашютисты»… Сцепившись вместе, схватив друг друга под руки, мы бежали и сшибали МВД с ног, разрывая их цепи…
Я потом подсчитал, что в тот день мы прорвали солдатско-милицейские цепи восемь раз! Мы бы дошли до Кремля, я уверен, и взяли бы и его, если бы не наши путаники-командиры. Командиры присылали к нам гонцов, майоров, полковников и капитанов, все были в форме и потому убедительны. И приказывали нам вернуться назад, потому что, видите ли, общая масса манифестантов не поспевает за нами и осталась далеко позади. Мы с грустью либо медлили по просьбе командиров, либо даже отходили назад, опять пробиваясь сквозь цепи солдат и милиции. Пока мы медлили, наши противники сколачивали группы для отпора нам, передислоцировались. В конце концов идиоты, наши командиры, не нашли ничего лучшего, как объявить перерыв, это в явно начавшемся восстании,— перерыв, идиоты вы, ныне уже старые, до 16 часов — и просили всех прийти… куда, я уже не помню.
Громко ругая командиров, люди всё же расходились. Командиры были, на нашу беду, в военной форме, потому убедительны. Мы же — простой народ, думали мы все, что мы в тактике и стратегии понимаем? Ничего не понимаем. Я выбрался из реки, потом из ручейков людей и побрел к издателю моих книг. Там меня ожидали телевизионщики, как их называли тогда. Интервью хотели. Голова моя была на треть крупнее, чем обычно. Резиновой дубиной, входившей у правоохранителей в моду, меня огрел несколько раз старательный холуй режима…
Я навсегда запомнил совершенно бесстрашных моих соседей по цепи, того краснощекого в «москвичке» мужика, он был выше меня и бежал слева, и корявого маленького мужичонку справа. Нас троих так и не смогли разорвать в восьми атаках. Когда я теперь думаю о русском народе, а я делаю это часто, я думаю об этих мужиках, иногда на глаза мои даже навертываются слезы. В быту они, наверно, невыносимы, скажем, в своем дворе, отъявленные, скорее всего, расисты, а может, и пьянь. Ну да и я не ангел, дело-то не в наших качествах, дело в исторической России.
*
Я выуживаю из времени — «вот, вот он!» — цепляя, и такой трагический эпизод.
Издательство «Совершенно секретно» в лице Артема Боровика пригласило меня на обед в кооперативный ресторан на Лесной улице. Я начал отнекиваться, спасибо, мол, нет времени, не надо, я не привык к вашим этим «в вашу честь», тосты начнете произносить, я привык к сухой европейской деловитости. Артем Боровик заверил меня, что всё будет просто, хозяин кооперативного ресторана — друг, посещающие ресторан бандиты — все добрые знакомые. Поедим мяса, зелени, у них там кинза свежая. Выпьем. Пошутим.
Собственно, все ресторанные попойки похожи друг на друга. Поэтому я обыкновенно изнываю со скуки, сидя за русскими столами, выслушивая сочные медовые панегирики в адрес «новорожденного», либо «юбиляра», либо «нашего уважаемого». К этому приторному жанру пьянки в последнее десятилетие добавилась еще церемония отщелкивания присутствующих равно гостями и хозяевами на фото с помощью мобильных телефонов. О ресторанных попойках лучше бы не писать, потому что писать нечего. Но тот обед на Лесной улице интересен не разговорами, которые там велись, вполне банальные разговоры, чего там. Собравшиеся за столом молодые люди задавали мне множество вопросов о «той жизни», за границей. Предполагалось, что Россия скоро обзаведется такой же жизнью, и вот они хотели понять, чем они будут обзаводиться. В те годы, пожалуй, никто не мог предвидеть, куда придет Россия через двадцать лет. Ну никто, и я в том числе, хотя я уже был «красно-коричневый», уже сопротивлялся будущему. С января 1991 года печатался уже в «Савраске» — «Советской России». Собравшиеся в ресторане на Лесной знали, куда я склоняюсь, но прощали мне мою политическую ориентацию, видимо, воспринимая ее как каприз, который скоро пройдет. Еще раз повторюсь: никаких интересных разговоров мы не вели. Жевали, выпивали, смеялись. Если мне не изменяет память, то был и фотограф. Я так и не видел фотографий, они нигде не публиковались, а было бы интересно на них взглянуть. Ресторан был небольшой. В глубине ресторана сидели бандиты в широкоплечих пиджаках, впрочем, вполне дружелюбные. Меня тогда в России уже знали, но, конечно, я не носил тогда еще на себе такое тяжелое бремя славы, как сейчас. На улицах на меня не оглядывались, не указывали (о, неисправимые скифы, мои соотечественники!) пальцами. Поэтому ни один бандит не послал мне бутылку шампанского от своего стола, никто не подходил к столику, чтобы спросить меня о чем-то. А вот к моим собеседникам подходили. Их знали в стране. Их любили и, как оказалось позже, и ненавидели.
Они мне представились по именам. В России любят совать руку, больно сжать тебя не за ладонь, но, ухватив за пальцы, сжать пальцы и представляются уменьшительно-ласкательными именами, как мама их называла: Саша, Коля, Вадик. А сами такие здоровенные битюги, хоть запрягай.
Мясо было, ну что, свиные отбивные были пережарены, кинза была свежая, грузинский сыр свежий. Но сейчас я вам раскрою, почему я назвал этот эпизод трагическим. Из всех, кто там сидел за столом, в живых остались только двое: телеведущий Александр Любимов и я. Артема Боровика взорвали позднее в самолете, где он находился вместе с чеченским бизнесменом по имени Зия Бажаев. Кстати сказать, в славной корпорации «Совершенно секретно» в те годы погибли целых четыре человека. Александр Плешков скончался таинственной смертью в Париже, был отравлен. Юлиан Семенов — творец Штирлица и корпорации «Совершенно секретно» — отправился на тот свет вслед за Плешковым. Правда, не сразу: лет пять он прожил как овощ, в коме. Отец Александр Мень, член редколлегии «Совершенно секретно», был, как многие знают, зарублен топором.
А в тот вечер вызвался отвозить меня по месту жительства к зданию на Большой Никитской, где помещался журнал «Театр», Артем Боровик. С ним, захотела его сопровождать, его красивая супруга Вероника. Мы вышли: нас провожали Любимов и человек в очках и в подтяжках, без пиджака. Они неодетые вышли в этот ужасный русский холод.
— Идите обратно. Зачем! Простудитесь!— позаботился я о них.
— Спасибо за чудесные рассказы о Париже,— человек в очках и подтяжках даже поклонился мне чуть-чуть, пожимая мне руку.— Я очень хочу пригласить вас на свою передачу. У вас интересные взгляды.
— Спасибо,— сказал я.— Почту за честь.
— Кто это?— спроси я Боровика, когда мы разместились в его машине. Я — на заднем сидении.
— Владислав Листьев, очень талантливый и очень популярный журналист.
Вот потому я и назвал этот обед трагическим, что мало кто выжил из находившихся тогда за столом. Выжили только двое. Да Вероника, жена Боровика.
Уроки этих дам
Когда мы молоды, мы приобретаем хорошие и плохие привычки и умения. Планированию меня научила в Нью-Йорке в конце семидесятых Карла Фельтман. Карла работала личным секретарем у Питера Спрэга. А Питер был большой босс всяких модных корпораций. Так, он восемь лет был владельцем английской фирмы «Aston-Martin». Вот уже тридцать лет, как я вспоминаю Карлу с благодарностью каждый раз, когда расчерчиваю лист формата A4 на 28 клеток,— на четыре недели жизни вперед. Ах, Карла, Карла! Как они ссорились с боссом! Она даже рыдала порой. А потом они дружно пили скотч на кухне. Он понимал, рыжебородый изверг, что лучшей секретарши он не найдет. Она знала всех его любовниц и способна была найти человека на другом боку глобуса в несколько минут, а ведь тогда еще не существовал интернет. Я даже в тюрьме расчерчивал эти двадцать восемь клеток. Планировал написание книг. Мои выходы out планировали за меня мои следователи.
В то же самое время в том же Нью-Йорке я наблюдал за жизнью и работой Люси Джарвис, она была знаменитым продюсером телекомпании NBC. Гостиную ее наполняли ныне поблекшие американские звезды семидесятых. Шляпа, брючный костюм, стиль решительного и язвительного гангстера — я и моя тогдашняя жена Елена смотрели на Люси с обожанием и мечтали стать такими же акулами. Но не пришлось. Люси научила меня рвать телефонную трубку с решительным «yes!»: «Голос должен быть уверенным, бодрым, Edward, даже если у тебя температура под 40, все хотят иметь дело с решительным человеком». Еще она научила меня входить в гостиную решительной походкой. «Первое появление очень важно. И никогда не носи цветные носки, Edward!» Не знаю, жива ли она, милая акула Люси, но цветных носков не ношу и отвечаю решительным голосом, могу и накричать на собеседника, если он сопит и молчит: «Назовите себя немедленно!» Люси должно быть свыше восьмидесяти.
В 1980-м в Париже мое воспитание доделывала контесса Жаклин де Гито, она работала подругой Нины Риччи и в доме Кристиана Диора. У Жаклин было два гардероба: две обширные комнаты, которым позавидовал бы крупный магазин. Жаклин научила меня винам, познакомила с Ниной Риччи и с Энди Уорхолом.
Восхищение мое вызывала мой литературный агент Мэри Клинг. Бывшая журналистка журнала «Экспресс», Мэри основала свое литературное агентство Le Nouvelle agence в годы, когда во Франции не существовало даже профессии «литературный агент». Писатели напрямую имели дело с издателями, а издатели Франции — с издателями других стран. Небольшого роста, худенькая, всегда дочерна загорелая, Мэри много курила и повелевала небольшим коллективом энергичных девушек с мужской жестокостью и без всякой жалости. Ее литературные девушки плакали от ее требований. Она их унижала и разве что не била. Я гордился отношением Мэри ко мне, она с самого начала высказывала свое уважение, моей работоспособности и настойчивости. «Эдуар, ты хочешь издавать две книги в год, но у нас так не принято! Французские писатели наслаждаются жизнью, здесь так не работают! Тебя не будут покупать!»
Я убедил ее, что будут. Более того, я стал издаваться сразу в двух издательствах поочередно: в «Ramsay» и в «Albin-Michel». Мэри последовала моему темпу. И мы приучили всех. Иногда я издавал по две книги в год. Она не имела от продажи моих книг гигантских прибылей, я полагаю, ей было интересно за мной наблюдать. И участвовать в моей авантюре. Она продала мои книги в два десятка стран. Я приходил в помещение агентства на Rue Odeon, как раз у театра Одеон, и за глотком энергии. От этой женщины несло энергией. Правда и то, что она редко была к кому приветлива, ко мне — была.
Знаменитая Дина Верни — натурщица и наследница Аристида Майоля — была мне знакома с 1974 года, мы встретились в мастерской Ильи Кабакова в Москве. В Париже, если я шел через сад Тюильри, я имел возможность лицезреть юную Дину в виде позеленевшей бронзы скульптуры прямо в траве меж деревьев сада. Живую Дину можно было увидеть постаревшую, но монументальную, в галерее на Rue Jacob, это недалеко от базилики Сен-Жермен де Пре. Несколько раз, ожидая, когда она освободится, я слышал яростные споры о деньгах, старую даму нелегко было сломить. И она никогда не уступала. Я научился у нее упорству. Упрямство мне было даровано от рождения.
Ирина Хакамада, в те несколько моих посещений ее офиса в Товарищеском переулке, когда я явился уговаривать ее участвовать в коалиции оппозиции, Ирина Хакамада сидела по ее сторону стола, уставленного компьютерами и канцелярией, и поедала фрукты. То есть она разговаривала со мной, но время от времени брала с тарелки нарезанные удобно мелко фрукты и отправляла их в рот. Впрочем, во второе мое посещение ее офиса это были уже не фрукты, но овощи. Ирина Хакамада была настороженной и чуть-чуть меня остерегалась. Однажды она приняла вперед меня посла Испании, мне пришлось ждать, и я злился. С 2005 года я не ем мелко нарезанные фрукты, принимая посетителей, как Хакамада, но намереваюсь это делать. Это будет стильно.
Элита рабочего класса
Они сломали мой завод, суки! Я стоял на эстакаде, мимо грохотали тяжелые грузовики. Сентябрьское солнце высушило бы мои слезы, если бы я их пустил. Я бы и пустил, однако меня снимала на Бетакам бригада харьковского телевидения, какого вот — не припомню, их много в Харькове теперь. Стоял сентябрь 2007 года, я приехал к матери на 86-летие и вот заехал посмотреть на родной «Серп и молот», где я работал в те далекие шестидесятые годы в цехе точного литья. Они сломали мой завод, точнее, они его доламывали, кран с тяжелой грушей долбил ею, раскачивая, стену механического цеха. В том цехе в далекие 1963 и 1964 годы у меня работали друзья, а позже там работал поэт Вовка Мотрич. Они долбили своей сучьей болванкой по цеху, откуда в мое время выходили собранные моторы, моторы для танков. Далеко эти моторы не уезжали, отправлялись на завод имени Малышева, где занимали свои боевые места в танках. Чуть раньше, до «Серпа и молота», я работал и на «Малышева», но строителем-монтажником — сооружал новый цех в непролазной грязи. Так что я потрудился на оборонку моей страны.
А теперь они сломали мой завод, чтобы разместить там очередной рынок. И склады. Говорят, вьетнамцы купили всё. Завод был такой мощный, что разные его проходные находились друг от друга чуть ли не в часе ходьбы, а если на трамвае ехать, то несколько остановок, да еще с пересадкой.
— Гребаные торгаши,— сказал я в камеру и всё же смахнул слезу.— Тут такая жизнь кипела двадцать четыре часа в сутки! Три смены. Наша литейка вообще никогда на останавливалась. Никаких выходных! Идешь во всякую погоду, я обычно входил с проходной на Материалистической, народ из всех домов выходит, присоединяется, с авоськами все: завтраки, шутки, девушки хохочут. У нас целый цех был девушек, «модельный» назывался, потому что они модели лепили из парафина, по-моему, а потом их в особую глину окунали и сушили в печи… Так они формы для нас делали, куда мы позднее металл заливали. Ближе к проходной уже целые колонны работяг шли. Могуче всё выглядело… Бывало, вошел на территорию — и издалека видишь свой цех: вспышками, всполохами из него свет бьет от ковшей с раскаленным металлом. Ворота мы никогда не закрывали. Я обычно через ворота сперва входил, сдающую смену приветствовать, а уж потом шел в другой конец цеха, в раздевалку.
— А что, Эдуард Вениаминович,— осторожно начала хрупкая харьковская журналистка, блондинка,— в Харькове девушки особенно хороши, а что вы, говорят… на доске почета портрет ваш висел?
— Фотография висела. Лучший обрубщик цеха.
— Что такое «обрубщик»?— мягко спросила журналистка, словно боясь повредить рот обо все эти грубые «р» и «щ».
— Это рабочий, срубавший с «елки» детали. «Елка» — это стержень, на котором были помещены, как на елке, со всех сторон детали, которые мы выплавляли. Елка сама шла потом в переплавку. А детали должны были отваливаться от елки в тот момент, когда рабочий, схватив ее, помещал ее в обрубочную камеру, закрывал дверцу, нажимал на кнопку, и «елку» с деталями трясло сжатым воздухом,— ну как пневматический молоток работает видели?
— Обрубщик,— задумчиво повторила журналистка,— вы?— Она улыбнулась.
— На деле, немецкое оборудование, установленное у нас в цехе, почему-то отказалось обрубать русские детали. Может, компрессор был слабый, но детали не отваливались и не падали из щели на конвейер. Поэтому наш производственный процесс выглядел так: мы сидели — я, Юрка-боксер, дядя Сережа — на деревянных ящиках и алюминиевыми кувалдами сбивали детали с «елки». Руки у меня были как клешни у краба. Потом я перевелся в комплексную бригаду сталеваров, в том же цехе, на соседнем участке.
— Да,— сказала журналистка с ужасом.— Вы, говорят, тут даже забастовку устраивали.
— В 1963-м однажды нам резко снизили расценки. Мы получили расчетные листы, а там едва по 150 рублей за месяц начислили. В то время как в лучшие месяцы я и по 320 получал, большие деньги для того времени. Очень большие. Мы привыкли уже с ребятами жить как элита рабочего класса. Одевались хорошо, у меня, например, шесть костюмов было. Каждую субботу с девушками мы ходили в ресторан «Кристалл» — самый лучший в городе, где выпивали по 800 грамм коньяка, а потом драться ходили.
— Почему восемьсот?— журналистка состроила кислую гримасу.
— Пятьсот было мало. Восемьсот считалось доблестью для элиты рабочего класса. Коньяк армянский пили. В основном КВВК, что значит «коньяк выдержанный, высшего качества».
— А с забастовкой что вышло?— вмешался оператор.— Тогда же забастовки запрещены были.
— А что с нас было взять. Терять нам было нечего. Полбригады — бывшие урки, отцы семейств, их не напугаешь, все отсидели, а еще половина — кто перед армией, кто после армии. Работа тяжелая, люди тяжелые. Три дня мы бастовали, все 28 человек, сидели на работе. Только печи, конечно, варили, но металл выливали мимо. На четвертый день приехал не то второй, не то третий секретарь обкома, взобрался на кучу руды, в руках новые расчетные листы, и стал нас выкликать по одному. Сказал, что в бухгалтерии засели саботажники, так же как и в нормировочном отделе, но он лично элиту рабочего класса в обиду не даст, он нас защитил. В расчетных листах стояли хорошие деньги, и мы побежали работать…
— Победили,— растерянно сказала девушка.— В Новочеркасске в рабочих в начале шестидесятых стреляли.
— А что им было делать? Самая основная продукция нашего цеха была детали для танковых моторов. Моторы без них не сходили с конвейера. Мог остановиться без моторов и завод имени Малышева. Танки перестали бы выходить. Легче было заплатить. Потом они всё равно нас обманули. В течение полугола стали срезать расценки, ну и зарплату соответственно, но постепенно. К тому же и свели в конце концов — к 150 или чуть выше. Мы больше не бастовали, увольняться стали.
Я посмотрел вниз и вдаль. Как корешки зубов во рту у старика, торчали далеко, насколько видел глаз, руины, ржавые останки металлических конструкций. Время от времени оттуда порывами ветра доносило запах гари, сырости, промозглых развалин и разрушения. Необъятное море развалин упорядочивалось лишь забором завода, который пока не тронули. Не тронули и ближайшую к нам проходную. Там за толщью сорока с лишним лет проходили веселые рабочие, слышен был девичий хохот, а из репродуктора неслось:
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?..
— Поехали отсюда,— сказал я журналистке.— Хватит. Тяжело.
Тюрьмы
Цена победы
Без тюрьмы я бы был другим человеком, я это твердо знаю. Это испытание мне необходимо было пройти для того, чтобы завершить курс обучения жизни. Ну, ясно, что обучение никогда не кончается для тех, кто страстно хочет учиться, но, выйдя из лагеря в заволжской степи близ города Энгельс, я был вчерне закончен.
Тюрьма настигла меня поздно в жизни, однако ровно тогда, когда я мог уже ее по достоинству оценить, ее сатанинский, но роскошный опыт. Раньше было бы рано.
Это я к тому, что за всё нужно платить. За подъем на каждую духовную ступень, за возвышение, за озарения нужно платить обыкновенно физическими страданиями.
В тюрьме живешь как в мрачном, холодном монастыре, куда тебя заточили. Твои товарищи по несчастью, как правило, сильные, корявые, страстные люди, совершенно чуждые тебе. Ты вынужден мириться с существованием на одних квадратных метрах с ними, с близостью их тел и мятущихся горячих душ. Ты живешь, овеваемый ветрами их остервенения. (Посмотри только, как носатый уродливый зэк яростно стирает свои ни в чем не виновные носки, как печально стоит у двери из камеры уже третий час только что брошенный к нам мошенник, как долго спит молодой бандит, не желая просыпаться опять в камере.) Ты живешь еще и под грубым и мощным ежеминутным скотским давлением конвоиров, тех, кто тебя охраняет, расхристанных башибузуков.
Тюрьма вытеснила меня в метафизические миры. Спасибо ей, теперь я знаю, как открыть туда двери. Те, кто не попробовал тюрьмы,— неполные люди. Мне их жаль.
На самом деле всё непросто. Так, я взял с собой в горы на границе с Казахстаном, где меня и арестовали, наброски книги «Другая Россия». В тех десяти или пятнадцати страницах уже тезисно была вся книга. Естественно, после обысков у меня не осталось ничего личного, перстень и кольцо, и те с рук сняли. В тюрьме «Лефортово» я немедленно стал писать сразу несколько книг, но очень горевал о набросках «Другой России». Погоревав, попытался вспомнить как-то однажды ночью заполненные страницы, но не смог. Получилось бледно и неубедительно. Ведь той ночью у меня случилось озарение.
Где-то через полгода у меня скопилось так много судебных документов, рукописей, выписок и заметок, что мне понадобилась сумка. В камере особенно хранить такое добро негде. Я написал на имя начальника тюрьмы заявление, что, мол, прошу выдать мне сумку, хранящуюся, насколько я знаю, на складе. Сумку мне принесли. Я положил туда бумаги и уже закрывал сумку, довольный собой, как вдруг почувствовал, что в боковом кармане сумки что-то есть. Раскрыв молнию на кармане, я обнаружил там с десяток листов с адресами и телефонами и мои наброски к книге «Другая Россия»! Обыскавшие, якобы профессионально, меня чекисты недообыскали сумку. Они забрали вещи из основного отсека сумки, а на боковой — внимания не обратили либо что-то их отвлекло. Я радостно написал по моим наброскам книгу, сумел передать ее на волю, и она была издана. Это я к тому, что вдобавок к доступу в метафизические миры тюрьма мне подбросила и бонус: на тебе, Эдуард, твои вдохновенные наброски за то, что ты такой редкий парень. Получай!
Потом я сидел в лагере, немного, и вышел на свободу, не отсидев полные четыре года. Дальше я стал терпеть поражения на личном фронте. Я не мог ужиться со своей дотюремной подружкой Настенькой, перебрал какое-то количество женщин, но совместной жизни с ними не получилось. Мне бы, дураку, понять, что за тюремные годы я обвенчался с тюрьмой и ушел в духовное одиночество, и смириться бы мне. Но я не прекратил идти по прежней, дотюремной дороге. Я познакомился с модной актрисой, женился на ней, в возрасте шестидесяти трех лет родил сына, а в возрасте шестидесяти пяти лет — дочь. Но все же семья вскоре сломалась, и я не очень препятствовал, чтобы она сломалась. Теперь я понимаю, что мне больше всего на свете хотелось одиночества. Одиночество обыкновенно представляют как несчастье. Когда я был молодым человеком, у меня была дурная привычка вечно жить вместе с женщинами. Так от женщине к женщине я и дожил до моих пятидесяти восьми лет, когда меня арестовали. Внутри этих пятидесяти восьми лет я не раз испытывал роскошное удовольствие от случавшихся вдруг пауз, в которых на меня спускалось блаженное одиночество, но я обыкновенно считал это удовольствие естественным желанием отдыха после сложных женщин.
Я давно заметил, что путешествовать лучше одному. Когда ты путешествуешь и сразу же обсуждаешь со своим спутником пейзажи и приключения, то часть впечатлений ты делишь надвое и тебе достается половина, а части впечатлений ты вообще лишаешься из-за глупого бормотания подруги или друга у плеча. А куда-то ты не свернешь, потому что он или она не хотят… Так же и в жизни.
Нужно иметь дистанцию с человечеством. Семья начинает говорить на рассвете и безостановочно болтает глупости от раннего утра до поздней ночи. Дети несут трогательный вздор, жена красиво или некрасиво сидит, лежит, стоит, идет вся в движении в туалет или в ванную. Метафизические миры боязливы, они не любят детей и жен. А ты, конечно, нуждаешься и в детях на твоих коленях, и в жене, плачущей или улыбающейся. Что выбираешь ты, о Эдуард Лимонов?
Я выбираю одиночество, поскольку мне нужен выход в метафизические миры, куда ни вдвоем, ни втроем, ни вчетвером входа нет. Только одному. Даже и вопрос «как быть?», «как поступить?» не появляется перед тобой. Ты поступаешь ровно так, как поступали до тебя очень немногие.
Зато, когда ночами приходят чудовища (а они обязательно приходят к таким, как я), то не оказывается рядом теплых детей, чтобы их отогнать. Это плата за роскошное одиночество — рык чудовищ над подушкой наглеца, отважившегося нарушить мировой порядок. Страшно. Но ты же этого хотел.
За решеткой
Была морозная железная ночь. Третий час. Я сидел в обезьяннике ОВД «Тверской». На семь сидений нас было двое. Армянский подросток, густо волосатый везде, где только можно, время от времени хватался за голову и издавал звуки отчаяния. Его обвиняли в краже кроссовок из магазина. Он надел кроссовки и направился к выходу. В этих кроссовках он и сидел сейчас. Паспорта у него не было. Если верить подростку, паспорт его находился в автомобиле «хаммер», якобы стоящем у здания ОВД, за рулем якобы сидел некто, кого подросток называл «мой брат». Еще в автомобиле находилась «девушка» подростка, а также его мать. В другой версии армянина мать не упоминалась. Зато брат в другой версии был свежеоперированный и потому не мог выйти из «хаммера», чтобы принести милиционерам паспорт молодого похитителя кроссовок. Галдеж стоял великий. Милиционеры не хотели идти к брату в «хаммере». Им нужен был паспорт. К «хаммеру» отправилась юная следователь-дознаватель. Там она обнаружила двух невменяемых от действия наркотиков молодых людей.
Из хитросплетений родственных связей армянина меня вывел усталый сержант, привезший наконец мой паспорт. Мой паспорт, оказалось, остался у судьи, на что судья не имела права, но судья не знала своих прав.
Милиционеры как муравьи исполняли свои ночные обязанности. Помимо меня и армянина они занимались одновременно массовой дракой на Долгоруковской и угнанным автомобилем. Дежурный быстро сформировал для меня бригаду сопровождения: усатый сержант, плюс тихий парень с автоматом, плюс водитель, плюс я — мы составили экипаж милицейского авто. Однако для охраны такого человека, как Савенко, недостаточно одного милицейского подразделения, решил, видимо, дежурный и прикомандировал к нам еще автомобиль с тремя автоматчиками. Ночные менты тепло проводили меня, как добрые родственники, напутствиями: «Всего вам доброго! Успехов!» На что я ответил с улыбкой: «Надеюсь, что больше вас не увижу!» Они тоже с улыбками согласились, что хорошо бы, да, больше не видеться.
Мы вышли в ночь. Разместились в теплом уютном авто и пошли отмахивать километры по пустому городу. Довезя нас до Кремля, второй экипаж пожелал нам удачи и вернулся. А мы через Большой Каменный мост ввинтились в железный мороз Москвы, всё глубже и глубже, туда, где мне предстояло отбыть наказание. Учреждение называлось «Спецприемник № 1 ГУВД Москвы».
Поблуждав совсем немного, мы оказались у приземистого барака о двух этажах, огороженного стеной с кишкой колючей проволоки поверх стены. Луны не было, однако окружающие освещенные строения позволяли отличное видение пейзажа. Усатый вышел у КПП и позвонил. Довольно быстро появился милиционер и отпер калитку. Сержант открыл мне дверь машины: «Эдуард Вениаминович, мы на месте. Прибыли».
Мы вошли в здание. Когда ты едешь по тюремным делам, когда тебя переводят — это ответственный момент в жизни зэка. Потому что ты можешь попасть к хорошим людям ровно как и к злым. У тебя равные шансы. Со злыми, даже если тебе предписано оставаться с ними недолго, можно настрадаться и в несколько часов. С добрыми просидишь и годы, как на одной ноге простоишь, запросто.
Я попал к добрым. Старший дежурный — старший лейтенант, зевая, застегнул китель и надел очки. По нескольким его движениям я уже его понял. И все, кто работает с ним в смене, обычно равняются в темпераменте на старшего. Сержант из ОВД «Тверской» показал удостоверение и стал демонстрировать бумаги. Меня сдали под расписку, ко мне приложили решение суда, вещи, отобранные у меня при задержании. Старший лейтенант попросил опись вещей. Проверил, имеются ли они в наличии в пакете, предоставленном усатым сержантом. Стал вынимать вещи, называя их и кладя их затем в матерчатый мешок. «Ремень брючный,— называл старлей.— Часы наручные; три кольца светлого металла; удостоверение Союза писателей России; деньги в количестве…»
Пока они занимались своим делом, я огляделся. Коридоры вели от дежурки в две стороны. Пахло борщом, вдали некто стучал в дверь. Настойчиво.
«Каждый чего-то хочет,— комментировал старший лейтенант.— Один покурить просит. Из двенадцатой камеры водки просят».
Мы все весело переглянулись. Беспределу наглости граждан, просящих водки.
Сержант ушел. Старший лейтенант отправил просто лейтенанта приготовить мне камеру. «Одного вас поместим»,— сообщил он мне. А лейтенанту сказал вдогонку: «Всё лишнее вынести, постелите там… Я, Эдуард Вениаминович, представлял вас злым, как-то видел по телевизору, думаю: во, злой мужик, а вы оказались простой и незлой…»
«Чего злиться-то, меня к вам на сутки прислали, вот если бы лет на пять, был бы злой…»
«У нас ваши ребята не раз сидели. И охранники ваши были… Белорус еще там один…»
«Димка, что ли?»
«Ну да, хорошие у вас ребята…»
Меня привели в неприлично обширную камеру с пятью железными кроватями. Одна, у стенки, была аккуратно свежезастелена. Солдатское одеяло поверх, простынь натянута на матрас. В углу — крупного размера туалет на возвышении. У изголовья моей кровати на стене были намалеваны две розы ветров, а меж ними крупная надпись «ЖИЗНЬ Ворам», а ниже надпись помельче: «Привет ворам, музыкантам, докторам».
Я разделся, лег, укрылся солдатским и почувствовал себя уютно, как только может быть уютно такому человеку, как я, всегда бездомному. Было хорошо. Две лампы незло светили с потолка в ночном режиме.
Я осторожно вспомнил мои тюремные годы. Прошлое тихо опустилось мне на виски и веки и поласкало их некоторое время. Бывали и за решеткой у меня отличные дни. И писал я за решеткой плодотворно. Озарения посещали. Тюрьма ведь не только место страданий, но и место озарений.
Застучал в дверь тот, что хотел курить. Пришел дежурный и послал его матом. Завязалась беседа «бу-бу-бу… бу»… И под звук беседы (слов не было уже слышно, только интонации) я и уснул.
Приснилось мне, что это весна и в Саратовском централе нас вывели на прогулку в самый неудобный дворик. И мы там чуть не падаем, скользко. Но держимся друг за друга: я, Санек, дядя Юра и Мишка. Держимся и смеемся.
Разбудил меня грохот ключа в замке.
— Завтракать пойдете?— спросил старший лейтенант.
— Пойду.
Я уже стоял на ногах и вышел из камеры. На втором этаже два зэка в раздаточной улыбнулись мне. Один насыпал каши. Другой спросил: «Сахарку?» И, не дожидаясь ответа, сыпанул в кашу две столовые ложки.
— Давненько не был я за решеткой,— сказал я.
Зэки заулыбались. И старший лейтенант. Разве поймут нас гражданские?.. Гражданским нас не понять.
Как хороши, как свежи были розы
Я возненавидел розы восемь лет назад. Сейчас скажу, как это случилось.
Когда летом 2003 года я прыгнул вниз с автозака на широкую площадь, на бетон колонии общего режима, они цвели. Их нежный запах я уловил не сразу, обоняние у меня было едва включено, всё внимание ушло в зрение, я приехал в новое место, в колонию, где буду отбывать мои присужденные судом годы. Потому я поймал взглядом группу конвойных офицеров («а, вот они!»), один даже оказался с бородой. Вторым после зрения был слух, а обоняние было последним.
— Фамилия, имя, отчество, начало срока, конец срока!— пролаял из группы офицеров один из них. Звезд на погонах не было видно, крашенные в зеленое, они не выделялись…
— Савенко Эдуард Вениаминович, та-та и та-та,— оттарабанил я заученно. И добавил от себя, как советовали опытные сокамерники в Саратовской тюрьме: — Срок у меня небольшой, намерен сидеть тихо, проблем создавать не буду…
Пока они вели меня с другими в карантинный отряд, а это оказалось с полкилометра, а то и больше, обоняние включилось — и зрение не выключилось. Я обнаружил, что колония представляет из себя пылающий розами, благоухающий цветник.
Нас ввели в доверху озаборенный карантин — место, как оказалось, унижений и истязаний. За нами дыра ворот затянулась железной зеленой стеной. В карантине были деревья, но роз не было. Однако я стал их видеть три раза в день, когда нас водили в столовую, на завтрак, обед и ужин. Целые полотнища плантаций роз сопровождали нас на нашем пути, когда мы выбивали старыми башмаками заволжскую азиатскую пыль из асфальта. «Шаг!— кричал завхоз карантина, идя рядом с нами прогулочным шагом.— Как идете! Тверже шаг!» В карантине они были с нами суровы и даже избивали. Только не меня. Меня предохраняла известность.
В розах копались согбенные фигуры с ложками в руках. У плантаций роз змеями лежали шланги. Розы не пестовали только в обед, когда стояла азиатская жара. Но утром и вечером розы маникюрили и мыли, крепили подпорками, ласкали и щекотали.
Розами занимались «обиженные». Пугливыми тенями прилегали они над цветами в самых невероятных позах, растопыренные и раскоряченные на пальцах ног и рук. Оперировали они обеденными ложками и пластиковыми бутылками-пульверизаторами с водой. Изредка бывало, что такой акробат не выдерживал свой адский номер и калечил вдруг, сорвавшись, цветы. Тогда его отправляли в карцер. Били, конечно же, тоже. Но в глубинах карцера.
Розы у колонии вырастали сильные, крепкие и красивые, на мощных телах-стеблях. Напоминали крепких девок. Зато наши «обиженные» ходили с исколотыми и порой гниющими от невынутых из человеческий мякоти шипов пальцами.
У самой столовой располагались несколько бледно-розовых плантаций, у бани розы были густо-бордовые, как переспелые вишни, рядом с контрольно-следовой полосой ударяли чуть в желтизну.
В образцово-показательную нашу «красную» колонию приезжали делегации из Европы, по нашей колонии, умиляясь от наших роз, бродили интернациональные стайки правозащитников и старушек-правозащитниц. Им, женщинам, дарили наши розы, так же как и многопудовым артисткам, приезжавшим к нам из филармонии. Артистки прижимали розы к большим своим «пазухам» и зарывали в розы напудренные носы.
Там был один «обиженный» по имени Павел, в этой розовой бригаде, все его называли Пава. Он был хорошим физкультурником, легкоатлетом. Вертелся легко на нашем высоком лагерном турнике, на лагерных соревнованиях бегал за наш отряд и побеждал довольно часто. За его спортивные успехи его выделяли из неприкасаемых «обиженных», здоровались с ним за руку и не гнушались делить с ним спортивный инвентарь, брать после него в руки. Поэтому он ходил гордый, а не прижимался, что называется, к земле, как его собратья по несчастью. Тут нужно сказать, что «обиженными» становятся не обязательно в результате изнасилования. Человека можно опустить, например, помочившись на него в присутствии свидетеля. Говорят, именно это с Павой и сделали. Лагерный мир богат на способы унижения человека. А Пава ходил гордый.
Кому его гордость не нравилась, мы не узнали тогда. Кому-то. Там, где он умело окучивал розы цвета переспелой вишни, разбросали в земле куски бритвенных лезвий и осколки стекла. Приняв свою обычную позу: упор на одну руку за пределами плантации роз, другая, босая, тщательно устроилась между шпалерами подвязанных ветвей, он поместил пальцы левой руки во взрыхленную землю. И, подломившись, упал, заорав от боли. Упал неудачно, да удачно упасть было и нельзя, там везде были розы. Десятка два сильных красивых цветов погибли.
С окровавленными руками Паву увели в помещение бани. Пришли козлы из СДП, секции дисциплины и порядка, и изрядно побили его, невзирая на его раненые руки. И спустили в карцер.
Пава никогда потом не оправился от этой истории. Он уже не ходил гордый, а левая рука у него согнулась в ложку, неправильно зажила, да так и осталась, неверно срослись сухожилия пальцев. Бегать он, наверное, смог бы, да только в соревнованиях он больше участвовать не стал.
Людоед
Какое-то время тому назад, не так давно, приехали ко мне в гости двое, один парень сидел со мной в неволе, в лагере № 13 в Саратовской области близ города Энгельс, а другой — нас охранял. Удивляться тут нечему, такое бывает сплошь и рядом; тот, кто нас охранял, оставил о себе неплохие впечатления, чего бы с ним не пообщаться.
Я изготовил нехитрый ужин, стали пить русский национальный напиток, вспоминать раскаленный лагерь в заволжских степях. И, разумеется, дальнейшая судьба тех, кто там сидел, вместе с нами «парился» и «чалился», нас интересовала. Тот, кто нас охранял, знал о судьбах наших товарищей по несчастью больше нашего, потому что всё еще работал там, а приехал в Москву в отпуск. Мы и стали его расспрашивать.
— Что Али-Паша?— поинтересовался я.— Он хотел перевестись в 33-й лагерь. Перевелся?
33-й лагерь считался много лучше нашего. Режим там был послабее, и, не будучи ни «черным» (то есть управляемым ворами, в черном жилось вольготнее), ни «красным» (там заправляют всем менты), 33-й всё же пользовался хорошей репутацией.
— Подставили Али-Пашу, Эдик. Кто-то не хочет, чтобы он выходил на свободу. За небольшую муйню бросили его в ШИЗО. И вот сидит он в ШИЗО…
— Али-Пашу в ШИЗО? Кто это осмелился? У него в лагере всё было схвачено. Лучший из бригадиров лучшего отряда…
— После того, Эдик, как Хозяина перевели в Саратов и сделали начальником Центральной тюрьмы, при новом начальнике лагерь стал не тот. Короче, Али-Пашу в ШИЗО в подвал пустили. К нему поместили одного человечка. И человечек на Али-Пашу наехал, мол, ты «чурка поганый, азер вонючий». Завязалась драка. Али-Паша, как ты помнишь, Эдик, человек, выступающий в сверхтяжелой категории. И сам не хотел, но приложился пару раз в голову человечку, и тот издох. Али-Паше десять годков надбавили, к тем пятнадцати, которые он уже почти отсидел. В 33-й его таки отправили, но теперь 33-й строже нашего «красного» стал. Так вот…
У огромного азербайджанца Али-Паши, он напоминал с виду свирепого слона, но был, в сущности, добрым человеком, была запутанная история, связанная с семьей Собчаков, с покойным самим Собчаком и его женой. Кто-то не захотел, чтоб он вышел из лагеря. Грустно.
— Еще худшее случилось со Штирнером. Помнишь этого немца, Эдик?
— Ну да, он рядом со мной на поверке стоял. Варавкин впереди, Штирнер рядом. Председатель отрядной секции СК, собственных корреспондентов. Для лагерной газеты статейки писал.
— Дописался. Оказывается, он вел дневник. Дневник кто-то у него нашел. И в дневнике он злобно и насмешливо отзывался и об офицерах наших, и о «козлах» из секции «Дисциплины и порядка». Его в ШИЗО отправили, а там его «опустили». И вот вышел он из ШИЗО, ему велели взять матрас и к «обиженным» подселили.
— Ну и судьба!— промычал я. Штирнера у нас не любили, он был высокомерным и отдельным. Но такое! Кто мог ожидать, что его ждет такая судьба. Помню, когда меня только привезли в отряд, Штирнер взволновался, предполагая, что я захочу стать председателем секции, на что, как профессиональный журналист, я имел право. Но я его успокоил, сказал, что мне, как политику, невозможно писать в газету «За решеткой».
Мы выпили за этих людей. Какими бы они ни были, но, наказанные, они не заслуживали дальнейших издевательств судьбы над собой. Я открыл окно, и в кухню, где мы сидели, ворвался сырой осенний московский воздух. Якобы воздух свободы.
— А что Варавкин? Вышел?
— О, с Варавкиным такое приключилось, что не поверишь, Эдик. Варавкин людоедом стал.
— Шутишь?
— Ничуть. Он после тебя довольно быстро освободился, через какие-то месяцы. Он же местный, из Энгельса, поехал к родителям. Мать у него торговка, ты помнишь? Они на окраине, в частном доме живут. Там на задах бытовка стояла. Он в бытовке и поселился. Мать его туда передвинула, чтобы он молодоженам в доме не мешал. Ну не то чтобы молодоженам, но пока он сидел свои пять лет за то, что увел и съел с алкашами-товарищами соседскую козу, сестра его вышла замуж…
Я представил Варавкина. Это был высокий, тощий парень, с внутренней такой улыбкой, в смысле, что обращенный внутрь себя. Он стоял на поверке впереди меня, и каждый день было очевидно, что башмаки его размера на два, а то и на три больше, чем следовало, сзади были видны пустые пространства между пятками и задником. Говорил он мало, питался отдельно. В холодильнике у него хранились несколько банок с какой-то гадостью вроде комбикорма. Обыкновенно он сидел (потрепанное кепи на глазах) на корточках во дворике отряда и мутно улыбался, поглядывая на нас всех. Спальное место его находилось рядом с моим, нас разделял узкий проход.
— Ну вот,— продолжил Иван (а охранника звали именно Иван, я забыл назвать его в самом начале повествования).— Ну вот, по множеству причин, главной из которых, по-видимому, была ревность, Варавкин убил мужа сестры, затащил труп в бытовку, там разделал и поместил куски в ящик снаружи бытовки. А была зима. Варавкин отрезал куски и поедал их. При этом он постоянно пьянствовал. Чего тут еще сказать, сказать тут, Эдик, нечего.
— Пожизненное дали?
— Нет, «пыжа» он не получил. Признали сумасшедшим и лечат принудительно где-то.
Мы еще выпили, а когда они ушли в дождливую ночь, я еще долго не мог заснуть, вспоминая, как на расстоянии вытянутой руки от меня в 2003 году тихо спал людоед.
Вот и делай после этого добро людям
Недавно произошло следующее. Я веду Живой журнал, где сообщаю гражданам о событиях моей политической и литературной жизни. Личную, разумеется, не разглашаю. И вот, во время страшной жары летом сего года, поскольку за всю мою жизнь я подобной длительной жары не переживал, я отметил ее в ЖЖ, сравнив произошедшее с «казнями египетскими», помните, в «Книге Исход» в Библии? Ну, когда Бог Яхве наслал на Египет бедствия в наказание за то, что фараон отказался отпустить евреев во главе с Моисеем из Египта… В своем посте я обмолвился, что не задыхаюсь: «Я привык в тюрьме жить на скудном рационе кислорода».
Посетители моего ЖЖ прореагировали как обычно: те, кто меня не выносит, воскликнули, что я с ума сошел, другие сказали, что я осмелился сравнить себя с Моисеем, и радостно сообщили, что у меня мания величия. Но не в этом суть. А в том, что среди комментов обнаружился и такой:
«Вот, дедуль, отсидел ты с гулькин х…, но сколько у тебя опыта появилось благодаря турме, судя по твоим речам. Рецедивисты так часто турму не вспоминают, как ты. Вот честно, ну ни хрена ты на мученика не похож. Меняй образ».
«Ну и что?— можете сказать вы.— Это не так уж и обидно. Бывает хуже».
Бывает, конечно; но человек, который этот коммент написал, сидел со мной в одном лагере № 13 в заволжских степях, был моим «хлебником», то есть мы питались вместе, и был в какой-то степени моим другом, пусть и недолго, ибо, отсидев по тюрьмам свыше двух лет, в лагере я не задержался. Перед отбоем бывали у нас порой полчаса или двадцать минут, в которые мы ходили взад-вперед по локалке и разговаривали о музыке, о Егоре Летове, о мировой панк-музыке. Люди в лагере обычно простые, найти собеседника нелегко. Я ценил прихрамывающего рядом парня и запомнил эти вполне благословенные вечерние наши прогулки от ворот отряда до красной линии на асфальте, отделяющей нашу территорию от территории соседнего отряда.
За что он сидел? Статья 111-я — нанесение побоев, повлекших за собой… Короче, в долгострое, в развалинах провинциального города нашли труп мужчины. А он, это было известно местной милиции, часто отсиживался в этом долгострое, играл на гитаре, туда же приходили еще десятка два таких же самонаучившихся панк-музыкантов и поклонники таланта. Свидетелей никаких не было, но ему впаяли шесть с половиной лет. И он их сидел потихоньку. Неволя пошла ему, видимо, на пользу, дисциплинировала. В лагере он работал в клубе, отвечал за самодеятельность. Четкий, спокойный, чуть насмешливый, хорошие отношения и с нашим завхозом отряда (зэк, 15 лет срок), и с лагерными офицерами.
От меня быстро избавились в этом самом «красном» в те времена лагере в РФ, отправили условно-досрочно, освободили, благо я отсидел половину срока еще в тюрьмах. Им не нужен был известный человек, наблюдающий их сложную лагерную жизнь. Ни полковнику — начальнику лагеря, ни генералам УФСИНа по Саратовской области я был не нужен. Сплавили.
Когда я вышел, он написал мне письмо. Одно, второе. Он просил помочь ему выйти. У него уже был положенный минимум отсидки для условно-досрочного, ему даст хорошую характеристику администрация лагеря. Чинить препятствий не должны. Но ему нужен был хороший адвокат, который бы всё оформил. Не могу ли я ему помочь с адвокатом? Потому что на воле у него одна мать, она бедная, денег взять неоткуда. Я написал, что помню наши прогулки вечерами, когда из окон пищёвки доносились радостные причмокивания дорвавшихся до чая зэков, что помогу, сделаю всё, что в моих… Я позвонил адвокату Андрею в Саратов, тот был моим вторым адвокатом в моем процессе, и просил его вмешаться. И спросил, сколько денег переслать. Оказалось, денег совсем немного.
— Главное, чтоб получилось,— сказал Андрей.
В несколько приемов я выслал адвокату необходимую сумму. Всё удалось, и мой товарищ вышел на свободу. За два года с лишним до фактического окончания срока. Такое бывает редко, чтоб за два года. Удача.
Он приехал в Москву, осторожный и взволнованный. Рассказал, что в подмосковном городке, где он прописан, у него только дотюремные знакомства, которые он продолжать не хочет. Боится скатиться в прошлое. Попросил найти ему работу. Мы ехали в «Волге», помню, была зима, грязный снег в окнах.
В то время нацболы охраняли один частный клуб в центре города. Я познакомил его с ребятами, и они взяли его в команду. Через некоторое время он нашел среди наших партийных девочек себе подругу. Долго встречался, потом женился на ней и так же не спеша, осторожно, родил ребенка. Потом он написал книгу. О своем лагерном опыте. Пытался пристроить ее в несколько издательств, но издательский бизнес переживает не лучшие времена, знаю это по собственному опыту. Я тоже вяло пытался ему помочь, но оказалось, легче помочь человеку выйти из лагеря. Книга осталась неопубликованной.
Постепенно дела его наладились. У него неплохая работа, достаточно сказать, что у него есть подчиненные. Он не пьет, после смерти безумной бабушки ему досталась небольшая, но своя квартирка в том же подмосковном городке. К политике он склонности не проявил, потому по жизни я с ним встречался реже и реже. Я ведь только по политике дружу.
И вдруг… Ничего, конечно, страшного, но зачем пинать человека, вынувшего тебя из лагеря, кто поддержал тебя после выхода. Зачем? Загадка. Да еще в ответ на замечания наших общих товарищей, что нехорошо сделавшего тебе добро походя кулаком в ребра, он еще накричал в интернете и на них, дескать, это на него «лимоновские прихвостни» набросились. Что не соответствует действительности. Я никому даже не сказал о его подлости.
И что я думаю? А я думаю, мне почему-то нужно об этом думать. Как рану расчесывают. Я пытаюсь понять — почему? Он укусил меня, человека, который сделал ему добро. Может быть, ему было противно все эти годы, что я сделал ему добро? Ну не важно, что я, просто противно, что он кому-то обязан? Хотя речь шла о совсем скромных деньгах, заплаченных мною адвокату, я был чуть ли не единственный вариант для него выйти на свободу. Матери его негде было взять такие деньги. Подумав, я его вычеркнул из моей жизни. Он — нехороший человек. Зачем мне нехорошие люди в моей жизни…
Со «скудным рационом кислорода» вспоминаю эпизод июля 2002 года. Меня везли из суда, где я прослушивал аудиокассеты, служащие доказательствами моей вины, ФСБ напрослушивало. Везли меня в милицейской газели, в металлическом «стакане», одного. Жара была свыше сорока градусов, климат в Саратове резко континентальный. Выехав из двора суда, газель остановилась: менты стали ждать две машины ДПС, полагавшиеся мне как государственному преступнику для сопровождения. Ждать пришлось минут сорок. Ментам было легче: у них на «продоле» был вентилятор и пространство. У меня в металлическом ящике (шесть дырок диаметра 2 см каждая) было как в душегубке. В какой-то момент я почувствовал, что теряю сознание. Я мог попросить ментов пересадить меня в «голубятню» — открытый, только зарешеченный отсек, я же говорю, газель была пустая. Но я не попросил. У меня, видите ли, была гипертрофированно развита гордость. Я решил потерять сознание. Откачают.
Сознания не потерял. Правда, приехал «домой», в тюрьму, как рыба, вытащенная из воды…
Какая же он все-таки сука! Вот и делай после этого добро людям. Не буду.
Сентиментальное путешествие
«В этом году Москва окунулась в осень уже в середине августа»,— размышляю я в то время, как еду на заднем сидении «Волги» вдоль Яузы. Я, вообще-то, активно не люблю Москву, но это шоссе-набережная вдоль пустырей, заросших бросовой растительностью, мне родная. И по духу я скорее поклонник руин, недавно разбомбленных городов, уже успевших порасти поверху зелеными паразитами… К тому же я тут недалеко прожил более пяти лет на Нижней Сыромятнической улице, выйдя из тюрьмы.
Москва запущенная, Москва пустырей, Москва промзоны, где давно остановились заводы, не дымят, и дорожки к проходным заросли ползучими детьми Флоры,— это мое, это мне подходит.
Андроньевская набережная называется так потому, что здесь стоит уже семь веков Спасо-Андроников монастырь.
— Тормози, Колян, у монастыря! Я выйду!— обращаюсь я к водителю. «Волга» останавливается. По мокрым листьям идем, я и охранники, но не к монастырю, но к зданию напротив, к Лефортовскому суду, к месту моих мук, куда меня возили из Лефортовской тюрьмы в 2001 и 2002 годах. И тоже была осень. Помню, когда тащили меня в наручниках по уже подвядшей траве из автозака в суд конвоиры…
Подошли. Я задираю голову и смотрю на окна суда. Со стороны — седой мужчина в очках внимательно разглядывает вполне себе безобразное современное здание. И что он в нем нашел? А мужик расклеился, вспомнил, как провели его десять лет назад мимо стоявшей на лестнице подружки. На ней были трогательные черные носочки, на ее тощих ножках.
Глаза защипало. Вернулись к машине. «Поехали отсюда!»
Андроньевская набережная по ходу движения превращается в Золоторожскую. Листья уже наполовину опали и обнажили сырые стены таинственных подсобных зданий: будок, сторожек, нежилых и разрушенных, где по ночам, возможно, собираются сатанисты и вампиры отслужить свои черные мессы. Когда жил на Нижней Сыромятнической, в первые годы я здесь много гулял с охранниками.
Останавливаемся. Карабкаемся вверх по склону и углубляемся в пустыри. Вылизанную Москву, обмаслившуюся Москву Тверской улицы и Кутузовского проспекта — ненавижу. Моя Москва началась для меня в 1966 году, когда снимал комнату в Казарменном переулке, в бревенчатом доме. Единственное окно комнаты выходило, как бойница, во двор, где в тесноте повсюду выпирали бревна в сочленениях срубов, зеленые и замшелые. Глядя во двор, возникало ощущение, что это XVI век какой-нибудь. И что сейчас к окну подойдет стрелец в красном кафтане, с саблей у бедра и постучит, чем там — пикой или бердышом: «Ну-ка, выходи, поэт и алхимик, царь-государь тебя требует к себе!» Тот дом снесли давным-давно, обитатели, очевидно, все умерли от старости…
Ни сатанистов, ни вампиров я не обнаруживаю. Может быть, потому, что обитателей пустыря вспугнули охранники. В просветах меж деревьями видна пара нервно удаляющихся спин, но скорее у спин нелады с законом, и только. Если перенести столицу из Москвы, город опустится, осядет, подурнеет и станет повсюду — и Тверская, и Кутузовский — таким же, как эти пустыри, мистическим и непредсказуемым. Где будут водиться и вампиры, и сатанисты, и людоед.
— В 2003-м в лагере я спал на расстоянии вытянутой руки от людоеда,— сообщаю я молчаливым охранникам.— Точнее, в тот год он еще не был людоедом, но уже двигался к людоедству. Тогда он досиживал пятый год за то, что убил и съел с товарищами козу соседки. Выйдя на свободу, этот парень убил и съел мужа своей сестры. Была зима, и он спрятал жертву на пустыре в разбитом уазике, временами приходил в уазик «за мясом»…
Охранники охотно подхватывают тему, но получается, что ближе меня никто к людоедам не приближался, надо же — на расстоянии вытянутой руки.
— Однажды людоед, его фамилия была Варавкин, попросил у меня ручку. «Савенко, можно взять твою ручку?..»
Я иногда вот так путешествую по Москве, навещая, что называется, памятные места. Те, где я жил или где сидел в неволе. Обычно на такие путешествия меня тянет осенью. А еще если она дождлива!
Усаживаемся в машину. Дождь стучит по крыше «Волги» с замечательным прямо-таки энтузиазмом.
— К тюрьме?— спрашивает Колян.
Ну хочешь или не хочешь, но изучишь за годы привычки и бзики шефа.
— К тюрьме,— соглашаюсь я.
Тюрьма «Лефортово» расположена совсем рядом от Золоторожской набережной. Через некоторое время мы на месте. Случайный прохожий, попавший сюда невинно по своим обывательским делам, тюрьмы не увидит. Ее можно обнаружить, только если войти во дворы. Что мы и делаем. Сотрясаются под ветром несчастные корявые окислившиеся, и обхлорившиеся, и освинцовевшие жалкие деревья непородистого происхождения. Как собаки бывают дворнягами, бастардами, так и деревья. Они еще и стряхивают с потрепанных шевелюр нам на голову мокроту, как бы харкают на нас своими туберкулезными плевками.
Вход в тюрьму с Энергетической улицы. Но нам туда не надо, во вход. Мы шагаем по двору жилого дома, где скрыт от досужих глаз высокий забор. Дождь всё идет, он согнал со двора всех старушек. Вот она — грейдерная башня. Может быть, она и не грейдерная (то есть допотопный холодильник прошлого века), и не считается башней, но в течение пятнадцати месяцев я лицезрел эту башню с другой стороны, из камеры № 32. Впрочем, лицезрел я ее только в летние месяцы, когда нам позволяли открывать окно с 06:00 до 18:00. Я с вожделением глядел на ее осклизшие бревна и ржавые кирпичи фундамента, предполагая, что за башней — свобода, и свежий ветер, и верные друзья в автомобиле. Побег. Любой узник мечтает о побеге.
Я не предполагал, что за башней — спокойный длинный московский двор, где бабки сидят у подъездов в дни, когда нет дождя… И вот я шагаю именно там, куда хотел бы вырваться в моих тюремных лефортовских снах…
Я бы посмотрел на окно камеры № 32, но из-за забора можно увидеть только последний этаж, а тридцать вторая ведь на первом…
— Домой,— спрашивает Колян,— или на Пироговку, к Новодевичьему?
На Пироговской улице я жил в начале семидесятых годов, молодым поэтом в красной рубашке. И у Новодевичьего монастыря встречался с девушкой в белом платье, девушку тащил за собой белый пудель. Девушка собирала крапиву у стен Новодевичьего, чтобы варить пуделю щи с крапивой. На руках у нее были красные резиновые перчатки. В пруду тогда жило семейство белых лебедей.
— Домой.
Хватит сантиментов.
Отцы родные
Когда я отсидел и освободился из лагеря, то обнаружил, что ко мне, видимо, стали хорошо относиться в криминальном мире. Зашел я, по-моему, на третий день свободы, с парой нацболов в ресторан на Поварской… Вдруг подходит большой кавказский человек в черном костюме к нашему столу, улыбается, бутылку шампанского протягивает:
— Эдик, с освобождением тебя! Я в прошлом году освободился.
И поворачивается уходить…
— Выпейте с нами!— говорю я ему.
— Спасибо, не хотим вам мешать… Мы там, в углу сидим!— И скромно удалился.
Я посмотрел. В углу сидела большая компания серьезных мужчин.
А то пришли мы в ресторан «Гладиатор», я там недалеко жил на Сыромятнической, никакого центра искусств там еще не было. «Мы» — я и адвокат Сергей Беляк. Сидим, беседуем, выпиваем, шашлыки заказали. Ресторан недорогой, еда свежая, азербайджанцы хозяева. Людей немного, но сзади, слышу, два типичных тюремных голоса переговариваются. Через некоторое время подходит официант с бутылкой коньяка. Мы коньяк не заказывали.
— Вот, вам велели передать,— говорит официант.
— Кто?— спрашиваю я. Официант кивает мне за спину. Оборачиваюсь. Два мужика, один лет сорока, другой помоложе. Они стоят и, по всему судя, уже уходят.
— С освобождением!— говорит старший.
— Поздравляем!— говорит тот, кому тридцатник.— Нормально сидели?
— Хорошо сидел,— отвечаю.— Так, может, выпьете с нами?
— Спасибо, не хотим вам мешать…
*
Так вот. Знаки внимания от будто бы грубых тюремных натур… А потом произошло вот что… По делу о «захвате приемной Администрации Президента» у меня сели сразу тридцать девять человек. Попали они в разные тюрьмы Москвы. И вот в одной из тюрем, не хочу сказать, в какой именно, на одного нашего парня наехали, старший по хате. Парень наш какой-то там воровской порядок нарушил якобы, и ему за это назначили к выплате некую сумму. Меня в эти дни в Москве не было, я бы дело разрулил. Но я отсутствовал, а наши ребята на свободе взяли, поторопились и выплатили сумму. Это был поступок идиотский, чреватый последствиями, поскольку в той тюрьме у нас сидели десять наших парней. Вернувшись и узнав об этом, я схватился за голову. Сказал, что следует ожидать больших проблем… и оказался прав.
Через три недели смотрящий за этой тюрьмой вор в законе потребовал от десяти наших ребят по тысяче долларов с каждого. Якобы они нарушили тюремный закон тем, что в пересылаемых друг другу малявах обсуждали возможность голодовки. Мол, права такого по тюремным законам они не имели, должны были поставить в известность смотрящего за тюрьмой. На самом деле, как я потом узнал, голодовать они не собирались, да и я бы не дал им разрешения: голодовать было не за что, по сути дела, сидели они нормально. Статью о захвате власти им сменили на 212-ю: «массовые беспорядки». Просто была найдена придирка, чтобы снять с них деньги.
Платить было нечем. Платить ни в коем случае было нельзя. Потому что тогда требованиям конца не будет. Я стал думать. Думаю я обычно, расхаживая из угла в угол, руки за спиной. Как в тюремной камере. Подумав, я достал одну из визитных карточек (у меня шесть книг с визитками) и набрал номер. Спокойный голос ответил. Я просто сказал, что имею проблему, и договорился о встрече. С владельцем визитной карточки я познакомился на дне рождения у одного бизнесмена. Крупный человек с громкой фамилией и интересной биографией сам тогда подошел ко мне. Визитная его карточка выглядела хрупкой в его больших руках. На том дне рождения присутствовал также, помню, министр нашей культуры. Все весело отплясывали. Русское общество удивительно элитарно. Похвально элитарно.
В офисе у крупного человека висели иконы и стояли очень красивые букеты голубых и желтых ирисов. Я коротко изложил ситуацию. Мне по-деловому предложили выяснить несколько дополнительных деталей. Я сообщил, что время поджимает, что на моих ребят оказывают давление, в нескольких хатах их не подпускают к кормушкам, что назначен срок выплаты. Крупный человек вызвал еще более крупного, и они обменялись мнениями. Еще более крупный сказал, что нужно собирать Совет. Мне предложили явиться назавтра на Совет, сюда же. И хорошо подготовиться, обосновать свою, что называется, жалобу. Совет решит.
Назавтра, когда я вошел, а я никогда не опаздываю, в просторном офисе уже находилось пятеро. Седые люди, одетые очень просто, похожие на зажиточных пенсионеров. Только один, помоложе, лишь частично седой, был в пиджаке. Все поздоровались со мною за руку и заняли прежние свои места. Они сидели и стояли вокруг стола с чайными приборами, сладостями и фруктами. Дверь на террасу была широко открыта, за окном — красивый летний день. Приходили и уходили две стройные секретарши в шелковых платьях.
Хозяин предоставил мне слово. Я изложил дело, сказал, что мои ребята неопытные, первоходы, но против тюремных законов не идут, что тюрьму на голодовку подымать не имели намерения, просто опрометчиво обсуждали, что им делать, в малявах. Мне задали вопросы. Я ответил. Самый старый из них, очень худой, в скромной клетчатой рубашке с короткими рукавами, под рубашкой — белая майка, говорил вынужденным шепотом, то ли голос его был сорван, то ли он его начисто потерял. Он спросил, есть ли у меня мобильный смотрящего за тюрьмой, ему сказали, что есть. Я подтвердил и дал ему листок бумаги с номером.
Они встали и вышли на террасу. За исключением самого молодого, в пиджаке.
— Пей чай, Эдик,— сказал он с еле уловимым акцентом.— Всё будет хорошо. Не переживай. Я понимаю, ты переживаешь за своих ребят.
Сказано это было заботливым, душевным голосом. Я заметил, что на столе стоят тыквенные семечки в сахаре! И совсем нет никакого алкоголя.
Часть участников Совета вернулись в офис. Только хозяин и почтенный старик в клетчатой рубашке остались на террасе и расхаживали, попеременно разговаривая по мобильному. Я отщипывал виноградинки от большой кисти и пил чай. Члены Совета степенно переговаривались. Вернулись с террасы переговорщики. Сели за стол.
— Всё хорошо, Эдик,— прошептал старик.— Больше никто не будет обижать твоих ребят. Я говорил со смотрящим за тюрьмой.
Я поблагодарил их, пожал им руки и вышел. Хозяин пошел меня провожать по коридору до лифта.
— Спасибо огромное, никогда не забудем оказанной помощи,— сказал я, пожимая большую руку Хозяина.— Если вам будет нужна наша помощь, скажите.
Хозяин улыбнулся и посмотрел на еще более крупного своего сотрудника. Они улыбнулись и мне, и друг другу. Я вошел в лифт.
— Если будут еще подобные проблемы, там скажите, что за вас впрягся… — тут Хозяин произнес имя худого безголосого старика, которое я не стану вам называть.
— Ну как?— спросили меня в машине мои охранники.
— Как отцы родные,— ответил я.
Вечером мне позвонили ребята из тюрьмы. Радостные. Давление на них прекратили. Все требования сняли. К кормушкам подпускают. А всё отцы родные…
Суды и судьи
Последний десяток лет я провожу массу времени в судах. Бывали такие недели, когда мне приходилось посещать суды по три дня на неделе. Приплюсовывая мой уголовный процесс, длившийся десять месяцев (в Саратовском областном суде), я, по всей вероятности, провел в судах, может быть, полных года два!
Мне знакомо большинство судебных зданий Москвы. Тверской суд — красного старого кирпича, куда заходят через арку с Цветного бульвара; крашенный охрой Басманный суд у метро «Красные Ворота», на Каланчёвской улице; Лефортовский — прижавшийся к холму, где стоит Спасо-Андроников монастырь, у Костомаровского моста; Таганский — там рассматривались наши партийные иски против Министерства юстиции, там же в конце концов запретили партию. Знакомы и провинциальные суды: Никулинский, где судили тридцать девять нацболов за акцию в Администрации Президента в декабре 2004 года, нацболы в трех клетках, двадцать шесть адвокатов, Политковская в зале, нервные родители; Бабушкинский; даже суд в городе Химки, где я сужусь с милицией аэропорта Шереметьево, они утверждали, что у меня фальшивый билет, я хочу этот билет получить, и другие суды… Думаю, и тех, что упомянул, достаточно, чтобы подтвердить мой колоссальный опыт.
Самый для меня нервный суд — Лефортовский. Да еще так случилось, что, выйдя из тюрьмы, я поселился волею случая неподалеку, у Яузы, и мне довелось проезжать мимо него впоследствии чуть ли не каждый день. Меня возили в Лефортовский из тюрьмы «Лефортово» летом и осенью 2001 года, пару раз я и мой адвокат требовали сменить мне меру пресечения на подписку о невыезде или под залог. Ясно, что мы не верили, что меня с моими статьями (205-я — терроризм, 208-я — создание незаконных вооруженных формирований, 222-я — закупка оружия и 279-я (потом ее сменили на 280-ю) — свержение государственного строя РФ) вдруг на свободу — «иди, милый!» — выпустят. Но нам необходимо было вызвать внимание к процессу. Там, в Лефортовском суде, осталась моя боль: там я сидел в только что отремонтированном боксе, его покрыли цементной шубой, и пары цемента, высыхая, оседали в моих легких. Боль, потому что во второй раз я не увидел в коридоре суда моей подружки. Она, сказали мне, заболела, а я не поверил. Как не верят все мнительные зэки, я решил, что она меня оставила. Дело мое решили в десять минут, рано утром, и весь остаток дня я сидел, вдыхая эту шубу, и мучился, представляя мою юную подружку с мужчинами. Тусклая лампочка над дверью в нише порою совсем потухала. Когда я проезжаю там в автомобиле, я не могу смотреть на Лефортовский. Вот загон, куда въезжают автозаки… когда меня привезли в первый раз, там шумели неистовые нацболы: «Наше имя — Эдуард Лимонов!» Второй раз хитрый конвой привез меня совсем рано, нацболов еще не было. Въезжать в загон не стали, приковали наручниками к здоровенному сержанту, и тот повлек меня по ядовито-сочной августовской траве к зданию суда… О!..
У Таганского 13 апреля 2006-го на меня бросилась толпа подмосковных юношей. Молча, без лозунгов, нацболы отразили атаку, меня потащили в суд и доставили в зал. Судья хладнокровно вынес решение о запрете партии. На окнах были цветы. Мы попросили вызвать ОМОН. Пока судья ждал ОМОН, он взял лейку и полил, видимо, персональные, жирные яркие цветы, точнее растения, поскольку цветов на них не было. Судья просто весь покраснел в уходе за цветами. Он был в мантии и подвернул один, правый, рукав, чтобы удобнее было.
На судебную мебель я насмотрелся достаточно. Как правило, она изготовлена из клееной фанеры. Чаще мебель бывает светлая. По прошествии пары лет постоянной эксплуатации мебель быстро расщепляется, откалывается по углам, трещит от горя судебных приговоров. Сейчас, впрочем, суды стали выглядеть в Москве много лучше, в середине девяностых это были просто трущобы. В Химках до сих пор залы крошечные, негде ноги вытянуть. Судья греется обогревателем под столом. Бабушкинский суд, где меня рассудили с мэром Лужковым не в мою пользу, вид имеет потрепанный, хотя до судов девяностых всё же ему далеко. И тоже растения на окнах. В судах — растения, а когда вы попадаете, гражданин, в лагерь, то там другая мода — там аквариумы с рыбками. Заключенные поутру роют червей ложками — рыбам пропитание добывают.
У судей в судах средневековые лица. Где они только, от каких родителей свои лица получают? Как-то в Тверском суде, если не ошибаюсь (слушалось дело Ольги Кудриной, висевшей на альпинистской веревке на фасаде гостиницы «Россия» с лозунгом, призывающим президента уйти в отставку), я увидел судью — молодого человека с темно-рыжей шапкой густых волос и шотландскими просто баками. Ему можно было играть королевского судью XVII века не гримируясь. Большинство судей, впрочем, женщины, и, к неудобству обвиняемых, женщины того возраста, когда счастье разве что в еде. Плохо крашеные, в основном не следящие за собой (есть, впрочем, исключения), в обыденной жизни эти тетки не остановили бы ваш взгляд; но когда они вас судят, будьте уверены, они вас и не любят, и выполняют свой профессиональный долг.
Я бывал много раз даже в суде Верховном, что на Поварской, это тот, где Фемида сделана скульптором без повязки. Однажды дело дошло даже до Президиума Верховного суда; одиннадцать, по-моему, судей в тогах, как инквизиторы, плюс председатель Лебедев. Старые все, темного дерева цветом (а может, это загар ада). Я прочел им свою речь твердо и сильно, и они меня не перебивали. Я сказал, что сама история смотрит на них, и поднял глаза к высокому потолку. Я полагаю, они пришли вечером в семью, к детям и внукам, и рассказали им о моей речи. Однако они подтвердили своим решением запрещение партии, которую я основал за четырнадцать лет до этого.
О, суды! Юдоли слез, а помещения — свидетели страстей и страданий человека. В Саратовском областном суде зимой с 2002 на 2003 год было так холодно, что мужчины сидели в пальто и тулупах, а женщины-адвокатши — в шубках. Однако самым щемящим душу воспоминанием о суде остается для меня встреча на лестничной площадке Лефортовского суда. Меня после решения «отказать» вели вниз, и конвой потерялся — вовремя не очистили площадку. Я шел в наручниках, руки за спиной, голова наклонена. Увидел знакомые ножки, в черных носочках и сандалетах. Поднял взор: Настя, ей было в тот год девятнадцать!
— Какая у тебя чудесная куртка, Эдуард!— произнесла она и улыбнулась сквозь слезы. Это она хотела меня ободрить. Я потом весь срок вспоминал эти носочки на маленьких лапках.
Новый год, порядки новые
Жизнь у меня складывалась так, что момент перехода от старого к новому, ночь Святого Сильвестра, если придерживаться католического календаря, я, бывало, проводил то в одиночестве, то на фронте, а то и хуже — в местах изоляции, в тюрьмах. Если в детские и юношеские годы я ухитрялся вести себя вполне банально (но даже тогда вспоминаю один Новый год, проведенный мною на лавке в отделении милиции в Крыму, в городе Алуште, не то 1958-й, но то 1959-й это наступал год), то во взрослом моем возрасте количество нестандартных Новых годов стало превышать количество обычных.
В Париже, а я прожил в этом сногсшибательном городе аж четырнадцать лет (завидуйте мне, люди!), я, как правило, в новогоднюю ночь оставался дома и работал. Дело в том, что незабвенная моя супруга тех далеких лет, Наталья Медведева, работала в ночных клубах и ресторанах и в ночь Святого Сильвестра была обыкновенно занята, пела низким своим голосом романсы и русские народные песни для алчущих экзотики посетителей. Я же, холодный, гордый и отстраненный от обывательских радостей интеллектуал, сидел в ночи Святого Сильвестра за столом и упоенно писал, писал, писал… и лицо мое иной раз озарялось высокомерной улыбкой презрения к роду человеческому.
Новый 1992-й, помню, встретил на войне в окрестностях выбомбленного до фундаментов зданий сербского города Вуковар. Нам принесли в бидонах из-под молока горячую пищу, суп с бараниной и фасолью, у нашего отряда было несколько канистр вина, так что больший кусок ночи мы провели неплохо. Только под утро разгоряченные вином хорваты начали обстреливать наши позиции вначале из личного оружия, а к рассвету дело дошло до минометного обстрела. Ну и мы в долгу не остались…
Новый, 2002 год я встретил в камере № 32 тюрьмы «Лефортово» в Москве. В тот момент я имел в камере № 32 только одного соседа, всклокоченного здоровенного молодого еврея, осужденного за экономическое преступление. Вдвоем мы соорудили себе салат, нарезав помидоры, огурцы и зелень ножом из плексигласа. Вот что у нас было на первое блюдо, не помню, кажется, была колбаса. В новогоднюю ночь телевизор разрешено было смотреть до шести часов утра, чем мой сосед и воспользовался. Я же улегся спать в половине второго и долго ворочался от звука проклятого телевизора.
Год 2003-й я встретил уже в другой тюрьме, саратовской. К ночи Нового года камеру «почистили», и осталось нас в камере только пятеро. У нас была копченая курица (копченых куриц иногда присылала одному из сокамерников, бывшему министру культуры Саратовской области «дяде Юре», жена) и даже борщ, его мы сварили сами. Нам тогда вдруг разрешили опять иметь в камерах плитки. О, Новый год в тюремных стенах обладает крепостью, горькостью и печалью, какой не обладает даже самый трагичный Новый год на воле. Даже вульгарный телевизор слышится иначе. А крепкий чифирь сладостно полощет горло не хуже французского шампанского. После чифиря все закурили, даже те, кто не курит, и яростные глаза сокамерников ярко сияли из дыма. Видимо, виделся мужикам дом родной, близкие люди. А после была лошадиная доза телевизора, что же еще…
А в самый момент Нового года (сигнал подал президент Путин из телевизора) застучали по решеткам, закричали в открытые форточки радостные зэки: «С Новым годом, третьяк!— закричали они.— С Новым годом, третьяк!» «Третьяк» — это третий корпус Саратовской центральной тюрьмы, где сидели мы, самые «тяжелостатейные». А радостными зэки были оттого, что еще один год за решеткой закончился, свален. А там, глядишь, в новом году вдруг и большая амнистия случится. Новый год, порядки новые…
Нет, Новые года на свободе не имеют такой крепости, как Новые года в тюрьме. Только упаси нас от них, Господи!
Время
Мальчики… в глазах
«Что, Лимоноф, твои соотечественники такие дохлые? Уже третий лидер помер… Вот наш Клемансо в 88 лет во время полового акта преставился… Французский мужчина — лучший в мире. А ваши — слабаки. Я всегда ошибочно представлял русских бородатыми великанами». Жерар Гасто, хромой фотограф агентства SIPA, ловил меня в объектив, щелкал затвором, но не забывал ранить мою национальную гордость. Разговор происходил в Париже в 1985 году. Умер Черненко, и советские поспешно хоронили его на Красной площади, сами стесняясь похорон. Ведь сколько можно, третий подряд… Брежнев, Андропов, Черненко. Генсеком стал молодой и неотесанный Горбачев.
Я тотчас отметил его деревенский выговор, обожающий взгляд, направленный на мегеру Тэтчер. По мне, Тэтчер не стоила внимания, буржуазная английская тетка с сумочкой. Безвкусная и стерильная, как все англичанки… Первое впечатление в большинстве случаев оказывается верным. Замеченные мною горбачевские качества позже и проявились во всем их блеске. Неотесанность выразилась в полном отсутствии знаний о со временном мире, и следствием этого стала неразумная внешняя государственная политика, а тщеславие привело его в объятия Тэтчер, потом Рейгана и Буша-старшего. Хитрые лощеные ребята льстили ставропольскому механизатору, у которого от их ядовитых похвал кружилась голова: «Я ли это, простой Мишка Горбачев, стою рядом с умными и великими владыками мира?!» Я уверен, что именно так расшифровывались в слова его взгляды украдкой, я видел по ящику, он на западных этих бросал. Бросал. Ну, они ему и напели, олуху ушастому, про общечеловеческие ценности, что Варшавский договор надо распустить, Германию — объединить, но не так, чтобы одна ГДР получилась, а так, чтобы все немцы под ФРГ оказались. Он так и сделал, как они ему внушали. Объединил.
Жерар Гасто — мой хромой друг, а не только фотограф,— упрекнул меня за объединение Германии.
— Зачем, Лимоноф, вы это сделали? Нам, французам, опять придется с «капустниками» воевать. И вам. Зачем?
Я сказал, что я тут ни при чем. Что мне самому не нравится вновь образовавшееся немецкое величие.
— Идиоты вы, русские,— сказал Жерар. Две трети французов, оказалось, думают так же, как Гасто. Потому что в декабре 1990 года опубликовали «зондаж» общественного мнения. Французы, вспомнив 1914 и 1939 годы, сказали: мы недовольны. «Капустников» теперь больше 80 миллионов. Опасно.
Дальше по приказу улыбчивого Горби КГБ стал устраивать бархатные революции в соцстранах. Быстро так бегали толпы через телеэкран, и страна за страной падали, как карточные домики. Режим за режимом. Вполне бескровно; только на родине графа Дракулы, в Румынии, на улицах стреляли и не смогли удержаться, чтобы не расстрелять влюбленную пару Чаушеску, Николае и Елену. Старый диктатор и его жена, впрочем, умерли достойно, чуть ли не держась за руки лежали на асфальте дворика, мертвые, но, видимо, влюбленные.
Потом дошла очередь до Югославии. Только объединившись, германцы немедленно поддержали деньгами и оружием отделение Хорватии и Словении. Я сам видел сбитый самолет с оружием, летевший из Австрии в 1991 году к хорватам. И еще один сбитый, с оружием, летевший из Венгрии. Своими глазами. Хорватских повстанцев стали обучать на бывших советских военных базах в Венгрии. Вот так, господин социал-демократ Горбачев! Военная база, как свято место, пуста не бывает. Если ушли советские, пришли противоположного лагеря военные. Эта и подобные истины в книгах есть. Нужно было лишь читать. «Книгу правителя области Шан», «Принц» Николо Макиавелли, Клаузевица и Мольтке и много чего другого. А не сидеть истуканом на тупых пленумах, переливая из пустого в порожнее.
Я пытался исправить хоть что-нибудь на Балканах, единолично, с личным оружием противодействовать тому, что наделал Горбачев. Но что мои слабые силы, даже вместе с силами двенадцати миллионов сербов?! Мы потерпели поражение.
В 1996 году авангардные кинематографисты Сальников и Мавромати провели меня с черного хода в Дом кино, где происходила встреча кандидата в президенты России М. С. Горбачева с избирателями. Встреча уже продолжалась минут сорок, когда я вошел с охранниками и сел во второй ряд. Собравшиеся узнали меня и недовольно зашумели. Они просто не понимали меня тогда, рано было им понимать. Они там, со сцены, зачитывали записки, но я встал и поднял руку.
— У меня вопрос,— сказал я.
— Вопросы только в письменном виде,— занервничал директор. Горбачев вгляделся в меня.
— Пускай говорит, я его знаю. Я видел его в кино. (Очевидно, он имел в виду в телевизоре.)
— Эдуард Лимонов,— представился я.— У меня вопрос вежливый по форме и неприятный по существу. Когда вы спите, по ночам не снятся ли вам, бывшему президенту СССР, мальчики кровавые?
Зал за моей спиной разразился негодующим шепотом и злыми выкриками:
— Уберите его. Выведите! Вывести его!
Но я продолжил:
— Даже если мы не станем касаться несчастий, обрушившихся на нашу страну в результате вашего бездарного правления, то даже то, что я видел в Югославии, вечным проклятием должно будить вас. Погибли и гибнут сотни тысяч жителей Югославии, потому что вы дали объединить Германию и выпустили всех демонов балканских национализмов…
— Вопрос! Какой у вас вопрос?!— закричал директор.
— А всё тот же,— сказал я.— Снятся ли мальчики кровавые?
Я сел. Подумал, что сейчас они меня линчуют.
— Ну што ты думаешь, ну што вы думаете, они бы без меня не освободились… Они бы всё равно освободились, эти соцстраны. И Германия бы объединилась,— начал он. И понес, пошел излагать никак не доказуемую популярную гипотезу, что всё бы развалилось само. Без его вмешательства.
Я послушал-послушал, и когда он остановился, так и не ответив на мой вопрос, видятся ли ему мальчики кровавые, встал и выбрался из зала. Мои охранники вышли со мной.
В отличие от Горбачева, я видел реальных мальчиков кровавых: трупы пятерых детей со следами пыток на них, у одного были выколоты глаза, в Центре опознания трупов близ города Вуковар в ноябре 1991 года. Иногда они снятся мне. Бедные дети. И вот я думаю: что, если на одну чашу положить нашу перестройку, а на другую — даже только эти пять жизней, то какую чашу потянет вниз? Не уверен, что перестройку.
Реставрация будущего
Я тут как-то подумал, что у меня есть все шансы дожить до возраста Черчилля. То есть за девяносто. Дело в том, что у меня неплохая наследственность. Люди в моем роду доживали до 104, до 98 лет. Моя мать, дай ей бог здоровья и еще более долгих лет жизни, жива, и ей пошел 87-й год. Так что имею шансы на долголетие. Ну, разумеется, с поправкой на то, что в нашей стране такому радикальному политику, как я, могут насильственно укоротить жизнь выстрелом либо очередью, а то и взорвут к чертовой матери. Среди ближайших кандидатов на роль самой предпочтительной живой мишени РФ у меня, видимо, равные шансы с Каспаровым и Касьяновым. Господин Луговой, крупный авторитет в своей области, уже в июне в интервью «Комсомольской правде» назвал меня и Касьянова будущими жертвами. Но я люблю бороться с судьбой и одолеть ее.
А Черчилль в свои последние годы усиленно наслаждался своей свободой отставного политика. Есть множество кадров, где старый Уинстон, одетый в белые брюки, в морской китель и фуражку-капитанку, садится в шлюпку вместе со светскими персонажами, чаще всего с Жаклин Онассис, чтобы отправиться на яхту к миллиардеру, ее мужу. В те годы он получил Нобелевскую премию по литературе, был в центре внимания общества. Не забывая выпивать бутылку коньяка на протяжении дня, старый волк был целый день под хмельком, то есть ему было хорошо. Он, видимо, считал, что заслужил отдых. Раньше у него были тяжелые министерские и премьерские обязанности, и, оказавшись отставником, он пустился во все тяжкие.
Когда я смогу, после многолетней службы России году этак в 2033-м, наконец сложить с себя груз полномочий, то у меня будет выбор: пуститься ли во все тяжкие, то есть не ограничивать себя в алкоголе, в светской жизни и доступным моему будущему возрасту эротическим удовольствиям, либо, напротив, ударится в аскетизм и благородное нищенство.
Вариант «во все тяжкие» будет выглядеть так. Тропический остров в Океании. Бунгало. На террасе — старик в кресле-качалке, одетый в безукоризненный белый костюм. Полшестого утра. Старик любуется восходом солнца. Это терраса публичного дома в южных морях. Старик — это я. Я владелец этого публичного дома в южных морях. Это 2033 год. Старик звонит в колокольчик, взяв его со стола. Появляется бледная и красивая маленькая китаянка, обаятельная, как цветок лотоса. Потому что это очень дорогой публичный дом. В руке у китаянки небольшой поднос со стаканом виски со льдом.
— Ваш первый утренний скотч, мсье Эдуард,— говорит китаянка по-французски.
— Спасибо, Чио-Чио-сан.— Старик похлопывает девушку по попе, покрытой шелковым кимоно. В этот момент из океана появляется сверкающий край солнечного диска.
Вариант «аскетизм и благородное нищенство». Город Бухара. 2033 год. Около шести утра. Кричит с минарета муэдзин. Идут на утреннюю молитву верующие, мягко ступая. У мечети сидит нищий старик в черном стеганом халате. На голове его зеленый тюрбан. Халат подпоясан алым кушаком. На зеленом полотнище перед стариком лежат истертые бронзовые монеты и зеленые, истертые до дыр сомы — непрочные азиатские бумажные деньги. Старик — это я.
У мечети останавливается крупный автобус с яркими надписями на бортах. «TransAsia Tours» — кричат красные буквы. Из автобуса вываливается толпа подданных ее величества королевы Английской. В толпе много рыжих. Бесцеремонные и наглые, они устремляются ко входу в мечеть, на ходу ослепляя верующих мусульман, идущих на утреннюю молитву, вспышками. Толпа проходит мимо нищего старика. На него нацелены десятки фотообъективов. «What a beautiful old man!» — это восклицание принадлежит юной рыжей подданной ее величества. Она плюхается на колени перед стариком и бесцеремонно фотографирует его в упор.
Старик в бешенстве вскакивает, подхватив свой ореховый посох. Он кричит: «Английские свиньи! Убирайтесь прочь, английские свиньи! Не мешайте мне разговаривать с Аллахом!» И колотит посохом по рыжей плоти, затянутой в джинсы.
Третий вариант будущего, если господин Луговой, окажется, был прав, такой.
Одно из московских кладбищ. Полшестого утра. Несмотря на такой ранний час, к бронзовому памятнику уже сошлось, может быть, с сотню поклонников его таланта и сторонников его идей. Они приезжают из очень отдаленных регионов России и других стран. Стоят, поблескивая очами в отдалении, либо, напротив, зажигают свечи и устанавливают их у памятника. Одна из рук памятника, ее кисть, блистает, ярко отполированная под лучами только что взошедшего солнца. Существует поверье, что если коснуться руки бронзового Лимонова, то это принесет коснувшемся удачу и личное счастье. Также прикосновение к его руке гарантирует женщинам беременность.
Власти долго боролись с поклонниками и сторонниками. Закрывали кладбище, окружали могилу колючей проволокой, запрещали к ней приближаться, но все эти меры не возымели действия. Место захоронения застреленного политика и поэта всегда завалено цветами. Поклониться ему и соискать удачи приходят ежедневно тысячи граждан.
СССР — наш Древний Рим
Сейчас я немного поною.
Нет, я неточен, я не буду ныть, я просто, как старый классик, как какой-нибудь Шатобриан в его «Mémoires d’outre-tombe», поностальгирую о старой жизни.
Тех людей, мужчин и женщин, с которыми я начинал жить (я родился в 1943-м, а в сознание пришел и стал разглядывать мир где-то около 1950-го), уже нет. Те, кто был взрослый, когда я их увидел, давно вымерли.
Мужики были невозможные мачо. Грубые, мощные, с выразительными кожаными лицами, как у злых святых в фильме Пазолини «Евангелие от Матфея». Последний инвалид, бывало, гаркнет снизу со своей тележки на подшипниках — и сивухой в лицо, как дракон опалит. Лица у мужиков были у всех как у постных зэков-насильников. Даже чиновники были лишены лоска, грубая ходячая материя, картошка какая-то тяжелая в штанах и пиджаке.
А в женщинах было всё бабье. Сейчас в женщинах столько бабьего нет. Сейчас либо мужское в женщине преобладает, либо девочкино, либо вообще бесполое. В те времена, после войны, каждая женщина была бабой.
Плакать умели. Сейчас разучились плакать, потому что настоящих чувств не испытывают. Плачут сейчас, как, видели, актрисы в сериалах плачут, а тогда бабы плакали от сердца, от сисек, от осиротевших интимных частей, если мужик помер.
И еще люди тогда пахли, то есть у них запах был. Санитарии в коммунальных жилищах было мало, и никчемная всё, жалкая. Зато люди властно и сильно пахли. Особенно пахли женщины, забивая запах духами, но всё же их естественный пробивался. Мужики пахли табаком, водкой либо коньяком в зависимости от социального статуса и достатка. Военные пахли сапожной ваксой и вдобавок чуть-чуть промасленным оружием.
Костюмы и пальто тогда покупали на всю жизнь. Брюки штопали или латали. Человек с заплатой на колене или локте не выглядел дико. Латали даже туфли и ботинки в верхней части. Я сам ходил с такими заклеенными. Дети донашивали за отцами. Мать выпарывала кант с отцовских эмгэбэшных брюк, и я их носил, те брюки. Кастрюли тоже латали, у нас были две таких, с припаянными нашлепками.
Всего было не вдоволь, зато вещи ценили. Игрушек у детей было ничтожно мало, зато старую куклу, измочаленную, поврежденную, дети прямо зацеловывали. Сейчас у моих детей много мешков с игрушками, и потому нет любимых.
Ели жадно. Ели плохо. Мы, помню, после войны питались фасолью с луком и постным маслом довольно долго. Через шестьдесят пять лет от того блюда помню его замечательный вкус. А вот хлеба было мало.
Хоронить умели. Везли, бывало, через весь город на открытой полуторке, чтоб всем было видно. Большой человек умер — много людей шло, маленький — семья ковыляла за гробом, но всё открыто, и люди труп видели и о своей смертной сущности не забывали. Сейчас смерть скрывают, а это зря. Похороны военных бывали просто огненными от кумача.
Сейчас по улицам российских городов ходят другие люди. Лиц-то таких, как после войны,— нет. Те были — честные и простые лица. Тогда лицами гордились, сейчас лицами прикрываются.
Молодые мужчины в этом году похожи на девушек, хорошо не все. А в девушках выдвинулось наружу то, что ранее было принято хоронить внутри. Многие женщины выглядят так, как будто, вскочив с постели, они забыли одеться.
У части прохожих чудаковатый вид. Раньше такие по сумасшедшим домам сидели. Сейчас себе невозмутимо шагают по улицам. Одежда стала неприлично яркой, от яркой одежды многие превратились в детей, думают, что они — дети.
Если бы два народа, послевоенный и сегодняшний, вывалили на одну улицу, послевоенные побили бы современных за один только несерьезный внешний вид. А девок и женщин заставили бы одеться.
Ну ясно, что в современных русских масса достоинств, однако два народа друг друга бы не поняли. Прадеды и правнуки.
Как-то быстро проходят поколения. Раньше все бабки и девки и даже девочки в платьях бегали. А сейчас разве что в церковь напялят и спрячут. Жалко, что платков на женщинах нет. Он придавал им милый, честный вид, трогательный такой. Я противник всяких псевдонародных опереточных сарафанов и кокошников, но простой платочек на бабе просто за сердце берет. Платки бы вернуть.
Мужественность мужикам возвращают обыкновенно войны. Тот, кто хоронил убитого товарища, приобретает строгую маску лица. Испытания нужны народам, чтобы они не обабились и не впали в детство.
Я так полагаю, что целых три народа за мой век сменились уже.
Послевоенные. Самые мне предпочтительные. Гордые, несмотря ни на каких Сталиных, высокомерные корявые мужчины-мачо, титаны, древнеримские герои. Ведь СССР был наш Древний Рим!
Поколение времен застоя. Уже порченое такое, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Поколение кинокомедий-насмешек над собой и над послевоенными титанами Древнего Рима.
Ну и то, что в последние двадцать лет появилось. Они принимают себя за детей, соответствующе одеты и всё время хотят отдыхать.
А я кто? Ну я, как смертный Господь Бог, за ними наблюдающий.
Разговор с матерью
8 марта я разговаривал с матерью последний раз. Она сумела связно произнести только три коротких фразы. Последней была: «Где Богдан?» Я усиленно врал ей два месяца, что всё в порядке, Богдан в Москве, гуляет в парке с мамой… И вот, умирая, моя мать сообщила мне, что не верила мне всё это время. Как она узнала? У нее, видимо, была давно установлена сепаратная метафизическая связь с внуком. И она знала, что внук находится ещё с января в опасном индийском Гоа. Бегает голышом среди коров и наркоманов…
13 марта мне позвонили и сообщили, что сиделка нашла мать в постели мертвой. На следующее утро я был в Харькове. Соседи и сиделка уже приготовили мать к поездке в крематорий, к последнему земному путешествию. Они обмыли ее, повязали на голову платок. Второй платок поддерживал челюсть. Но челюсти всё равно не сомкнулись. Мать умерла одна, рано утром, а сиделка пришла чуть ли не в двенадцать.
Я закрыл дверь и остался с матерью один в комнате. Я сказал ей, мертвой, всё, что не мог сказать живой. Начал я с того, что посетовал на то, что она лежит в платке.
— Ты никогда не носила платков, ты ходила в шляпах и в беретах. Прости нас, но не можем же мы положить тебя в гроб в шляпе. Или в берете. Не можем, прости…
Потом я сказал ей, что в последние пару лет она сделалась злой и была несправедлива к соседям и подругам. Несправедливо обвиняла их в похищении мелких предметов быта: пробки от ванны, удлинителя, перчаток, еще какой-то мелкой дряни…
— Соседи твои, мать, простые, сердобольные тетки, очень сокрушались по поводу несправедливых твоих наветов, но они тебя уже простили…
Затем я перешел к нашим с ней отношениям.
— Ты, мать, наврала ведь журналистам, что никакой татуировки у тебя на руке не было, что будто бы я, твой сын, всё это придумал в книге «Подросток Савенко», где есть сцена, как я вывожу тебя с дымящейся рукой из ванной. «Мой сын — фантазер,— сказала ты,— он это всё придумал». Ты наврала: эта сцена и сегодня стоит передо мною во всем ее реализме: ты скривилась от ужасной боли, еще бы, облила руку соляной кислотой, и я, пятнадцатилетний пацан, не растерявшись, вывожу тебя из ванной и тащу в больницу. Конечно, ты, став женой офицера, стеснялась своей, видимо, бесшабашной юности. И этой татуировки — всего три буквы: «Р А Я», твое имя. Бог с ним, мать, дело прошлое, но чего ты стеснялась?
«Я не могу носить платья с коротким рукавом…» Могла остаться без руки. Хорошо, раствор кислоты был не самой страшной крепости…
— А еще вы с отцом никогда не верили в мой талант… Только в 1989 году, когда советские журналы стали печатать мои тексты, вы поверили, что ваш сын — значительный писатель…
Мать лежала куском зачерствелого хлеба под своими платками, маленькая, как садовый гном, и молчала, разумеется. Глаза ее были полузакрыты.
— А еще ты меня предала; помнишь, когда я семнадцатилетним убежал с Сабурки, ты привела ментов и санитаров к Толику Толмачеву… Я открыл глаза, а перед кроватью менты, и ты с ними! Ты сказала, что сейчас меня повезут на Сабурку, только для того, чтобы оформить документы на выписку. Я тебе поверил, а они бросили меня на буйное отделение и стали колоть инсулин, доводя курс лечения до комы!.. Я там натерпелся, мать, в свои семнадцать лет, видел такое, чего ты до конца своих дней не увидела…
Мать молчала, но у нее, мне показалось, появился виноватый вид. Та же самая мертвая мать, но и не та же самая. Я остановился и вгляделся в нее.
— Ну ничего, в двенадцать приедет автобус из крематория. Отнесем тебя вниз, положим в гроб, сожжем, а прах поместим рядом с твоим любимым Вениамином. Вот и соединитесь. 62 года прожили вместе. Он тоже там тоскует, наверное. Будете лежать вместе там, под туями, на аллее, где ветер приносит аромат соседнего соснового леса, если его не вырубят, конечно. Влюбленные друг в друга…
Я помолчал.
— Ты была мне нормальной матерью. Без сюсюканья, но я имел всё что нужно. У нас была одна комната, но была хорошая еда, было сливочное масло. Были книги. Отец не пил и не курил. Спасибо вам за книжный шкаф, книги я раздам людям… И одежду раздам, и вообще всё раздам, оставлю пару вещей на память… Думаю, мне повезло, что я родился от любящих друг друга людей… За это тоже спасибо.
Изо рта у матери были видны металлические дешевые зубы. Я вспомнил, что у нее был властный, жесткий характер, и что я жил с ней подростком, как кошка с собакой. У меня тоже оказался жесткий характер. Я с девяти лет от роду настойчиво убегал из дома, а прочно ушел от них в 1964 году.
— Ну что, теперь у меня никого нет. Богдан вот есть, но пока он придет в сознание и поймет, кто он, чей сын, пройдет время. Прощай, мамуля, ты почему-то снишься мне всегда молодой, лет тридцати пяти. Думаю, это оттого, что столько лет было тебе, когда я ушел от вас жить к моей подруге Анне. И уже больше к вам не возвращался.
Я поцеловал мать в лоб и вышел из комнаты.
Русские, украинские женщины вовсю стучали ножами на кухне: готовили салаты для поминовения. Русские женщины просто блистательны, необыкновенно эффективны в случаях смерти. Обмоют, отпоют, всё приготовят.
Приехал автобус. Мы вынесли два табурета к подъезду. На табуреты положили гроб. Мои охранники снесли тело матери в одеяле вниз с пятого этажа украинской хрущевки. Сиделка долго поправляла голову Раисы Федоровны Савенко. Восьмидесятишестилетняя голова сваливалась с подушки. Жители спального района подходили поглядеть. Пошел дождь. Провожающих в последний путь было немного: помимо соседей и сиделки — мои охранники, трое, мой приятель полковник, несколько отличных мужиков — местных бандитов. Два гвоздя отделили Раису Федоровну от нас. Гроб вдвинули в автобус, и мы помчались в крематорий, машина бандитов впереди… Там после короткой церемонии гроб с матерью уплыл от нас в дыру в стене навсегда. Потом были поминки…
Я приехал на сороковины и съездил в крематорий-колумбарий. Нашел нужную аллею. Рядом с фотографией хмурого отца моего Вениамина Ивановича фотография еще молодой моей матери. Вид у нее довольный. Думаю, если бы им было плохо, у нее был бы соответствующий вид. Это было 21 апреля, и Украина вся цвела уже.
Размышления доктора Лимонова
Все мы, видимо, играем персонажей, которыми нам хочется быть в определенный период нашей жизни. Помню, как я и тоненькая тогда модная Елена явились на просмотр фильма «Бонни энд Клайд». Это был незапамятный чуть ли не 1971 год. Я только что купил себе в комиссионном магазине на Преображенской площади черный костюм в тонкую белую полоску, я называл его гангстерским. Я был в красной рубашке и черном галстуке. Просмотр проходил в помещении не то журнала «Советский экран», не то в помещении журнала «Искусство кино». Елена была в широкополой шляпе с цветами. Мы были красивее пары Бонни и Клайда. К тому же просмотр этот случился в период нашей первой ссоры и размолвки, потому вид у нас был крайне трагический. Елена была тогда чужая жена, и кинематографическая общественность бурно обсуждала ее роман с мало кому известным юношей-поэтом. А это был я.
Потом наши эталоны сменились, мы попали в Нью-Йорк, расстались. Я, лежа в траве Централ-парка, учился английскому по книге Че Гевары «Реминисценции Кубинской гражданской войны», а у Елены появился седой, хромающий миллионер с бородкой, она говорила, что он похож на персонажа эротической классики того времени, фильма «История О». Теперь, спустя тридцать лет, я сам похож на этого сэра Стефана, персонажа из «Истории О». Зато Елена (вот она, справедливость!) стала неприятной теткой 55 лет, я ее недавно видел. А тогда я был длинноволосый, мрачный и похотливый молодой парень, а ей нравились, видите ли, тогда такие, каким я стал сейчас. Вот я думаю, а может быть, я и стал таким потому, что тогда я ее так мощно любил, что вот задал себе задачу стать таким, какие ей нравились? Никто не сможет с определенностью ответить на этот вопрос. Но вот стал. Еще я похож на персонажа фильма Бунюэля «Этот неясный объект желания». Обыкновенные люди имеют тенденцию сравнивать меня то со Львом Троцким, то с Дон Кихотом, но это общие, поверхностные сравнения. Сэр Стефан, персонаж Бунюэля, а еще актер, игравший в фильме «Французский контакт»,— ближе. На самом деле это типаж Макса фон Зюдова, сыгравшего Гарри/Германа в фильме «Степной волк». Я, признаюсь, люблю эту интеллигентскую книгу. И герой Гарри, абсолютно противоположный мне, мне нравится.
Так вот мы и живем, сменяя личины. Ну хотя бы те, кто достиг определенного уровня развития. В самом начале девяностых годов, когда я запоем погружался в атмосферу извержений народных вулканов, жил в горячих точках и писал о них, я носил короткие волосы и камуфляж. Попав в грандиозную реальность мистического Алтая, отпустил себе бородку китайского философа, в таком облике было сподручнее медитировать на горных вершинах. Когда меня сняли с вершин спецслужбы в первый год XXI века и посадили в тюрьму «Лефортово», я сохранил облик китайского философа. Когда меня привезли в колонию, я изменил внешность сам, не желая сражаться с администрацией по этому поводу: я стал зэком с кожей, обтягивающей череп, несколько вертикальных морщин и постное лагерное выражение лица.
Покинув лагерь, я тотчас постарался стать опять китайским философом. На фотографии в моем общегражданском паспорте — чуть обросший щетиной на черепе и на подбородке, я все-таки похож единственно и недвусмысленно на только что освободившегося зэка и больше ни на кого. Так и хочется сказать себе: «Здравствуйте, зэка Савенко». А этот паспорт будет представлять меня до конца дней моих, всякий раз напоминая о заключении. Мне нужно было послушаться моего адвоката Сергея Беляка, он советовал мне сделать новую фотографию перед самым получением паспорта. Дело в том, что я ждал паспорта шесть месяцев и за это время, конечно, изменился. Но я не послушался тогда и теперь до конца дней моих, извлекая «общегражданский», буду вспоминать лагерь, а другие — те, кто получит паспорт в руки,— будут мгновенно понимать: надо же, вроде интеллигентный человек, очки, бородка, а вот, оказывается, побывал за решеткой, преступник.
— Ну и побывал,— хочется мне сказать,— ну и преступник, а я горжусь!— хочется мне сказать им. Тем безымянным персонажам, которые меня сажали.
На самом деле происходит совершенствование облика по мере духовного возмужания героя, если духовное возмужание имеет место. Первый признак неудачного и болезненного развития — это когда юношеские фотографии человека остаются его лучшими фотографиями. А на последующих он хиреет, мрачнеет, опускаются уголки губ, человек становится некрасивым. Увы, лишь немногие становятся с течением жизни более красивыми, благородными и одухотворенными. Большинство становятся похожи на злых либо несчастных животных. Я твердо верю в то, что существует связь между обликом человека и его деяниями. Оттого по-своему уродливы все без исключения российские прокуроры и судьи. Да и простые люди; посмотрите на улицах и в общественном транспорте: многих безжалостно отметили пороки: чревоугодие, сластолюбие, похотливость, алкоголизм. Даже мой добродетельный отличный отец был к старости отмечен: в последние годы жизни его череп стал похож на сморщенный орех. Сказалась слабость его характера, чрезмерное добро также оставляет свой след. Добавлю, что лучше не видеть в конце жизни тех, кого вы прежде любили. Особенно остерегайтесь женщин из вашего прошлого, они все будут иметь крайне деструктивный вид.
Конец света 2030
В 1977 году в Нью-Йорке я бродил безработным по улицам, был одинок, меня в полуголодном состоянии посещали видения, которые я нацарапывал в блокнот. Блокнот потом стал книгой «Дневник неудачника». Там есть и видения будущего. Вот такое одно:
«…Бензин плавает в океане, ветер гремит железом, крысы бегают по комнатам и даже по потолкам, а тараканов нет только потому, что их пожрали крысы…
Стада могучих гадких дурнопахнущих полузверей, полунасекомых закрыли солнце, деревья черны и потеряли листву, обледенение медленно движется с севера на юг, кое-где земля уже трескается и поглощает дома, людей остается всё меньше, планета принимает осиротелый вид».
Не так давно я наткнулся на сообщение, которое меня основательно встряхнуло. Оказывается, в Тихом океане давным давно образовались гигантские даже не острова, но материки пластикового мусора. Принесенные течениями и ветрами в те места океана, где относительно спокойно, где царит вечный штиль, сбились воедино в желеобразную массу пластиковые бутылки, пакеты, зубные щетки, зажигалки, шприцы, легкие пластиковые отходы жизнедеятельности человека. Существуют два огромных материка мусора: Западный мусорный участок — в самом центре Тихого океана, к востоку от Японских островов, и Восточный мусорный участок — тот плавает между Калифорнией и Гавайскими островами. Великий Тихоокеанский мусорный остров (Западный) имеет площадь более миллиона квадратных километров. Под воду он уходит метров на семьдесят. Разумеется, гибнут птицы и морские животные, в год погибает около миллиона птиц и более ста тысяч особей морских млекопитающих. В желудках мертвых птиц находят шприцы, зажигалки и зубные щетки. Птицы заглатывают их, принимая за еду.
Над этими мрачными материками мусора стоит удушливый запах — это гниют попавшие в пластиковый плен водоросли. Еще там расплодились несколько видов насекомых; видимо, их я «увидел» в 1977 году и написал «стада летучих гадких дурнопахнущих полузверей, полунасекомых».
А помните, как взорвалась платформа «Бритиш петролиум» в Мексиканском заливе несколько лет назад? Как долго-долго пытались остановить хлещущую в Мексиканский залив нефть, а нефть всё хлестала и хлестала со дна, заражая эти чудесные и богатые тропические воды. И длилось это многие месяцы. «Бритиш петролиум» оштрафовали на какие-то миллиарды долларов, но разве глупые зеленые бумажки могут компенсировать ущерб, нанесенный нашей матери-природе? Нет, конечно. Гнусная нефть налипла в глубинах на всё живое и будет, может быть, вечно разъедать всё живое в заливе. Нужно было не миллиардами наказывать, а залить эту желанную им нефть жадным директорам «Бритиш петролиум» в глотки.
В марте 2011 года волна цунами после землетрясения свыше девяти баллов разрушила один из атомных реакторов атомной станции в Фукусиме, Япония. Японское правительство, как и все правительства в мире, стало лгать миру, скрывая масштабы катастрофы. На самом деле радиация с самого начала попала в воды Тихого океана и в воздух и была ветрами отнесена так далеко, как в штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Зафиксирована радиация была и в Приморье. Тысячи тонн загрязненной радиацией воды, использованной для охлаждения реактора, путешествуют сейчас с течениями вместе, заражая морепродукты, и никакой Онищенко не сказал нам: «Не ешьте рыбу и морепродукты с Дальнего Востока!» Потому что это подорвет экономику Дальнего Востока, потому не сказал.
То, что происходит с планетой, это уже не экологическая катастрофа. Это уже по масштабам приближается к финальной планетарной катастрофе.
В июне этого года ученые констатировали необычайно быстрое (в четыре раза быстрее, чем в последнее время) таяние ледников в Гренландии. Целые острова, размером с нью-йоркский Манхэттен, откалывались и уплывали в море. А в сентябре, то есть где-то через два месяца, появился прогноз, что все льды в Арктике и льды в Гималаях растают в течение четырех лет. Ранее мы слышали подобные прогнозы, но времени нам оставляли больше. Оставляли пятьдесят лет, тридцать лет, двадцать пять лет…
От истощения запасов грунтовых вод уже страдают сверхгорода Мехико, Бангкок, Буэнос-Айрес, Джакарта…
Население планеты стремительно увеличивается, а запасы воды уменьшаются. Арктические льды растают напрасно, человечество не успело придумать способ их опреснения. Вместе с растаявшими льдами Гренландии и Антарктиды арктические талые воды подымут уровень Мирового океана. Под водой исчезнет Великобритания, часть Германии. Куда они переселятся? Бог весть. А вот льды Гималаев быстро сбегут через наши сибирские реки в океан. Мы ничего не успеем получить.
Человечество высосало уже большую часть запасов воды из глубин планеты. «Во многих местах подземные водоносные слои так быстро иссякают, что спутники NASA регистрируют изменения в силе земной гравитации»,— констатирует Брайан Фейган, автор книги «Эликсир: история воды». Он констатирует, что войны за воду могут начаться на планете к 2030 году.
На этот же год приходится ряд негативных прогнозов, которые в совокупности, если оправдаются (а похоже, что они оправдаются, только вернитесь к началу моего текста, всё выглядит угрюмо, не правда ли?), могут сделать его завершающим в истории человечества. В этот год исчерпаются запасы нефти. Производство пищи достигнет своего пика, в то время как человечество разбухнет до, возможно, 9 миллиардов человек (вспомним старого Мальтуса!). Объем доступных земель будет плотно заселен до отказа.
Все негативные прогнозы говорят примерно об одной области дат вблизи 2030 года. Тихий океан, видимо, станет совсем мусорным и таким же мертвым, как Москва-река. Вокруг атомных электростанций образуются зараженные радиацией пустыни. Гостям будут подавать графин с пресной водой, как сейчас ставят на стол бутылку дорогого шампанского.
Вот это и будет конец света.
Человечество значительно уменьшится. Население каждого континента будет составлять примерно миллион человек. И все они будут втянуты в бесконечные войны за передел остатков воды и бензина.
Малолюдной России не удастся отстоять пресное озеро Байкал. Озеро будет окружено тремя металлическими стенами, каждая высотой в десяток метров. Озером будет владеть Китайская Народная Республика Байкал.
Зияющие высоты будущего
Я с азартным нетерпением отношусь к будущему и пытаюсь заглянуть туда. Потому, когда мне попадаются предсказания будущего, я себе выписываю самые разительные предсказания. Вот небольшой список, скромненький такой, ожидаемых прорывов человечества.
В 2010-м (да-да, 2010-м!) будут получены научные доказательства существования души после смерти. В 2013 году обещают открыть первую плантацию по выращиванию искусственного мяса. В 2026 году обещают создать искусственный мозг. В 2039-м будет создана искусственная матка для выращивания младенцев, то есть появятся первые человеческие инкубаторы. В 2060-м обещают, что возникнет новая мировая религия, и она вытеснит все остальные. В 2069 году возникнет конфликт между Россией и Китаем за сибирские территории. В 2075 году во всех государствах будет узаконена эвтаназия.
Не слабо. Но это всё положительное будущее. А вот отрицательное.
Только что заработал на границе Франции и Швейцарии Большой адронный коллайдер, LHC. Он будет разгонять протоны до бешеных скоростей, а также ядра свинца, разгонять в десять раз быстрее, чем старые ускорители. Значительное меньшинство ученых опасаются, что в ходе экспериментов могут возникнуть микроскопические черные дыры, которые будут способны поглощать частицы обычной материи. Довольно быстро черные дыры могут изгрызть эту нашу единственную планету. До нуля.
В списке, приведенном выше, безапелляционно указан год создания искусственного мозга. Искусственный интеллект обещают создать нам и реально уже работают над созданием его несколько крупных мультинациональных компаний. Так, компьютерная компания Google, компания Novamente хвастает, что 50 % кода искусственного интеллекта (ИИ) уже написано. Работают над созданием ИИ компании CYC, Numenta, a2i2, Genetic Programming Inc., а в России — компания ABBYY. Возможно, ведутся работы над ИИ также частными фирмами, но наверняка держатся в секрете, поскольку искусственный интеллект — это абсолютное оружие, рядом с которым старый добрый гиперболоид инженера Гарина будет выглядеть как примус, ей-богу. Абсолютное оружие, ИИ вряд ли станет долго прислуживать человеку, поскольку сильный искусственный интеллект может установить свою власть над миром. Для ИИ не составит проблемы взять под контроль весь интернет и любые управляемые компьютером системы. Для прихода к мировому господству ИИ может использовать уже существующие государственные системы управления. Или ИИ может захватить управление ядерным оружием. Будучи во множество раз умнее человека, ИИ будет способен обмануть человечество так тонко, что люди этого не заметят и не поймут. Самый страшный вариант поведения ИИ — это если ИИ начнет реализовывать некую цель, при реализации которой о безопасности человека ничего не сказано. Несмотря на опасность создания ИИ, как мы видим, около десятка компаний ведут работу над созданием. И обещают создать ИИ от 2010 до 2030 года.
Пытливое человечество одновременно страшно легкомысленно себя ведет. Японцы, например, планируют просверлить дно океана вплоть до мантии, используя для этого бомбы против бункеров, которые, упав, вгрызаются в грунт и продвигаются вглубь. Америкосы, как и полагается жестким протестантам, хотят дырявить землю последовательной атакой ядерными зарядами. Есть также проект проплавления земной коры с помощью огромной капли расплавленного железа. Пройдя так или иначе три тысячи километров до мантии, пытливые сумасшедшие, видимо, пробурят и ее, а там, под мантией, находится резервуар сжатой и перегретой жидкости с расплавленным в ней газом — жидкое земное ядро. Рванет так, что гарантированно разорвет планету на куски.
Споры о глобальном потеплении не утихают. Есть ученые, напрочь отрицающие, что человеческая деятельность на планете угробит нам нашу единственную планету. Не меньшая часть ученых (россияне А. В. Карнаухов, О. Иващено, А. Ваганов, британец Дж. Атченсон) утверждают, что парниковый эффект уже находится на пороге необратимости и вошел в фазу положительной обратной связи; таким образом, температура Земли возрастет на десятки или сотни градусов, сделав жизнь на Земле невозможной. Мы станем как Венера, где температура держится на +400 °C.
Как ни странно, ядерное оружие — одна из наиболее невинных опасностей, грозящих человечеству. Худо-бедно человечество уже контролирует свое ядерное поведение. Однако технологический прогресс дает всё большие возможности для самоуничтожения. Например, возможно создание супернаркотиков. Биоинженерия позволит создать генетически модифицированные растения, которые станут неисчерпаемыми источниками удовольствия. Однако возможно будет и непосредственно воздействовать на центр удовольствия в мозгу. Вечный будет кайф!
Человечество давно занимается прослушкой и просмотром космоса с целью установить наличие иных цивилизаций и установления с ними связи. Существует целая программа SETI для этих целей. Сейчас появилась еще большая частная программа АТА, предполагающая прослушивание 24 часа в сутки миллиона звезд! Вероятность обнаружить внеземные цивилизации постоянно растет. Хотя, скорее, следовало бы опасаться принятия сигналов от инопланетян. Г. Моравек в книге «Дети ума» предупреждает: загрузка из космоса компьютерной программы, которая будет обладать искусственным интеллектом, соблазнит цивилизацию-хозяина новыми возможностями, размножится в миллионах копий и уничтожит хозяина. Несмотря на протесты некоторых ученых, прослушка космоса продолжается. Более того, есть программа METI; мы, земляне, посылаем о себе информацию в космос, выдавая свое присутствие инопланетянам, которые не могут не быть нашими врагами.
По мере прогресса, а ожидается в течение двадцати лет огромный рывок, например, в области нанотехнологий, появится опасность нанотерроризма, биотерроризма, космического терроризма. Можно будет отклонить с его орбиты доселе мирно проносившийся мимо Земли астероид и грохнуть его о поверхность ненавистной державы. Биотерроризм станет возможным тотчас после создания «биопринтера» — настольной мини-лаборатории, подключенной к компьютеру и способной порождать живые клетки с заданными свойствами. «Для создания нелегального биопринтера понадобится только обычный компьютер, доступ в интернет и к соответствующим программам, полученный у друзей комок «синтез-дрожжей» и набор «юного химика» для организации интерфейса»,— пишет исследователь А. Турчин. И добавляет: «…возможно, я упрощаю, и биопринтер на самом деле сложнее, однако он относится к пространству целей и тем или иным путем он может быть создан. Я полагаю, что до создания такого устройства осталось от десяти до тридцати лет…» Для синтеза, скажем, вируса оспы будет достаточно скачать из интернета некий файл и запустить его исполнение. Биотехнологии могут предоставить и новые способы распространения опасного вируса.
Остается только проскрипеть «Да-а-а-а!» и развести руками, ибо нет предела любознательности человека и его трагическому легкомыслию.
Весенняя веселость шестидесятых…
В конце мая мне напомнил о времени мой школьный приятель Александр Ляхович. Прислал мне на «мыло» вот такое письмо: «Привет, Эдуард! 27 мая в 8:30 состоится встреча выпускников нашего класса по поводу 50-летия выпуска. Хотели бы видеть тебя. Нас осталось очень мало». Тут я и вздрогнул, в самом деле — какая бездна времени между той датой в 1960 году и сегодняшними днями! Пятьдесят лет — это полстолетия. И очень трагично прозвучала фраза: «Нас осталось очень мало».
Я ответил, что приехать не смогу, в Харьков, то есть за границу, меня не выпустят пограничники, поскольку существует постановление судебных приставов о запрете мне выезда за границу, пока не выплачу Лужкову 500 тысяч рублей. Еще я присовокупил всякие теплые слова, хотя я на теплые слова не очень способен. Уж очень меня этот слой времени впечатлил.
И стал думать, вспоминать. Разглядывать фотографию, единственную сохранившуюся от этого дня: я стою на балконе квартиры этого же Ляховича (отец его был вполне себе зажиточным не то директором, не то главным инженером строительного треста), в костюмчике, с бабочкой, правая рука забинтована, такой себе модный мальчик того времени. Даже и не скажешь, что русский,— может быть, обитатель не Харькова, а Детройта какого-нибудь. Прическа по моде тогдашней — «кок» над лбом. После выпускного мы отгуляли у Сашки, поскольку и квартира у них была большая, и родители — либеральные. Обычная история, подростки с «аттестатами зрелости», алкоголь, страсти, плач девушек, напряженные моменты… А дальше все стали жить свои жизни. Я откололся от них довольно быстро. В 1964-м переселился к подруге в центр Харькова, а в 1967-м уехал с концами в Москву, а потом — по всему миру…
Сейчас, вспоминая шестидесятые годы, вижу, что это была бодрая эпоха надежд, молодой энергии. И бодрость, такую весеннюю веселость шестидесятых не могла придушить даже советская власть. Начали молодежную мировую революцию в Китае, по призыву старого Мао хунвейбины повели «огонь по штабам» — ополчились против старых партийных кадров. Китайская молодежь торжествовала: это было видно молодежи всего мира на экранах телевизоров. Все обрадовались такому яростному примеру и бросились оспаривать власть стариков. Революцию 1968 года в Париже, восстание против русских в Праге начала молодежь. Запылали американские кампусы, в Беркли образовалось даже молодежное правительство из студентов. Бунты совпали с движением хиппи, с мировым успехом английской группы «Битлз». В шестидесятые жить было весело, хотя молодежь и не пришла к власти, но успешно потрясла власть стариков. Сейчас, мысленно выискивая в толще времени другую такую эпоху, я не нахожу другой. Шестидесятые были беспрецедентны. Даже в СССР в Москве в 1965–1966 годах бушевали СМОГисты — члены Самого Молодого Общества Гениев. На их счету — босые демонстрации, многолюдные чтения стихов, прибитый к двери ЦДЛ список литературных мертвецов — известных советских писателей. Из СМОГистов вышли несколько знаменитых бунтарей: Владимир Буковский здравствует и бунтует и поныне, Галансков умер в лагере, Вадим Делоне отсидел срок, вышел на свободу, уехал в Париж и умер там, потомок французских эмигрантов XVIII века (его предок был последним комендантом Бастилии).
И в СССР, и во всем мире бунт молодежи постепенно был подавлен. Во Франции к власти пришел довольно мрачный Жорж Помпиду. «Пражскую весну» задавили советскими танками мы. Россия тихо расправилась со своими юными диссидентами. Брутальная стариковская Америка конгрессменов, шерифов и гангстеров справилась со студенческими страстями, превратив движение хиппи в безобидный фольклор. А в далеком Китае загнал своих хунвейбинов туда, куда Макар телят не пас, безжалостный старый коварный Мао. Revolution was over.
Семидесятые, у меня они разделились пополам, я прожил их до 1974-го в Москве, а затем через Европу попал в Америку, в Нью-Йорк, были переходным десятилетием. Еще гремели и даже возникали молодежные бунты (punk — движение, родившееся в 1975 году), однако неумолимо на белую цвета лотоса территорию молодой свободы лился черный поток старой реакции. Именно в семидесятые озлобленные элементы молодежных движений ушли в подполье и предались террору в Германии, в Италии более всего, но и в Штатах и во Франции также. Я прожил в Италии зиму с 1974 на 1975 год и пребывал в страшном восторге, однажды попал в гущу боя между полицией и студентами в Римском университете. Газеты тогда жили подвигами «красных бригад».
Восьмидесятые сняли напряжение шестидесятых и семидесятых. Персонажи мировой сцены: еще не садистические президенты (как в предстоящих девяностых и нулевых) и генералы, а легкие, подобные сказочным героям Майкл Джексон, леди Диана, Энди Уорхол, какая-нибудь Лайза Минелли, какой-нибудь Стивен Спилберг.
Девяностые возвращают нас в атмосферу пятидесятых годов. Опять угрюмые главы государств, подавление свобод, множество горячих точек в Европе (впервые после Второй мировой войны). Молодежь как бы исчезает с мировой сцены, в главных ролях она не задействована, только в качестве солдат проходит молодежь в отдалении на заднем плане.
В нулевые реакция крепнет во всех странах мира. Ничто уже не напоминает о весне шестидесятых. Все пространство жизни, мысли и культуры вытоптано, выбомблено дотла. Западные миротворцы долбят Сербию, Россия вновь и вновь покоряет Кавказ. Меня и пятерых моих товарищей арестовывают, содержат в тюрьме, судят. Запрещают партию, которую я возглавляю. В Нью-Йорке взорваны башни Мирового торгового центра. Америка отвечает мстительными войнами против Ирака и Афганистана. Казнь Саддама отвратительно выглядит. В Гаагской тюрьме умирает Слободан Милошевич.
Вот какие мысли пронеслись в моей голове в связи с далеким выпускным вечером, состоявшимся в Харькове пятьдесят лет тому назад. В начале весенней эры шестидесятых.
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца…»
Я отлично помню наступление тоскливого 1976 года в Нью-Йорке. Мои несчастья начались, впрочем, 19 декабря, за пять дней до католического их Рождества: моя возлюбленная жена сообщила мне в тот день, что у нее есть любовник. Было уже холодно, повсюду стояли елки. На Federal Plaza у Rockefeller-центра залили каток, и елка там была самая большая. У магазина «Сакс» на пятой авеню стояли Санта-Клаусы и звонили в колокольчики. На жаровнях турки либо югославы жарили каштаны. Граждане Соединенных Штатов со счастливо озабоченными лицами закупали рождественские подарки близким. Порывался идти снег. А я был несчастлив в любви и бродил среди общего праздника в тонком кожаном пальто, купленном в Италии. Чужой иностранец.
От того Нового года в наследство мне остался привкус горечи, и его хватило на все последующие Новые года моей жизни, на четырнадцать парижских тоже. Два Новых года, 2002-й и 2003-й, я встретил в тюрьмах, 2002-й — в тюрьме «Лефортово», 2003-й — в Саратовском централе. Случались и очень счастливые Новые года, конечно. В ноябре 2006-го у меня родился сын, и я, вне себя от счастья, праздновал пришествие 2007-го с семьей: молодая жена, подросток-дочь от первого брака жены и младенец-сын в колыбельке. Мы сделали утку с яблоками, я сам зашил утке живот. Купили у знакомого поставщика французских устриц и пили французское шампанское. Но уже последующий Новый 2008-й год я встречал хмуро: Катя сделалась чужой, семья разваливалась.
Счастливый Новый год связан с близкими людьми. Если они у тебя есть и они здоровы, всё у тебя хорошо. Даже если денег в обрез, ты можешь устроить себе праздник, не устраивая его: посмотри на счастливые лица любящей жены и юных детей. Даже если кризис повис на окнах тяжелой паутиной хмурых забот, у тебя есть счастливый писк младенцев, их возня… да еще если хватило денег на пахучую елку и бутылку советского шампанского (хорошо замороженное, оно лишь чуть хуже французского), что еще нужно мужчине?! Да ничего, разве что подойти к окну, увидеть огни елок в окнах домов напротив, поцеловав любимую, выпить пузырящуюся жидкость… У меня всего этого не будет. Я приговорен к моей судьбе.
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца, и бутылка рому» — вот как иносказательно может быть выражена моя судьба вечного скитальца и одинокого странника, которого жизнь одаривает лишь всегда временным счастьем, бесстрастно и безжалостно разрушая его всякий раз. «Попользовался, парень, и хватит,— говорит жизнь.— Теперь отправляйся выполнять свой долг перед историей». Кран счастья закрывается, начинаются бурные, тревожные дни. Эдуард Лимонов становится Э. Лимоновым учебников и книжек: литератор, журналист и солдат чужих войн, философ и политик. Но несчастливый человек. Я же говорю, «пятнадцать человек на сундук мертвеца» — вот моя доля.
Таким образом, я встречал Новый год на Пятой авеню в Нью-Йорке и на Елисейских Полях в Париже, 1999-й встретил на задымленной от петард Красной площади в Москве, встречал их в одиноких отелях и в тюрьмах. Бурно текущий финансовый кризис в РФ и в мире меня мало заботит: мои сбережения нематериальны — это мои идеи, выраженные в моих книгах, это мои неимоверные воспоминания («вспоминал сраженья и любовниц, видел то пищали, то мантильи»,— как писал Н. Гумилев). Возможность передвижения по миру у меня давно отобрана: вначале я сам отказался от путешествий за границу, обоснованно опасаясь, что меня не пустят обратно в Россию, а недавно мне преградил путь туда судебный иск мэра Лужкова ко мне, мэру присудили мои 500 тысяч рублей, потому меня не выпустят судебные приставы. Я бы посетил мой любимый Алтай на Новый год, но с 2001 года, после моего ареста там, в Усть-Коксе поставили полк ФСБ, представляю, что там будет твориться, если я приеду.
Моя судьба, как видите, не уберегла меня ни от тюрьмы, ни от сумы. У меня классическая судьба русского героя. Но я не унываю. Высшие силы меня не оставят и обязательно пошлют мне в Новый год увлекательную юную шлюху.
Февраль: у всех сдали нервы…
Начало февраля — еще зима. В России снега глубоки. Стоят спокойные морозы. Иное начинается в последней декаде февраля. Именно тогда я родился. Я родился в один день с отцом американской государственности Джорджем Вашингтоном, 22 февраля. А еще в один день со мной родились Шопен, Шопенгауэр, великий Микеланджело. Получается, что все они имеют в фамилиях буквы «ж» и «ш», называемые шипящими. Всю мою жизнь я раздумываю над февралем, в котором в мой день родились все эти шипящие гении. Как бы моя февральская семья. У меня существуют с ними связи.
Я почти ежедневно лицезрел поврежденную «Пьету» Микеланджело зимой с 1974 на 1975 год. Я жил тогда в Риме и каждый день через холм Сан-Николо ходил в Ватикан, в собор Святого Петра. Красный луч предохранял уже разбитую фанатиком молотком скульптуру белого мрамора от нас, посетителей.
С Джорджем Вашингтоном я связывался через город его имени — столицу, основанную им рядом с его имением Маунт-Вернон, всего лишь через реку Потомак, чтобы удобнее было добираться на службу. Роскошь — заложить столицу государства таким образом, чтобы тебе было удобно, могли себе позволить только Петр I российский и Вашингтон североамериканский.
С другими членами шипящего семейства связи тоже существуют, но не прямые, а опосредованные. Так, с Шопеном я жил в Париже, правда через полтора столетия после него. А еще пианист Юрий Егоров приглашал меня в 1979 году в Нью-Йорке в «Карнеги-холл», где он исполнял сразу два «сета» этюдов Шопена. О Шопенгауэре я думал как о родственнике Шопена, ввиду долгого проживания в Германии его фамилию онемечили, предполагал я. Зная, впрочем, что это — моя выдумка.
Наш день всех шипящих обычно совпадает с началом карнавалов в Венеции и в Луизиане, после которых наступает сорокадневный Великий пост перед Пасхой. В природе, и в Европе и в Северной Америке (но не в Луизиане, конечно), цветовая палитра пейзажей в это время небогата, ограничена белым, черным и серым. Ветер уже пахнет, впрочем, не по-зимнему, пахнет тревожно только еще намечающейся весной. Ветер предвещает бури, наводнения, эффектные страсти, убийства и самоубийства. Часты в это время оттепели и последующие обледенения. Депрессии, нервные срывы и легочные заболевания неизбежны в эти дни. Бывают и революции.
Русская буржуазная началась, когда 5700 вагонов с хлебом и продовольствием застряли на пути к Петрограду, потому что 1200 локомотивов вышли из строя. На Выборгской стороне и на Васильевском острове были разгромлены все булочные. По улицам проходили народные шествия. Толпа кричала: «Хлеба и мира!» Казаки атаковали толпу и убивали рабочих. «На правом берегу Невы показывается беспорядочная толпа с красными знаменами, между тем как с другой стороны спешит полк солдат. Так и кажется, что сейчас произойдет столкновение. В действительности обе массы сливаются в одну. Солдаты братаются с повстанцами»,— свидетельствовал посол Франции Морис Палеолог. И уже на другой день он констатирует: «Окружной суд представляет из себя лишь огромный костер; арсенал на Литейном, дом министра внутренних дел, дом военного губернатора, здание слишком знаменитой «охранки», около двадцати полицейских участков объяты пламенем; тюрьмы открыты, и все арестованные освобождены: Петропавловская крепость осаждена, овладели Зимним дворцом, бой идет во всем городе».
Дело в том, что толпы вдохнули тревожный ветер конца февраля, ветер беспокойства, тревоги, убийств и самоубийств, депрессий, нервных срывов и неповиновения. Толпы затянулись этим крепчайшим воздухом и нервно задвигались и побежали. Что такое революция, как не коллективный нервный срыв. В феврале, после долгой зимы и войны, у всех сдали нервы…
Апология народа
По воле российских политических обстоятельств я тут последние пару лет имею дело с либералами. Вынужденные союзнические отношения позволили мне хорошо рассмотреть союзников. То, что я увидел вблизи, меня политически не очень обрадовало, однако как литератор я сделал ряд интереснейших наблюдений.
Одно из них, крайне печальное по сути своей,— либералы, может быть, отталкиваясь от внешнего обожания «класса гегемона» советской властью, имеют крайне низкое мнение о народе. В лучшем случае они уверены, что народ подлежит перевоспитанию, в худшем — народ следует победить и навязать ему свой, «правильный» образ жизни. Кто, где, что сказал, явки, пароли я не выдам, но пусть читатели знают — проблема есть.
В 1991 народу дали по голове Беловежским соглашением. Он себе было тихо прижился после большевистских усушек и утрусок, наплодил детей и смирно жил-поживал, купаясь с удовольствием в брежневском застое. А тут нате вам, туда ехать нельзя, сюда нельзя, самые усердные — украинцы — начали устанавливать таможни. А народ привык иметь родственников кто в Магадане, кто в Алма-Ате, не говоря уже о Харьковах и Днепропетровсках. Страдающее большинство, впрочем, как всегда, пыхтело и молчало. Возрадовались зато шустрые и бодрые передовые ребята, изнывавшие от скуки и разламываемые на куски изобилием внутренних сил. Эти герои, разломав в личных целях Союз Советских Земель, занялись со рвением, понационально, в отдельности экспериментировать, то есть делать жизнь своих народов невыносимой. Союз убили в конце 1991 года, а уже 2 января 1992-го, придя в продовольственные магазины в России, народ увидел на продуктах народного потребления, вплоть до макарон, такие астрономические цены, что впору громить бы магазины, да за годы советской власти разучились. Я так и по сей день считаю, что громить и брать бесплатно было тогда самым здоровым выходом. Любой консилиум из психиатров, любой суд присяжных истории народ бы оправдал. Либералы-реформаторы неистово взялись за дело разрушения старого мира и создания нового. Народ должен был безропотно подчиняться этим гениям, потому что они утверждали, что всё делается для блага народа. Отдаленное благо даже не брезжило нигде в небе над тоскливой зимой 1992 года, производство летело вниз сорвавшимся лифтом, но упорные ребята настаивали на своем. Пытки гражданина и всех граждан сразу продолжались. На улицах появились толпы нищих, а дети подбирали объедки, соревнуясь между собой, как в худшие из Средних веков. Расплодились крысы и волки.
Пока народ боролся за жизнь, стенал, крякал и предавался эпидемии самоубийств, гении, до перестройки томившиеся в пыльных конторах, принялись делить имущество страны. Не всегда даже в свой карман. Среди них были и настоящие идеалисты. Такие, я полагаю, какие шли когда-то в Святую инквизицию. Ради идеи, сверкая очами.
В 1993-м в нашей столице прямой наводкой по парламенту работали танки. Отработали на 173 трупа. Так завершилось противостояние ветвей власти: законодательной и исполнительной. Последняя победила и ходит в победителях и сейчас. Никто не спросил мнение народа о противостоянии, но, думаю, большинство это позабавило. Народ понял, что все они ему не друзья, а враги, и с тех пор каждая семья стала крепостью.
Что было дальше, все знают. Народ опять окопался, прижился. Вздрогнул во время дефолта в августе 1998-го, но быстро залечил раны. Еще раз вздрогнул и запереживал 2 января 2005 года (реформаторы любят эту дату, 2 января), когда вступил в действие пакет законов о монетизации льгот, но тут власть оказалась на высоте интуиции и разумно откатилась назад, понимая, что если перегнуть палку, то она сломается, и куда еще концы отскочат? А если в голову власти? Бравые идиоты в форме МВД всё же не совсем забыли свои бедные колыбели, чтобы стрелять в разъяренных пенсионерок-старух…
С таким послужным списком, с такой ретроспективой в недавнее прошлое нынешние либералы имеют мало-мало-мало шансов на политическую победу. Как бы они ни принимали байроновско-ницшеанские позы оскорбленных всеобщей пошлостью суперменов; как бы они ни оскорбляли свое собственное прошлое — подвиги девяностых годов, народ им больше себя не доверит. Потому что, переоценив девяностые годы, они совсем не избавились от своего ницшеанства, от взгляда сверху вниз на тяжелых женщин с сумками, на усталых мужиков, бредущих подвыпившими с поганых работ.
Я разглядываю народ по утрам. Они идут на работы, запрудив улицы: худые парни, девочки в курточках, топоча по грязи каблучками, тетки. С утра все еще не выжаты производством, еще бодры, еще не устали. Народ — это огромное, вздыхающее, булькающее единое существо, этакая теплица, субстанция, грибница, огромное варево, бульон, добродушное такое теплое озеро, вдруг выбрасывающее то Моцартов, то Сальери. Из народа же, из этого бульона, появляются и безжалостные идеалисты, которые потом идут в инквизицию.
В марте этого года у меня умерла мать. После родителей остались шкафы, наполненные трогательной чепухой: старыми журналами, советскими книгами, запасом пальто и шапок. Я всё это перебирал, думал и старался понять суть народа, потому что родители мои были настоящие народные люди. Суть народа в том, чтобы поддерживать жизнь, воспроизводить ее и передавать через века. Народ вынужденно консервативен, он вынужденно традиционен, даже реакционен в некоторые времена. А в те времена, когда государственность препятствует его сохранению, он может сделаться свирепым и сверхреволюционным, исключительно в целях самозащиты. Потому что не надо его мучить.
Только что была война с Грузией за Южную Осетию. Либералы обрушились на народ, который, поддержав и радуясь победе Российской армии, якобы «оболванен» и якобы «не понимает» и нуждается в промывке мозгов. Нет, говорю я,— народ, любой, всегда хочет видеть свою страну и свою армию победившими, а не побежденными. Это в природе народов. И желать от них, чтобы они порицали свою победу, просто неумно, подобное порицание противоречило бы природе народа.
Я был ницшеанцем в 9-м и 10-м классах. После окончания школы я стал рабочим: грузчиком, монтажником-высотником, сталеваром. Мое ницшеанство в эти годы покинуло меня. Позже оно иногда возвращалось на короткое время, но только на короткое, как временная эмоция. Я люблю быть в народе, с удовольствием вспоминаю братскую атмосферу заводов, где я работал, или праздников газеты «Юманите», которые я посещал неизменно, живя во Франции, работяг с широкими твердыми ладонями, я немало пообтерся среди народа и в тюрьме. Я его люблю. Надеюсь, он меня тоже.
Король никогда не бывает голый
Для того чтобы обосновать необходимость новогоднего поздравления главы государства для нас с вами, будь глава государства одет в черный плащ-реглан, как Владимир Путин, или пальто с воротничком из нерпы, как Дмитрий Медведев, вот вам вначале самый конец сказки Ганса Христиана Андерсена «Новый наряд короля»:
«— Да ведь король голый!— сказал вдруг какой-то ребенок.
— Господи Боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец!— сказал его отец.
И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.
— Он голый! Вот ребенок говорит, что он голый!
— Он голый!— закричал наконец весь народ. И королю стало не по себе: ему казалось, что люди правы, но он думал про себя: «Надо же выдержать процессию до конца». И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было».
Обычно эту сказку Андерсена трактуют следующим образом: понадобился невинный, свежий взгляд дитяти, чтобы, презрев социальные условности и инстинкт самосохранения, объявить: король — голый, никакого платья на нем нет.
Не знаю, что хотел сообщить нам этой своей сказкой страннейший человек Г. Х. Андерсен, но считаю, что безусловная мораль сказки такова: король всегда одет, даже если он голый, ибо его облекает собой не ткань, не одежды из ткани, но незримое сакральное платье авторитета. В старинные времена авторитет этот был дарован «королю» богом (богами) сверху. В наше время «королей» сакрализирует народ, отдавая за них свои голоса на выборах, то есть «король» сакрализирован снизу. «Король», таким образом, никогда не бывает голый. Ребенок у Андерсена — не социальное существо, потому он, глупый, единственный, кто воскликнул: «Да ведь король голый!» За ним раскричался и народ, повторяя детскую глупость, детский лепет. Но король «выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было». Еще величавее, потому что, не прибегая к обычным, помпезным одеждам, нес на себе чистейшую сакральность: историческую мистику своего народа, его судьбу, трагизм его жертв и ликование его жизней. «Выступал еще величавее…»
Теперь перейдем к Новому году. Почему короли, вожди и президенты приноровились к этому не политическому, но астрономическому, планетарному празднику Земли? Вспомним, что европейский Новый год всего на десяток дней отстоит от Юла — от дня зимнего солнцестояния, самого короткого дня и самой длинной ночи. Древние племена Европы праздновали этот день и считали его самым важным в году, самым сакральным. В этот день затухал один полный планетарный цикл и зажигался новый планетарный цикл. Недаром символически на праздновании Юла прыгали наши далекие предки через костры, «зажигали» Новый год. К ним выходил вождь, он же жрец и астроном, и говорил: «Вы в отчаянии от затухающего солнца? Вы устали от тьмы? Вашему терпению приходит конец? Сообщаю вам, что ваши страдания закончены! Начинается новый планетарный цикл. Солнца и света будет всё больше и больше!»
Именно об этом обо всем стоит вспомнить в полночь Нового года, глядя на фигуру президента, поставленного телеоператорами так, чтобы он оказался «в картинке» на фоне башен Кремля. Не суть важно, какую фамилию носит президент, бледен он либо краснощек, блондин ли он, либо брюнет, либо седой. Второстепенно в эту ночь и то, какими деяниями «король» доселе отличился, а среди них могут быть и отрицательные для части народа деяния. И тем более совершенно не важно, в какую одежду он одет. Без одежды был бы, конечно, заведомый скандал, но король-то ведь всегда одет, даже в бане. Это мы одеваем его в незримую ткань своего почтения, не к нему лично, упаси боже, но к той сакральной роли, которую он играет, к роли нашего «короля».
Вот он стоит у густой, разлапистой ели, убранной магически поблескивающими игрушками и магически мигающими лампочками, и с бокалом шампанского или без, но с неизменной улыбкой вождя и жреца племени поздравляет нас в сакральную ночь смены планетарного цикла: «С Новым годом, уставшие дети мои! С Новым вас светом!»
Звуки, запахи, звери, автомобили
Запахи и звуки
1. Духи Елены
В 1978 году я был безработным в Нью-Йорк Сити. Осенью мне предложили работу строителя в двух сотнях километров от Нью-Йорка. Обещали мне мизерно малые деньги, всего четыре доллара в час, как нелегальному эмигранту, но другой работы у меня не было, и я отправился в населенный пункт Глэнкоу Миллс (переводится как «Мельницы Глэновой коровы» или «коровы Глэна») в самой северной части штата Нью-Йорк. Неподалеку от городка Хадсон, что на Хадсон-ривер, или Гудзоне, в русской если транскрипции.
Регион этот был заброшенным, да, наверное, такой он и сейчас. Тыквы и астры и кукурузные початки и яблочный сидр произвела эта земля в том октябре, как и во все октябри. Мельницы коровы Глэна были когда-то, судя по многочисленным, но ныне пустым фермам, преуспевающим хутором. К осени 1978 года там осталось семеро жителей. Из них пятеро — семья странствующего проповедника и семья из двоих гомосексуалистов. Один из них, Майкл, стал моим бригадиром, еще двое рабочих приезжали из городка Хадсон. Мы занялись тем, что стали реставрировать полуразрушившуюся старинную ферму для вдовы из мира искусства. Вдова из Нью-Йорка предполагала использовать перестроенную ферму как загородный дом. Ферма оказалась огромной — центральная часть ее была о трех этажах и причудливо была связана с отходящими в стороны двумя крыльями системой лестниц, лесенок и переходов. Под ферму предстояло подвести новый фундамент; деревянные столбы, на которых она стояла уже больше столетия, пришли в негодность. Новый фундамент из «конкрит» — смеси цемента с галькой — следовало подвести под ферму, а для этого вначале подрыть ее, поставить ее на временные опоры. А еще вырыть под фермой пустоту, чтобы вмонтировать цистерну для воды — дождевой и снежной. И было много у фермы дыр, которые предстояло заделать.
Днями я в компании рабочих Джорджа и Билла и бригадира Майкла копал землю, клал кирпичи, настилал крышу. Вечерами, оставшись один,— долго ел, позже скучал, бродя по комнатам пустой фермы, посещал соседние пустые дома. Толстая вековая паутина, старые картины примитивных сельских художников, кровати с размалеванными, как иконы, спинками, рассохшиеся шкафы, старые книги и письма в связках — всё это никому не нужное и неразграбленное барахло сохранилось в этом удаленном сельскохозяйственном районе в избытке. Как-то, роясь в незакрытых шкафах фермы на самом краю поселения, я нашел в картонке из-под обуви покрытые пылью флаконы и вынес их на выжженное солнцем крыльцо. Монотонно стучала под ветром калитка фермы и заунывно орали птицы на холмах. Усевшись на выщербленные ветром и зноем ступени, я стал поочередно отвинчивать пробки. Неизвестные старые запахи когда-то сильных духов навели на меня тоску. Из последнего — пробка его, помню, была в мелкую черно-белую клеточку — вдруг опалило мои ноздри знакомым, но забытым мною запахом слабого ландыша. Тревога прошла по миру: вдруг сильнее и настойчивее захлопала калитка, птицы зазвучали хрипло, тучи мощно надвинулись на солнце. Я посмотрел на этикетку. Надпись была смыта не то дождем, не то без следа выжгло ее время. Но сильное беспокойство приносил мне этот запах. Я напрягся. Что это? Где? Откуда?
К моменту захода солнца за холмы я идентифицировал запах. «Кристиан Диор». Этими духами, похожими на запах простенького советского одеколона «Ландыш», душилась моя юная любовь Елена, когда еще была чужой женой и приходила ко мне, длинноволосому юноше в красной рубашке и белых джинсах, в желтую комнату на Погодинской улице, вблизи Новодевичьего монастыря. И там в 1971–1972 годах мы предавались безудержной любви на топчане из досок. И она так пахла, так пахла Диором-ландышем, примешивавшимся к запаху нашей молодой любви.
Через несколько дней я сбежал из Глэнкоу Миллс. Не вынес запаха счастливых дней своих. Его присутствия в моих несчастливых днях: шел третий год нашей вечной разлуки. Я вернулся в Нью-Йорк Сити и его грешную сильную живую вонь.
2. Звуки Набокова
Мне организовали тогда лекционный тур по четырем университетам Восточного берега Соединенных Штатов. Стояла осень 1981 года. Я уже второй год жил в Париже и оттуда прилетел в Соединенные Штаты на заработки. «Лекционный тур» звучит более помпезно, чем хотелось бы. На самом деле знакомые слависты всего лишь организовали мои выступления в своих департментах. И за это мне заплатят по нескольку сотен долларов с университета. На пути из Нью-Йорк Сити моим первым университетом оказался Корнелльский. Туда я прилетел поздно вечером на маленький местный аэродром города Итака. В аэропорту меня встречали глава славянского департмента университета и мой приятель еще с московских времен, эмигрант профессор Жолковский. Мне предстояло назавтра выступить перед студентами и преподавателями, получить свои несколько сотен баксов и отправиться дальше.
Профессора повезли меня в мотель. Почему? Я мог преспокойно остановиться у Жолковского, он был бы только рад. Дело в том, что кончался бюджетный год, славянскому департменту университета нужно было срочно истратить оставшиеся от бюджета деньги. Если деньги останутся, на следующий учебный год им срежут бюджет.
Мотель состоял из нескольких одноэтажных бараков и был опутан гирляндами красных лампочек, словно здесь когда-то помещался бордель и их не сняли. Или же администрация приготовилась на несколько месяцев ранее положенного к празднованию Нового года? Вокруг были рощицы жалких деревьев, плохо видимые в темноте. Нафаршированные постояльцами автомобили постоянно подъезжали, и их содержимое переливалось вначале в приемный холл, а затем в легкие светлые бараки мотеля. Американская цивилизация по сути барачная: легкие помещения собираются из оштукатуренного картона на деревянных рамах, подводится электричество, отопление и канализация, и пожалте — готово для обитания. Американские небоскребы — скорее исключение, картонные бараки — правило. Профессора сопроводили меня в отведенное мне отделение хрупкого одноэтажного барака и откланялись, договорившись, что заедут за мной уже в восемь утра. За ними закрылась дверь. Я посетил туалет, понажимал некоторое время кнопки телеящика и затем лег под мотельные одеяла. Пахло скушно: дохлой пылью и стиральным порошком.
Проснулся я от шума сливного бачка в туалете через стену. Он опорожнялся, как урчащая Ниагара, этот американский вместительный бак. Долго и старательно. Затем он столь же шумно и старательно наполнялся. Я взглянул на мои часы: было пять утра. Попытался заснуть опять. Ранний отбывающий постоялец хлопнул дверцей автомобиля и завел мотор. Когда он увел свое средство передвижения от мотеля, во дворе прокаркал чей-то кашель, старческий, судя по тембру. Затем обладатель кашля сказал кому-то «Гуд морнинг!», получив взамен «Гуд морнинг, сир, хав ар ю тудэй?» …Один за одним включились уже более отдаленные, но слышные сливные бачки. Я полежал среди этих знакомых звуков, пытаясь определить, почему и откуда я узнаю их. Я никогда не жил до этого в хлипких мотелях, только в мощных старых зданиях на Мэдисон и потом на Бродвее, с толстыми стенами и глубоко спрятанными в их глуби трубами. На шестнадцатых, на одиннадцатых этажах… К тому же с весны восьмидесятого я жил в Париже… Откуда знаю? В шесть я встал, продолжая размышлять, почему так странно знакомы мне звуки мотеля в университетском городке Итака, в двух шагах от Корнелльского университета…
В восемь заехал профессор Жолковский и еще раз напомнил мне мое расписание. После ряда встреч и лекций на лужайке Славик департмента будет организовано в мою честь «пати», заключил Жолковский. Будут среди прочих лауреат Нобелевской премии по химии профессор Роальд Хоффманн и «одна забавная старушка». Она преподавала здесь во времена, когда здесь преподавал Набоков… Роальд Хоффманн сумел найти способ, как сжать молекулу углерода и, таким образом, производить мелкие алмазы для индустриальных целей… Женат Хоффманн на шведке…
Именно на жене Хоффманна, шведке, я понял, откуда я знаю звуки мотеля в городке Итака. Утренние звуки эти есть в романе Набокова «Лолита». Сцена, когда Гумберт первый раз просыпается в постели с приемной дочерью, и перед тем как Лолита «уже в четверть седьмого стала в прямом смысле моей любовницей». Всё это произошло в мотеле «Привал зачарованных охотников».
Вечером, после моей лекции, состоялось пати. Стоя в чуть побуревшей сентябрьской траве на подстриженной лужайке университетского славик-департментовского дворика, мы все держали бокалы с «шерри» — традиционным во всех англосаксонских странах университетским напитком. Присутствовали и нобелевский лауреат Роальд Хоффманн, и Жолковский, и несколько русских эмигрантов. Обещанная «забавная старушка» оказалась голубоглазым спортивным созданием в белых носочках, кроссовках и шляпке-панамке над загорелым печеным личиком. «Коллеги не любили Владимира,— сказала она мне,— считали его высокомерным. Он платил им тем же. Ко мне же он относился очень дружелюбно и любезно. Подарил мне свою «Лолиту» и вместо посвящения на титульном листе нарисовал для меня бабочку. Когда вышел фильм Стэнли Кубрика по его роману, он, получив гонорар за авторские права, уехал тотчас в Швейцарию. Европа была его домом. В Америке он зарабатывал деньги. А наши не любили его еще и потому, что все они считают себя писателями, а он вот прославился на весь мир фривольной книгой. Они подозревали, что Владимир намеренно создал свою неприличную Лолитку, дабы заработать на этом неприличии…» Она допила свой шерри.
«И вот еще что. Владимир писал «Лолиту» в основном летом, когда отправлялся в свои странствия за бабочками. Жил в мотелях, в Колорадо, Вайоминге, в Аризоне… писал вечерами или в дождливые дни… Пардон ми! Я должна наполнить свой бокал». И «забавная старушка» бодро направилась к бару.
3. Дымок Константина Леонтьева
В январе 1992 года, вырвавшись из разрушенного войной под корень города Вуковар на другой берег Дуная, через мост «25 мая» (назван в честь дня рождения Тито), я с остолбенением увидел охотников с собаками, мирно шагающих себе охотиться на зайцев. На той стороне Дуная, которую я покинул (у въезда на мост стояли танки и гаубицы, а на мосту лежали мешки с песком), люди упорно и злобно охотились на людей. Окоченелые трупы, запах гари, руины городов и деревень, разрушенные церкви, грязные воняющие солдаты в форме всех оттенков хаки, скрежещущая военная техника, смерть… вот что я оставлял.
В Белграде мне сказали, что мне уже месяц звонят из Черногории, зовут туда, и назавтра есть самолет в Титоград. «После ужасов фронта тебе нужно в Черногорию. Это страна неистово храбрых и ленивых мужчин. Черногорцы разбили в свое время Наполеона. Они любят русских. Там ты отдохнешь». И я полетел.
После четырех часов болтанки над Балканами (за это время можно было пересечь Атлантику) наша маленькая металлическая птица (в брюхе ее сидели солдаты, священнослужители, авантюристы и торговцы) приземлилась в аэропорту Титограда. Меня встречали местные писатели, что мне, привыкшему к обществу солдат, не понравилось. Город, сплошь из новопостроенных коробок, произвел на меня отвратительное впечатление. По главной улице города, на углу ее, расположился отель «Черна Гора», где я остановился; мёл зимний мусорный ветер. Улица была заполнена толпами мрачных албанских мужчин в кепках. Ветер, задувающий со снежных гор, гнал по улице пыль, банки, газеты и даже бутылки из-под кока-колы. Вечером первого дня состоялась моя лекция, вернее — беседа с местной интеллигенцией. По окончании ее пьяный черногорец от восторга выстрелил в потолок из револьвера несколько раз. Непонятно было, выстрелил от восторга по поводу сказанного мной или от восторга перед огненной водой — ракией. Вечер кончился массовой пьянкой в ресторане отеля, в которой мне пришлось участвовать поневоле. Не присутствовала ни одна женщина. Два ряда здоровых, сказывался естественный отбор в войнах с турками, бородатых черногорцев. И всё. Был среди них и тот, который стрелял. Еще более надравшись, он с улыбкой весь вечер говорил мне гадости. Но уже не пользовался револьвером.
На следующее утро мои новые друзья позвонили ко мне в номер в семь утра. Чертыхаясь и ругаясь, я оделся и вышел в холл. Вся компания» в полном составе с прилизанными волосами и расчесанными бородами сидела в ресторане. Все они пили крепкий кофе из маленьких чашечек, трогательно выглядевших в огромных руках этих разбойников. Я вспомнил, что еще в середине XIX века у черногорцев, как у каких-нибудь полинезийцев, существовал обычай украшать частоколы головами врагов-турок, за что их тогда осуждала «прогрессивная» Европа. Юноша в черногорском обществе до самого конца прошлого века не мог считаться полноценным мужчиной и воином до тех пор, пока не сбрасывал однажды с копья отрубленную голову турка. Ими тогда управляла династия Негошей, одновременно их духовные патриархи и светские владыки. Один из Негошей присутствовал на похоронах Пушкина.
Мои разбойники ждали меня, чтобы на трех автомобилях отправиться в древнюю столицу Черногории — Цетинье. Там находится и патриарший дворец владыки. Туда они меня и везли.
Могучие серые (а не черные), растрескавшиеся горы. Снежные вершины, мрачные озера, спрятавшиеся в расселинах, мощные утесы. Наши игрушечные автомобильчики преодолевали, урча, с натугой, высокую дорогу. Наконец мы въехали в совсем деревенское каменное Цетинье и подкатили к дворцу патриарха. Мы вышли из автомобилей. В лица нам пахнуло высокогорной деревней. В чистом воздухе там и сям подымались дымкИ: синие и розовые. Они ароматно пахли, и к ним, экзотическим, примешивался еще запах теплого скота или его чистого вегетарианского навоза. Я попытался понять ароматные дымкИ и решил, что топят старыми спиленными фруктовыми деревьями. И я тотчас нашел источник и автора. Леонтьев! Константин! Дипломат и философ, русский Ницше, как его часто называют, был помощником консула не так далеко отсюда, на Балканах в Андрианополе. «О дымок мой, дымок, сладкий дымок мой над серыми садами зимы!» — это импрессионистическое экзальтированное восклицание принадлежит его перу. Так вот он о чем!..
Поднявшись в покои патриарха, мои разбойные спутники, робкие, целовали руку владыки. Отлично образованный, красивый, смоляная с седью борода, говорящий и по-русски, владыка долго и любезно беседовал с нами. Угостил нас водкой в серебряных стаканчиках, ее принес на серебряном старом подносе служитель. К моему удивлению, разбойники все как один от водки отказались. Владыка подарил мне пахучий кипарисовый крест. Для нас особо открыли и показали нам мощи святого князя Петра Негоша… Когда мы вышли к автомобилям, старая твердыня Цетинье была всё так же наполнена леонтьевским дымком. Спустившись с гор, мы остановились у ближайшего ресторанчика, и разбойники, оставив благость, опять превратились в разбойников. Они пили, кричали, и тот, что стрелял на моей лекции, стрелял опять. А я размышлял о юнаке, скачущем с головой турка на пике в город нежного восточного дыма. В родную каменную нирвану.
4. Отцовский запах сапог и оружия
В феврале 1993 года я пробирался в старом автобусе, набитом солдатами, через все Балканы по страшной дороге, по знаменитому «коридору» отвоеванной сербами земли. Иногда коридор сужался до пяти километров и обстреливался со всех сторон. Из Белграда через Брчко и город Банья Лука, где заночевали, мы добрались через двое суток до горной столицы Сербской Книнской Республики, до городка Книн, а оттуда выехали в городок Бенковац, куда я был определен на службу. Дело в том, что, устав от нападок и белградской, и французской прессы (меня обвиняли, что я — журналист — беру в руки оружие и участвую в войне), я в тот раз официально оформился добровольцем в армию Книнской Сербской Республики.
Поместили меня в старую, еще австро-венгерской постройки, казарму. На первом этаже располагались солдаты. В некоторых комнатах были многоярусные койки, в других солдаты спали на полу, на матрасах и матах. На втором этаже помещалась офицерская казарма. Там комнаты, узкие и напоминающие клетки, были населены, как правило, двумя офицерами каждая. В моей клетке кровать была одна (вторую хозяева любезно вынесли, как оказалось, накануне), железный шкаф — из тех, что стоят в душевых и спортивных клубах, карта на стене, железная печка с оцинкованной трубой, уходящей в потолок. Окно выходило во двор казармы. Вместе с сопровождавшими меня ребятами из Книна мы пошли получить мне оружие. Идти было недалеко, в конце коридора на моем же этаже казармы жил начальник местной военной полиции, и он же по совместительству распоряжался оружейной комнатой. Я получил «Калашников» югославского производства и несколько рожков к нему. И расписался за оружие в бухгалтерской книге. Карандашом. Старый холостяк начальник полиции и жил в смежной с оружейной комнате, и там же принимал посетителей, рассаживая их на двух кроватях, застланных солдатскими одеялами. В его комнате крепко пахло машинным маслом и какой-то едкой ваксой для обуви.
В компании книнских офицеров я посетил солдатскую столовую. В этот вечер давали остро-кислую прижаренную слегка капусту с клочками баранины. Ужин на самом деле давно закончился, и мне и моим спутникам достались остатки. Мы съели их, сидя за оцинкованным длинным столом, таких в огромном высоком ангаре столовой было с десяток, от стены до стены. Затем они проводили меня в мою комнату. Внизу тихо беседовали двое часовых и несколько покуривающих солдат. У лестницы на моем офицерском этаже стоял еще один часовой с автоматом. Я пожал книнским офицерам руки, потом мы обнялись, ведь на войне все расставания могут быть последними, навсегда, и они ушли. Я закрыл дверь и уснул.
Проснулся я от ощущения покоя и уюта. Еще светила за окнами луна. В коридоре, слышно было, тихо разговаривал с кем-то часовой. Показалось, что с девушкой. Прислушался. Вероятнее всего, с девушкой. Вечером я видел несколько солдаток. Я потянул носом воздух. Пахло оружием, пах мой автомат, только что из каптерки, с большим, чем необходимо, количеством масла. Благоухал мой пистолет, привезенный мною из Белграда, подарок с прошлогодней войны в Боснии, от коменданта округа Вогоща в Сараево. Пистолет типа браунинг, изделие завода «Червона Звезда». Неистово пахли мои ботинки, я пропитал их водозащитным дегтем сам. Висело и пахло складом на спинке стула мое обмундирование, полный комплект, даже военное пальто с подстежкой. Я поворочался, повздыхал и с помощью знакомых запахов спустился далеко в толщу времени. В послевоенный Харьков спустился я, на Красноармейскую улицу, где в случайно уцелевшем под бомбежками немцев здании у вокзала помещался штаб дивизии и казарма комендантской роты, а на двух этажах жили мы — иждивенцы, дети и жены офицеров. Там пахло сапогами, портянками, оружием. В знакомых запахах я сладко уснул опять.
Разбудил меня стук в дверь. Красная физиономия крестьянина в форме, без знаков различия, появилась в щели двери. На пороге стоял денщик, из местных, мобилизованный в армию: «Хладно, капитан?»
«Да, хладно»,— ответил я. Капитаном был предшествующий мне обитатель клетки. Его убили несколько дней назад. Его имя до сих пор значилось на бумажке, приколотой к двери. Бумажку просто забыли снять.
Солдат опустился на колени, открыл печь и стал заталкивать туда дрова. Я вскочил. Подрагивая от холода, я проследовал в туалет. В тельняшке и брюках. Там скребли намыленные белые щеки сербские офицеры. Я поздоровался и стал брить свои щеки. Когда я вернулся, в моей комнате вовсю гудела печка и стоял душераздирающий запах детства. Ибо дом на Красноармейской отапливался после войны печами.
Мой участок фронта проходил в пяти километрах от казармы. Каждое утро я отправлялся туда на попутном автомобиле или пешком. Когда мне приходилось ночевать на позициях, я скучал по моей казарме. Только там я спал мирно и чувствовал себя в полной безопасности, как в детстве. Безопасность сообщал мне отцовский запах оружия, сапог и портянок.
5. Отель Марселя Пруста
В июле 1994 года судьба занесла меня на несколько дней в Нормандию, в приморский городок Уистрехам, недалеко от порта Кайен, тот самый порт, куда и откуда поступал знаменитый кайенский лютый перец. Было там, у Северного моря, невыносимо холодно. В компании моего друга Патрика Гофмана, здорового рыжего верзилы — журналиста газеты «Минют», и художницы — хозяйки дома, где мы жили, я съездил в Кобург. По каким-то делам художницы. Там в сильном дожде мы посетили отель, в котором жил Марсель Пруст и каковой попал и в его книги. Отель хорошо подсвечивают, потому он выглядит выигрышно. Печенье «мадлен» нам попробовать не пришлось, но мы выпили в пустом баре со знаменитой моделью парусника хорошего виски, а затем прошли под дождем на пляж. На пляже под навесом в темноте полулежали какие-то по виду богатые юноши и девушки и курили марихуану. Море шумело. Я никогда не любил Пруста. Мне от его книг и биографии одинаково тошно. Его длинные буржуазные фразы меня оскопляют. Но отель красивый. И тот прием, когда он из печенья «мадлен» раскручивает свое прошлое,— правдивый прием. Так оно всё и работает. Запахи и звуки умеют разбудить в нас свои и чужие воспоминания.
The art of cooking
Мой читатель знает меня как специалиста по изготовлению щей. Да, я обогатил навечно русскую литературу героем, сидящим на балконе, выходящем на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке, на высоте шестнадцатого этажа, и жадно поедающим холодные щи с кислой капустой.
В последующих моих книгах заглавный персонаж их умело готовит куриный суп. В «Истории его слуги» таким супом восхищается жена его босса-мультимиллионера, она же колумнистка секции кулинарии в газете «New York Times». По ее мнению, хаузкипер Эдвард готовит лучшие в Нью-Йорке куриные супы. Во время болезни босса жена эта звонит хаузкиперу Эдварду с просьбой приготовить его чудесный chicken soup для больного. Так оно и было в данном случае. Я до сих пор горжусь высокой оценкой этой женщины, Тьяши Спрэг. Ее специальностью в «New York Times» были торты и пироги, так что я не был ей конкурентом.
Мало кто знает, однако, что впоследствии я вскоре стал крупным специалистом в изготовлении стейков. Правда, этому способствовали два благоприятных обстоятельства: наличие чугунной печи на кухне мультимиллионера, а также высокое качество мяса, поставляемого мультимиллионеру братьями Оттоманелли — поставщиками его бизнес-величества. Кроме того, чугунная поверхность, должна быть раскалена должным образом, и тут уж следует действовать буквально исходя из интуиции ладоней. Чуть больше жара — стейк сгорит, чуть меньше — он будет «тушеный». Толщина стейка также важна, братья Оттоманелли уверили меня, что стейк толще 2 см считается бракованным и позором для их профессии. Обе стороны стейка вместе не должны находиться на раскаленном чугуне более трех минут. Первая сторона не более двух минут, вторая — не более одной. Особое искусство есть искусство приготовления sirloin steak; этот мясной массив с пилёным кружком косточки посередине изготовляется из верхней части говяжьей ноги. Средний вес sirloin 750–800 граммов, а бывает, они доходят и до кило. Это пища настоящих мужчин — ковбоев-скотоводов и изголодавшихся по-волчьи бизнесменов. Сейчас я потерял, как говорят, руку в изготовлении стейков. Отличная чугунная французская сковородка у меня есть, она необыкновенно тяжела, обширна и годится под стейки. Однако и мясо в России стало дорого, и чтоб обнаружить подходящее, следует отправиться куда-нибудь дальше, чем ближайшие «Продукты 24 часа», а на это у меня нет времени. К тому же я всегда в окружении охранников, так что мне не до sirloin.
Самое грандиозное мясное шоу я наблюдал в 1980 году осенью в окрестностях Парижа. Аргентинец, женатый на русской женщине, с помощью товарищей-аргентинцев приготовил тогда на садовой железной решетке несколько говяжьих полутуш. В общей сложности на двух огромных кострах поджаривалось не менее ста килограммов мяса. Запах жареного мяса, я полагаю, вольно веял над всем департаментом. Аргентинцы, обряженные в широкие кожаные штаны гаучо, умело орудовали большими вилами и были похожи на дьяволов.
В России мясо готовить не умеют, я это отмечал не раз. Мы не мясная страна, а вот у аргентинцев, сказали они, в их Аргентине мясо — пища бедняков. Сейчас модно быть вегетарианцем, моду распространяют желающие худеть женщины, им следуют женоподобные городские мужчины, однако, по правде говоря, энергию дает человеку лишь мясо. Оно же сообщает и агрессию, а доля агрессии в жизненном успехе, и даже в таланте, очень велика. В позднейшие годы моей жизни на Западе я пристрастился к steak-tartar — сырому, рубленному в мясорубке мясу. Его подают с сырым яйцом, каперсами и мелко рубленным репчатым луком. А потом еще подходит официант и из огромной деревянной мельницы мелет на твой стейк крупный черный перец. О-о-о! Агрессия после сырого мяса так и рвет из человека!
К сожалению, я не ем того, что хотел бы есть. Я люблю баранину, но она много дороже, чем свинина. Приходится есть мясо нечистого животного, хотя свинина, в общем, вкусна. А еще чаще я готовлю курицу. Среднего размера порубленные куски курицы бросаю на сковороду, и они в течение минут бывают готовы. Еще я ем салаты; скажем, дешевый китайский салат покупаешь и держишь в холодильнике, он не портится куда дольше, чем слабые и нежные иные сорта салатов. К листьям китайского салата я режу твердые зеленые яблоки (типа «грэнни смит»), пол-яблока бывает достаточно, и обязательно зелень: зеленый лук, укроп, петрушка, а лучше кинза. Заправляю соком лимона (но можно уксусом) и нерафинированным маслом.
Майонезы, кетчупы и соусы я не употребляю. Они убивают природный вкус еды. (С кетчупом можно слопать и мелко измельченную калошу!) Гарниры там всякие: картошки, макароны — только забивают желудок. Я не ем гарниров. Если мне хочется зерновых, я делаю себе быстро гречку или рис и ем их отдельно, как основное блюдо. В России даже бедные пережирают, сладким хлебом, например, набивают наши женщины себя в неумеренных количествах.
Хорошо есть рыбу. Но ее, как правило, в нормальных магазинах мало, и стоит она сейчас не дешевле мяса. Рыбу готовить следует и вовсе очень быстро. В пережаренной пище остается очень мало калорий.
Готовить я люблю. Запахи приготавливаемой пищи мне приятны. Они сообщают мне чувство жизни. Бывало, возвращаешься в родную Саратовскую тюрьму после целого дня, проведенного в казематах суда, а сокамерники тебе борщ оставили в кастрюле, сами сварили. Я обычно борщ улучшал, доставал из пакета в газету завернутые (чтоб дольше хранились) остатки зелени, мелко их резал крышкой от консервов (при каждом обыске мы добровольно сдавали эти самодельные резаки), разогревал суп и ел, наслаждаясь, перетирая зубами зеленые стебельки. Легкий укол в язык от стеблей укропа или петрушки сообщал мне райское блаженство.
Крыс и другие звери
Домашних животных через мою жизнь прошло мало. В возрасте шести лет я нашел в снегу чернобелого тощенького котенка; котенок дрожал и пищал. Я притащил его домой и навязал семье и соседям. Котенок вырос в боевого плебейского кота, навсегда запомнившего, кому он обязан жизнью. Васька воровал для меня еду, а однажды с трудом запрыгнул в форточку — в зубах целая гирлянда сарделек, которую он положил у моих ног. Когда я вырос и стал работать на заводах, он обычно встречал меня со смены у трамвайной остановки и радостно несся ко мне, подняв вертикально вверх хвост. Он был тип боевой и самостоятельный, у него не было в нашей коммуналке туалета; когда ему нужно было выйти, он сигналил у двери. Большую часть жизни он всё же проводил на улице, в своих кошачьих делах: междоусобные драки, девочки. Еще он был бесстрашным охотником на крыс. Под нашим двухэтажным домом был подвал для хранения угля, картошки, всякого старья. Там водились крупнейшие бурые крысы. Однажды соседка с первого этажа, тетя Маруся, сказала мне: «Иди, Эдик, в подвал, там твой Васька здоровенного пацюка убил, весь в крови сидит». Я спустился в подвал. Поставив одну лапу на огромную крысу, окровавленный Васька гордо пел победную песню. Он с большим достоинством посмотрел на меня и продолжил петь. Рваную рану на его голове мы с матерью засыпали молотым стрептоцидом. Выжил. Умер он, уже когда я не жил с родителями. В возрасте четырнадцати кошачьих лет. Ушел перед смертью куда-то и умер. Достойно.
Когда ко мне ушла чужая жена Елена, то с ней в моей жизни появился королевский пудель женского пола: в прежней семье ее звали Двося. Я стал называть ее Собак. Это была истеричная особа, залезавшая к нам, молодоженам, в постель. Я ее ненавидел и подговаривал друзей «потерять» ее на прогулке или выбросить в окно. У нее вылезала ее баранья шкура от неведомой болезни, поэтому от нее вечно ужасно воняло мазью. Слава богу, накануне отъезда за границу мы отдали ее в добрые руки подруги Гали, где она успешно вскоре скончалась. (Она ненавидела меня так же, как я ее.)
Следующие животные появились у меня через четверть века. У крошки Насти, когда мы познакомились в 1998 году, был недоносок бультерьер. Впрочем, он куда-то вскоре задевался. Не то родители Насти его «потеряли», не то потерялся сам. В 2003-м, весной, на свидании в Саратовской центральной тюрьме Настя вырвала у меня разрешение на покупку щенка бультерьера. Я дал разрешение легко, потому что верил, что мне дадут лет 15 или 12 (прокурор запросил 14 лет), потому мы с бультерьером состаримся и умрем раздельно. Я получил всего четыре года, супротив всякого ожидания, и вышел условно-досрочно летом того же года прямо в компанию к бультерьеру.
Еще она привезла в клетке крысу. И мы стали жить. Бультерьер был молчалив и любил заходить человеку с тыла. Там он стоял, похожий на бело-розовую мускулистую свинью, и думал свои бультерьерские думы. Настя кормила его, как солдата, печенкой с перловкой либо даже мясом с перловкой. Ему определили матрасик в длинном коридоре старой убитой квартиры. Однако несколько раз за ночь он скребся жесткими когтями и ударялся башкой о синюю дверь, за которой спали мы с Настей. Он был невиновен, это Настя, пока он был щенком, брала его к себе в постель, и вот теперь здоровенный, мускулистый бугай рвался в мою постель. Дома у себя, в Братеево, пока я сидел в тюрьме, бультерьер (Настя назвала его Шмон) развлекался на прогулках тем, что перекусывал местных крыс в один хряп. Поселившись у меня, он, выходя на прогулку, перекусывал теперь кошек. Нельзя сказать, что обитателям дома, где я поселился (в районе Сыромятники, у Яузы, там сейчас культур-центр «Винзавод»), это нравилось.
Отношения наши с Настей стремительно ухудшались. Не только и не столько из-за мрачного Шмона. За два с половиной года моя девочка окаменела и отвыкла от меня. В один прекрасный день она уехала, прихватив Шмона, к родителям. Она обиделась на меня. Дело было, как мне видится, в том, что накануне я явился нетрезвым и сидел смотрел телевизор. Вдруг подошел Шмон, и… о, неслыханное дело, положил мне голову на колени. Я в ответ погладил его по лысому твердому черепу и сказал: «Ну что, признаешь себя моим вассалом?» Убийца кротко поглядел на меня свиными глазами. Доселе, поверьте, мы не прикасались друг к другу. «Хочешь, Настя, уведу у тебя зверя?!» — бросил я наблюдавшей это зрелище, не веря своим глазам, Насте.
Она еще приезжала пару раз, но без собаки. Потом уже и не приезжала. Вещи ее остались. Через несколько лет я их выбросил, хотя и чувствовал к этим вещам жалость. Еще у меня осталась крыса. Я назвал ее Крыс. Когда я привык к ее противноватому хвосту, я понял, что имею верного друга и вообще дружелюбнейшее существо. Когда я возвращался вечером, она меня ждала и висела на клетке. Тут я ее выпускал, и мы садились ужинать. Она взбиралась мне по штанине джинсов, потом быстренько по кофте влезала на плечо и начинала исполнять свои штуки. Вначале она пугала меня: жутко клацала зубами мне в ухо. Затем она слегка царапала мне ухо коготками. Потом влезала через ворот в мою домашнюю кофту и бегала там в темноте, время от времени высовывая мордочку через чересполосицу пуговиц. Вид у Крыс был всегда хулиганский. Она любила повеселиться. Иногда мы бегали в большой комнате друг за другом. Если я вдруг неплотно закрывал клетку, то она либо ждала меня у порога, либо бежала, запыхавшись, цокая коготками по длинному, в одиннадцать метров, коридору ко мне, единственному своему другу. И лезла по штанине вверх, чтобы сесть на плече. Я вообще заметил, что она садится всегда как можно выше и оттуда нюхает воздух и стороны света. Она любила мыло. И прятала его на черный день под моей кроватью.
Если у меня было плохое настроение, она умела меня рассмешить в два счета. Я ей очень благодарен за то, что она скрасила мою жизнь. К сожалению, крысы не живут долго. И первым признаком ее старения стал постепенный паралич задних ног. Она уже не так быстро вскарабкивалась по моим джинсам, а потом уже и вовсе не могла ходить быстро, как безногий инвалид после войны, тянула корпус одними передними лапами. Утром 10 марта 2005 года я обнаружил мою Крыс вытянутую во весь рост, закаменевшую за ночь. Был еще мороз, я уложил трупик в серебристую коробочку, подложил ей ваты и, так как в этот день у меня была масса дел, положил коробочку за окно, на мороз. На сохранение.
На следующий день мои охранники, взяв топор и саперную лопатку, отправились хоронить Крыс за реку Яузу, там, где пустыри и косогоры. Через некоторое время охранники позвонили мне и сообщили, что выкопать сколько-нибудь приличную могилку для ставшего мне близким существа невозможно. Земля ледяная, они развели было на льду костер, однако результат оказался нулевым. Они предлагают захоронить крысу в дупле дерева, они нашли подходящее: «Дупло сухое, Эдуард Вениаминович, там ей будет хорошо. Но вот только коробка не влазит в дупло. Можно мы ее похороним без коробки?» Я дал согласие.
Там она и истлела — подруга дней моих суровых, превратившись в простейшие элементы.
Социальный наркотик
Любой номер глянца поступает в руки как тайна. Только профаны видят в журналах рекламу брендов: одежды, обуви, часов, автомобилей, одеколонов. На самом деле на глянцевых страницах разыграны архетипические ситуации и трагедии нашего с вами времени. Профессиональные модели, и мужчины и женщины, чем они по трагедийности уступают моделям Веласкеса, Рафаэля, Леонардо да Винчи? Да ничем не уступают… Что в жанре фотопортрета, что в многосложном жанре групповой фотографии. Как и на картинах великих мастеров прошлого, современные модели суть натурщики, образцы нашего с вами времени.
Вот на всю страницу: крупный нос, крупные губы, безмолвное правильное, несколько старомодное мужское лицо на фоне мехового воротника пальто известной фирмы. Лицо таинственного незнакомца, только что прибывшего в холл отеля из далекой страны, где он наверняка натворил таких дел, после которых пребывает в мрачной задумчивости, этот герой нашего времени…
На двух полосах сразу расположилась компания богатых юных бездельников. Фоном служат стены с золочеными барельефами и корешками дорогих книг. Атрибутика — кресла и кушетки — несут золото и расшиты парчой. Юноши одеты в некие гибриды — среднее между парчовым халатом и смокингом. Они напряженно глядят нам, раскрывшим журнал, в лицо. Видимо, с нашей стороны, зрителей, там что-то невеселое происходит. То ли внесли мертвое тело, то ли вошла полиция. То ли конкурирующая банда молодых бездельников, внезапно распахнув двери, направила на собравшихся стволы…
Безупречно современный юноша, недельная бородка и выгоревшие местами русые волосы, сидит на белом диване, а на колени к нему прилегла энергичная безупречная блондинка в черных чулках и синих ботиках, обещающая запредельные удовольствия.
Ну ясно, что лучшие страницы глянца — это мифы нашего времени. Толпы идут в музей смотреть миф — «Джоконду», но еще большие толпы листают глянец, жадными глазами схватывая мифы нашего времени. В сравнении с лицами нашего времени Джоконда — кухарка, давайте себе в этом признаемся!..
Не привлекают часы, сумки, автомобили? Меня не привлекают. Но всегда присутствуют на страницах глянца эпизоды охоты женщин на мужчин и мужчин на женщин. Глянец поощряет межполовую охоту. Возбуждает и воспитывает честолюбие, обостряет амбиции. Он — возбуждающий социальный наркотик.
Глянец удовлетворяет любопытство. Живопись начиналась с воображаемых портретов святых и реальных портретов монархов. Фотография начиналась проще, но портреты монархов были и есть. Фотография английской королевы в резиновых сапогах и в платочке вызывает умиление. Или вот, увидел в рубрике «Светская жизнь» завлекательных дам, отчего у меня сразу повысился аппетит к жизни. Вгляделся пристальнее: нет, не у нас, но во время кинофестиваля в Каннах, праздник шампанского «Moët Chandon». Потому там таинственная Моника Беллуччи, Пенелопа Крус смешаны с Тарантино и Альмодоваром. Взгляд Беллуччи обещает такую жизнь!
Глянец дает пищу для фантазий. Вдохновляет в борьбе за жизнь. Он — стимул к соревновательности и участвует в формировании естественной социальной иерархии. Красотка в вечернем платье — припрятанная страничка глянца в убогих личных вещах заключенного — воодушевляет его преодолеть все страдания и выйти на свободу. И, ступая по трупам врагов, добиться своей победы. Поверьте, я знаю, о чем говорю!
Мои автомобили
Первый автомобиль я приобрел для нужд партии в 1999 году за 500 долларов. Это был поддержанный уазик-«буханка». Мы возили на нем газету из типографии во Владимирской области, а на демонстрациях «буханка» ехала впереди, неся во чреве флаги, полотнища, самодельную звуковую аппаратуру. Второй автомобиль я купил в г. Барнауле в 2000 году, и это тоже был уазик-«буханка» — модель «скорая помощь» с фарой впереди. Этот автомобиль обошелся мне в 63 тысячи рублей, и он был свидетелем моего ареста в горах Алтая.
Когда я вышел из лагеря и приехал в Москву на поезде, у вокзала меня встречал адвокат Беляк на старом «мерседесе». Впоследствии партия прикрепила ко мне старенькую красную «шестерку». У «шестерки» постоянно глох мотор, и мы, пассажиры: я и мои охранники, часто толкали ее где-нибудь в центре города. Однажды это случилось у здания Администрации Президента, к нешуточному изумлению прохожих. В конце концов в ноябре 2003 года я купил себе черную «Волгу» ГАЗ-3110 и некоторое время разъезжал на ней, сверкающей. Однажды, когда мой водитель и охранники ехали в «Волге» без меня, у них отказали тормоза, и они врезались в бордюр у Рижского вокзала. За полчаса до случившегося мне позвонили на мобильный и спросили: «У вас продается черная «Волга-3110»?» Я сказал: «Вы ошиблись номером». Осмотрев машину после аварии, рабочие автосервиса объяснили, что нам повезло: некие гайки у тормозов были намеренно отвинчены.
Автомобиль «Соболь», купленный в 2005 году, был сожжен неизвестными злоумышленниками в конце того же года. «Волга-3110» с моим водителем за рулем попала вскоре в серьезную аварию (без меня), водитель отправился ненадолго в тюрьму, а автомобиль на милицейскую стоянку. Там он провел восемь месяцев. Все это время меня возил на «Оке» другой водитель, бывший милицейский сержант. В «Оке» я сидел сзади, как в аквариуме. Вскоре, впрочем, известный политтехнолог Белковский подарил мне старый «кадиллак девиль». В огромном, низко сидящем «еврейском каноэ» (так называют кадиллак в Америке) я ездил года полтора, затемнив предварительно стекла. Параллельно мы получили от милиции «Волгу-3110», и я стал пользоваться ею, сильно помятой и страшной с виду. Продолжая в то же время пользоваться и «Окой» с сержантом за рулем. Как-то мне пришлось, уезжая с некоторого круглого стола, подвозить депутата Госдумы. «Вы на колесах?» — спросил депутат. «Да»,— заверил его я. «Подбросите меня в центр?» — попросил он. Чертыхаясь, он влез в «Оку», изумленный. Когда выходил на Охотном Ряду, он пробурчал: «Теперь я верю, что вы победите». Он не объяснил, почему он уверовал в нас, но, конечно, его убедила «Ока». Я называл «Оку» спичечным коробком.
В конце 2006-го у «кадиллака» сели рессоры или что там держит его тело над землей, и я поместил его в гараж, как любимую лошадь, не выбрасывать же его безжалостно на улицу, еврейское каноэ. В ГАЗ-3110 приходилось всё время вливать тысячи рублей за многочисленные неотложные ремонты, и, подкопив денег, я купил себе совсем новую «Волгу» с крайслеровским мотором и с затемненными стеклами. И езжу на ней благополучно по сей день. Я стал фанатом «Волги», у нее респектабельный советский вид, она традиционна, как православие, ее редко останавливают гибэдэдэшники. Особенно если ее только что помыли. Я и мои охранники выглядим в ней как оперативники ФСБ. Это нас забавляет.
Племя нацболов
Мои быстрые годы
Благословенный 95-й! Счастливый и несчастный. 5 февраля я тогда подписал с Москомимуществом договор об аренде помещения на 2-й Фрунзенской улице, дом 7 — он стал первым штабом Национал-Большевистской партии, знаменитым бункером, который впоследствии не раз осаждал ОМОН. Оттуда национал-большевики уезжали на акции и в тюрьмы, там национал-большевики влюблялись, женились, выпускали газету «Лимонка», туда я приехал с Павелецкого вокзала, освободившись условно-досрочно из колонии № 13 в Саратовской области в 2003-м. В феврале 1995-го это был еще гнусный подвал, где пьянствовали жэковские «газовщики» и бегали орды огромных жирных черных американских тараканов. Тараканы эти умели летать! Правда, почему-то летали редко. В марте я волевым усилием изгнал вместе с первыми национал-большевиками «газовщиков», и мы начали ремонт своими силами. Вскрыли полы и ужаснулись: тысячи тараканов плодились и размножались в сыром пространстве между бетонным полом и деревянным настилом. Мы собрали все наши силы и стали давить насекомых, крушить стены, штукатурить, красить и, самое изматывающее, прорубать себе дверь — из окна, выходящего на улицу. Принимала участие и Наташа Медведева. Помню ее в каких-то полосатых штанах, в резиновых перчатках, брезгливо красящую стену. В том же году 11 июля мы с ней расстались. Я остался один в красивой маленькой квартире на Арбате напротив театра Вахтангова.
Мне было тяжело, я переживал разрыв, но нацболам не показывал. Руководитель, я строил бункер, сам выложил лестницу, ведущую с улицы в бывшее окно, ныне дверь, так усердно, что сжег цементом кончики пальцев. Есть фотографии: первые нацболы, лидер «Коррозии металла» Паук и я, яростно долбим грунт ломами и лопатами. По вечерам я посещал «Эрмитаж», его тогдашняя владелица Света Виккерс была мне хорошо знакома. Там я смотрел немое кино, танцевал и старался забыть о жене Наташе. Часто с помощью алкоголя, как еще забывать,— я не знал. Помню, несколько ночей подряд я, нетрезвый, увлекательно беседовал с Борисом Гребенщиковым (и он нетрезвый) о национал-большевизме и о Курёхине. Курёхин тогда вступил в партию, вызвав этим огромный скандал среди интеллигенции. Сейчас ясно, что он просто видел дальше современников и был умнее современников. Сегодня одобрять НБП не зазорно. Сегодня нас поняли, а долгое время не понимали. К осени я нашел себе девушку, в которую влюбился, дочь художника. Я прожил с ней с переменным успехом несколько лет.
В сентябре 96-го на меня напали, подкараулив, когда я вышел из бункера один. Молча ударили сзади по черепу, и когда я упал, стали бить ногами по голове и лицу. В результате я остался с травмами глазных яблок обоих глаз на всю жизнь. Весной 97-го я уехал в Казахстан в Кокчетав, где казаки хотели отторгнуть Кокчетавскую область от Казахстана. Меня и отряд национал-большевиков, всего девять человек, там арестовали, а затем мы бежали через четыре страны Средней Азии в Таджикистан, в 201-ю дивизию. Впоследствии вся эта приключенческо-экзотическая история получила название «Среднеазиатский поход НБП». В ней изобиловали экзотика и ужасы. Из экзотики эпизод, когда я попал в Алма-Ате на день рождения дочери Нурсултана Назарбаева, Дариги, а ужасы мы испытали в Узбекистане президента Каримова. Там царил такой чудовищный произвол ментов, что несколько раз мы могли быть убиты, но не случилось. В конце июня 1997-го наш бункер в Москве взорвали. «Безоболочное взрывное устройство эквивалентом в 100 грамм тротила»,— констатировали эксперты МВД. Виновных не нашли. Весной 1998 года дочь художника вышла из моей жизни.
В 1998 году в июне пришла вступать в партию Настя Лысогор. Хорошенькая как ангел, и мы очаровали друг друга, хотя разница в возрасте была вопиющая у нас — 39 лет!
В том же 1998 году в апреле по нелепому вроде бытовому поводу случился партийный раскол. Мой соратник и друг, вместе мы основали партию, Александр Дугин, ушел с группой московских партийцев. Вместе с ним ушел правый, несколько реакционный дух из партийного флакона. Удивительно, но раскол освободил меня от партнера, и я без оглядки пошел вкалывать как проклятый; рассылал тысячи писем, ездил по регионам, и в результате мы провели в октябре 1998-го первый общероссийский съезд партии. Мы обнаружили, что нас очень много, и с восторгом радовались, что в зале кинотеатра «Алмаз» сидят партийцы из 47 регионов. Тот, кто думает, что партийная деятельность — сплошная скука, а политика — грязь, просто не знает, насколько увлекательное это занятие. Мы добывали для партии стулья, первые пишущие машинки, ткань для флагов и чувствовали, что участвуем в легенде и творим историю. Одновременно развивалась моя любовная история. Глубокой осенью 1998 года Настю выгнали из дома, и она пришла ко мне с огромным рюкзаком, и мы стали жить вместе. Ей было тогда шестнадцать, и она училась еще в школе. В ноябре 1998 года Министерство юстиции не зарегистрировало нас как политическую партию.
В 99-м был первый налет на штаб, после того как нацболы разбросали на презентации фильма Михалкова «Сибирский цирюльник» листовки, изобличающие его как друга Назарбаева — палача русских в Казахстане. Михалков, по нашим сведениям, попросил Степашина устроить набег ребят из ФСБ и из МУРа на бункер. Нацболы ответили яйцами в Михалкова в марте. Первый арест двух национал-большевиков Бахура и Горшкова. Первые двое заключенных в Бутырке…
А дальше история понеслась в спешном темпе.
В августе 99-го пятнадцать нацболов были арестованы в Севастополе за мирный захват башни Клуба моряков.
В ноябре 2000 года трое национал-большевиков арестованы в Риге за мирный захват башни собора Святого Петра в знак протеста против дискриминации русских в Латвии. В апреле 2001 года я и несколько товарищей арестованы в республике Горный Алтай в горах у границы с Казахстаном. Нас заключили в тюрьму «Лефортово», потом судили в Саратове. В 2003-м летом я приехал в бункер с Павелецкого вокзала.
С осени 2003 года непрерывные акции национал-большевиков нервируют и дестабилизируют Кремль. В сентябре 2004-го следует знаменитое программное интервью замглавы Администрации Президента Владислава Суркова, в котором он помещает «лимоны и яблоки» на «одну ветку», называет нас врагами России, чем стимулирует сближение между партиями оппозиции различных идеологий. В августе 2004 года национал-большевики в знак протеста против монетизации льгот захватывают мирным путем кабинеты в Министерстве здравоохранения. Семеро арестованы и приговорены к пяти годам заключения. Впоследствии приговоры чуть снижены. 14 декабря 2004 года сорок национал-большевиков входят в Приемную Администрации Президента с книгами Конституции РФ и листовками, призывающими президента уйти в отставку. К Новому, 2005 году сам собой разладился и ослаб мой союз с Настей и прекратился. В апреле я встречаю на выставке актрису Екатерину Волкову. Любовь с первого взгляда.
Суд над тридцатью девятью национал-большевиками продолжается и показывает жестокость и одновременно растерянность режима.
Оглядываясь на десять лет моей жизни, нет, я не хотел бы прожить их иначе.
Фауст
Кличка у него была Фауст. Такую кличку нужно заслужить, и не важно, от чего она была произведена, от «фауст-патрона» (он отличался любовью к изготовлению оружия) или от «Фауста» Гете.
Пришел он к нам из ЛДПР. Я уже не помню, чем именно они ему не угодили, сквозь мерцающие сполохи воспоминаний интуитивно нащупываю, ну да, он был революционер, романтик оружия, а они — ну ЛДПР, партия развязных второстепенных бизнесменов, желающих выбиться в люди.
Высокий, носатый, некрасивый, но с блеском в глазах, он явился в мой только что выкрашенный кабинет в только что арендованном полуподвальном помещении на 2-й Фрунзенской и одним движением положил на стол самодельный пистолет с самодельным глушителем:
— Мой подарок вам, Эдуард Вениаминович!— Был 1995 год.
Я прошествовал мимо него к двери и распахнул ее:
— Все, кто есть, ко мне!
Первые нацболы, их было немного, поспешили на зов. Я указал им на стол и на пистолет.
— Этот человек, будьте свидетелями, только что положил мне на стол пистолет с глушителем! В подарок! Заберите свой подарок и уходите!— сказал я. Фауст, тогда его звали только Дима, спрятал оружие в сумку и быстро ушел. Но назавтра вернулся. Уж очень ему подходила наша партия.
Вернувшись, он извинился, сказал, что хотел от чистого сердца, но понимает мою настороженность, он согласен, что это было глупо, я же его совсем не знаю. Я посмотрел на него и не отверг. Людей у нас было еще мало, а он вроде бы выглядел искренним.
Он помыкался с нами какое-то время. На фотографиях первой нашей демонстрации, она случилась только 7 ноября 1995 года, он есть, среди горстки первых нацболов, рядом с художником Кириллом и прапорщиком Витей. Кривоносый, в кепочке, глаза как два буравчика…
Зачем я о нем пишу? Чтобы показать, что вот и такие люди есть — запутанные, кривые, а не только целеустремленный к успеху ровный средний класс… Я вообще-то вспомнил о нем потому, что мы его не так давно, прошлым летом, похоронили, и сцена похорон была впечатляющая.
Но вернусь в 1995-й и 1996-й. Год он с нами проваландался. У него время от времени вспыхивали идеи, больше криминальные, чем радикальные. Как-то он принес мне показать изготовленную им в виде жестяной банки пива зажигательную бомбу. Он говорил, что такую банку можно оставить в любом месте, в любой офисной корзине, но через нужное количество часов она сама взорвется и запылает. В другой раз он принес мне стреляющую однозарядную авторучку в подарок. Авторучку он сделал сам, красивый предмет, но я отказался: держать такую при себе было опасно, сразу срок дадут. Потом он стал с нами скучать. И перестал появляться, хотя как партия мы наращивали силы, у нас появились организации аж в 36 регионах.
Через несколько лет я узнал, что его посадили. Случайно. Напился, поскандалил с женой. У него была жена, и, надо сказать, незаурядно красивая жена, и вот он напился и поскандалил. И ударил красивую жену, а она вызвала милицию. К моменту прихода милиции он был уже трезв. Потому милиция, пройдясь по квартире, с некоторым удивлением отметила универсальный токарно-фрезерный станок, но мало ли чудаков в Москве, и уже собиралась уходить, но младший сержант заметил незадернутую до конца, высовывающуюся из-за занавески на стене цветную фреску. Из любопытства отдернул, а там, батюшки святы, что называется, огромный портрет Гитлера! Он, Фауст, был ко всему гитлеристом и неплохим художником.
Тогда милиционеры взялись за квартиру основательно и нашли и самодельное оружие нескольких видов, и глушители, и даже самодельные патроны. Ну ясно, он уехал в тюрьму на несколько лет как умелец-изобретатель, не за портрет Гитлера, конечно.
Затем я забыл о нем прочно. Годами ничего о нем не слышал, хотя несколько нацболов имели с ним какие-то минимальные связи. И вот душным летним днем я получил СМС: «Эдуард, Фауст умер. Кремация завтра в 12 часов на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе». Писала одна наша девушка, активистка.
Я поехал из сентиментальности. Нацболы умирают чаще других людей. Фауст был из первых нацболов, так сказать, первый блин комом. Тело еще не привезли, и десятка полтора собравшихся, мы стояли и переговаривались. Оказалось, он повесился либо его повесили в подмосковном СИЗО. А накануне он убежал, но не из СИЗО, а с поселения. Но и это было не всё. Оказывается, после первого срока он вышел и несколько лет прожил тихо, продал квартиру, скитался, наконец устроился на дохлый старый заводик, где опять взялся за старое — стал изготовлять самодельное оружие. Опять его взяли случайно, чем-то он там размахивал в пьяной ссоре в баре.
Дали ему немного и в последний год перевели на поселение, ну это самый легкий вид наказания, когда только спать приходишь в исправительное заведение, а целый день работаешь, а вечер проводишь как хочешь. Ему оставалось меньше года, когда он сбежал. Сказал, что если поймают — повесится, в тюрьму больше не может пойти.
Так и случилось. Его поймали и поместили в СИЗО в Подмосковье. И он повесился, или, может быть, его повесили.
Потом подъехала «газель» с тентом. В кузове лежал большой труп в плохом костюме, с огромным галстуком. Шея у трупа была раздута. Гроб был такой дешевенький, что у меня защипало в глазах. Я что-то сказал у его изголовья. Что-то вроде: «Спи спокойно, товарищ Фауст».
Потом мы выпили водки, отойдя к грязной луже пруда. Девочки-нацболки привезли с собой и водку, и закуску, они очень хозяйственные. Был даже красный плед, на который мы возложили нашу водку и продукты. По-старому мы справили тризну, так это называется.
Второй раз Че Гевара не спас
Когда я, как подобает серьезному русскому писателю, вышел на свободу летом 2003 года, я поехал прямо с вокзала в бункер. Я вообще-то, сидя за решеткой, почему-то думал, что бункер у нас давно отобрали, оказалось нет, не отобрали. Но беспокоили всё время, делали набеги на нас постоянно. Обыкновенно набеги совершались сборными бригадами разных полицейско-спецслужбистских сил.
В тот раз они также нагрянули во всем своем многообразии… Однако прежде чем рассказать историю, я должен объяснить, что такое был наш бункер. Видимо, сразу же понятно, что это помещение под землей, подвал. Я получил помещение в феврале 1995 года по повелению мэра Лужкова, теперь он не мэр, и при содействии г-на О. Толкачева — по-моему, он до сих пор сенатор.
Старые ребята эти представить себе не могли, что там у нас будет. Тогда моя репутация не была еще однозначной, я написал письмо мэру, просил оказать содействие в аренде помещения под редакцию газеты «Лимонка», а также издательство «Арктогея». К моему удивлению, мне ответили, меня принял Толкачев, и помещение нам подыскали. Ну да, мы приспособили подвал для приема тиража газеты, но редактировал я ее в своей квартире.
А подвал, чуть отремонтировав его и пробив отдельную дверь, мы превратили в сквот, в штаб, в приют для бездомных подростков, в избу-читальню, в коммуну, в университет крамольных идей и мыслей. Через бункер за те девять лет, что мы там продержались, прошли десятки тысяч молодых людей. Не все они остались в политике, некоторые эволюционировали даже в наших врагов, но вообще же бункер подготовил для России кадры несгибаемых революционеров, и если не все они еще себя показали таковыми, то еще покажут. Кроме жарких политических дискуссий, в бункере читали книги, варили каши, стирали, принимали ходоков со всей России, влюблялись и, как утверждают наши недоброжелатели, даже совокуплялись. В бункере устраивались выставки, перформансы и рок-концерты. Крайне левые встречались в бункере с крайне правыми и убеждались, как они похожи. В бункере молились на Че Гевару, спорили о Муссолини, запрещенные герои человечества были героями бункера.
Так вот, в тот раз они нагрянули во всем своем многообразии. Опера в шапочках, милиционеры в форме, типчик с усиками представил удостоверение на имя полковника ФСБ Крутова или Кротова. Я отметил, что с такими лицами, как у него, в советских фильмах расхаживали провокаторы.
Когда они ввалились, топоча своими мокрыми сапожищами, мы заканчивали распределять пачки с газетой. Кому на какой вокзал ехать, ведь газету мы распространяли через проводников. Обычно газета уезжала в восемьдесят или более городов. Распределяли мы газету в самом большом помещении бункера, в зале метров под тридцать. Ворвавшись в бункер, они сразу и попали в этот зал. Вместе с ними ворвался зимний промозглый ветер, они принесли с собой на обуви грязь и слякоть. Этот Крутов или Кротов отыскал меня и сообщил, что у них есть сведения, что в бункере находятся вооруженные люди. Прохожие, дескать, видели в окна.
Я поморщился и сообщил ему, что этот же предлог они используют снова и снова на протяжении множества лет. Что окна у нас так глубоко, что в них с улицы не заглянешь. Крутов-Кротов сунул мне под нос бумагу: судья такая-то постановила, что такие-то произведут обыск в помещении по адресу 2-я Фрунзенская. Они рассыпались по комнатам, выводя оттуда взятых в плен ребят и девушек. Так как бункер всегда был, что называется, «проходным двором» России, то в течение часа, пока они рылись во всех 376 квадратных метрах бункера, в бункер пришли еще десятка два посетителей. Всех их построили вдоль стены, обыскали и стали выводить из помещения. От меня тоже стали требовать, чтобы я проехал с ними в отделение. Я сунул свой паспорт Крутову-Кротову и сказал, что никуда не поеду, во-первых, потому что не хочу их тут оставлять одних, а то оружие или наркотики подбросите, а во-вторых, не вижу причин для задержания.
Наглый молодой опер с кавказскими чертами лица взял в руки железную болванку, которая у нас удерживала дверь в открытом положении, постучал ею по своей ладони и сказал: «Вот я сейчас напишу рапорт, что вы на меня с этой болванкой бросились, и вы уедете туда, откуда недавно прибыли, в лагерь, срок досиживать. Вы же условно-досрочно освобожденный…»
Кротов-Крутов отдал мне паспорт и, взяв болванку из рук опера, положил ее туда, где она первоначально находилась. И они удалились все, оставив меня одного. Впрочем, я недолго оставался один. Появились мой адвокат Беляк и несколько распространителей газеты. Мы оживленно стали обсуждать произошедшее.
Внезапно из глубины бункера послышались легкие звуки шагов. И оттуда, как из сказки братьев Гримм, вышли худой, высокий мальчик и совсем маленькая девочка. Они сказали «Здравствуйте!» и стеснительно остановились, не дойдя до нас несколько шагов.
— Откуда вы, дети?— спросил я.
— Они нас не нашли. Мы за портретом Че Гевары спрятались,— сказал мальчик.— Вообще-то мы из Приморья приехали.
— Это Че Гевара нас спас,— сказала девочка.
— Они всё вокруг нас перерыли, а до нас не добрались. Один было хотел Че Гевару себе взять, а портрет был прибит гвоздями и еще приклеен поверху. Мы стояли ни живы ни мертвы. Мы же несовершеннолетние, нас бы в приемник отправили и держали бы, пока родители за нами не приедут. А кто за нами из Приморья потащится…
— Как вас зовут, дети?— спросил Беляк.
— Андрей.
— Марина.
— Лет вам сколько?
Ему было шестнадцать, а ей, его двоюродной сестре, и вовсе тринадцать. Только что, в бункере, отметила.
Оказалось, они прочли какую-то мою одну книгу и потому рванули в Москву. Нашли бункер и поселились в нем.
— Есть, наверное, хотите, дети?— сказал Беляк. Потом полез в кошелек, достал тысячу рублей и протянул детям: «Идите, еды купите!» Беляк был сердобольный адвокат и часто кормил вечно голодных обитателей бункера.
11 июня 2010 года Андрей Сухорада погиб во время штурма ОМОНом квартиры в городе Уссурийске, в которой укрылись знаменитые приморские партизаны. Андрей был одним из них, одним из двух вожаков. Со времени сцены в бункере прошло лишь шесть лет. Во второй раз Че Гевара его не спас.
Мужские коллективы
Весной случилось так: я возвращался из семьи, от сыночка моего Богдана, с которым гулял. И в районе Комсомольского проспекта «Волгу», в которой я ехал с охранниками, вдруг захлестнуло потоками молодежи. Оказывается, закончился важный футбольный матч в Лужниках, и восемьдесят или семьдесят пять тысяч болельщиков катят, как ледник, по Комсомольскому проспекту. Надо было ждать. Пытаться ехать оказалось бессмысленным, потому некоторое время мы провели в гуще хлеставшего безостановочно мужского потока. Сильные молодые люди, сильные ноги, крепкие торсы обтекали наш автомобиль. Я сидел за темными стеклами и был полон восхищения перед этой мощью. Допускаю, что сами человеческие волны этого потока чувствовали себя, может быть, обыденно. Но мы видели поток со стороны, как может его видеть и чувствовать валун, застрявший по течению реки и вынужденно рассекающий собой поток.
Допускаю, что у меня горели глаза, когда я вскрикнул: «Хочу таких! Мне бы их всех!» Охранники расхохотались, но меня поняли. «Да, Эдуард Вениаминович,— поддержал меня Димка-белорус,— желательно бы таких!» Сам футбольный фанат, он знал цену этой силе.
Фанаты, среди них были и девушки, завихрялись на одном из углов на Комсомольском, где торговали на свой страх и риск спиртным, но основная масса текла убыстренно к метро «Фрунзенская». Среди фанатов была и группа нацболов. Мы крикнули им привет из окна машины. Клокоча и грозно шумя (ногами), поток все не иссякал. Ушли добрые полчаса, пока мы смогли выбраться из людских волн.
Я что хочу этим сказать? А я хочу сказать, что я хочу их всех под мое знамя. Победа будет мгновенной.
В колонии № 13, где я отбывал наказание в заволжских степях под палящим солнцем, мы обязаны были ходить строем. Все тысяча триста заключенных. Бритые бошки, кепки французских легионеров на бошках, аскетически скоромные тела… Мы вышибали из старого асфальта ритм множество раз в день. Три раза в день лагерь поотрядно шагал к столовой и из столовой. По утрам трудоспособные под музыку вышибали из асфальта ритм — отправлялись на работу в промзону. По нескольку раз в день, когда считали нужным, конвойные водили нас еще и в клуб, чтобы истязать лекциями и несвежим искусством из филармонии. Рядом с каждым отрядом шагал цепной пес «завхоз» из агрессивных лагерников, сам зэк, осужденный, как правило, за тяжелое преступление, и свирепо орал: «Шаг! Шаг! Шаг!» И мы в такой же свирепой злобе ударяли ботинками об асфальт.
В столовой колонии № 13 орал обычно искореженный кассетником, невесть как прибившийся в лагерь немецко-фашистский коллектив «Рамштайн». Хриплые, вознесенные над нашим адом германские голоса были в лагере так уместны, как нигде, какие концертные залы! Ничего лучше нет, чем столовая для бритоголовых узников, где в один раз восемьсот злодеев шамкают свои каши алюминиевыми ложками из алюминиевых мисок. Апофеоз свирепого мужества.
Я? Я наслаждался этим адом. Я хотел их всех под мое знамя.
Детство мое проходило, так случилось, среди солдат. Отца моего, офицера, множество раз переводили из одного гарнизона в другой. По Восточной Украине: Ворошиловград — Миллерово — наконец Харьков. После войны неразрушенных зданий было мало, так что мы жили при дивизиях. Кабинет моего отца перегораживала обычно занавеска. По одну сторону он вершил свои военные дела, по другую — жили мы: я и мама, его личная жизнь. Солдаты были моими няньками, мамками и товарищами. Когда в 1991–1993 годах мне приходилось в моих военных скитаниях жить в казармах (больше всего в Сербии), я с удовольствием и спокойствием вздыхал запах, знакомый мне с детства: родной запах сапожной ваксы, кожи ремней, сапог и портупеи, оружейной смазки, запах молодого едкого солдатского пота, дешевых сигарет, дешевого одеколона. Спал я в сербских казармах спокойно и счастливо, как младенец. Не обращая внимания на канонаду с фронта.
Вообще, я люблю находиться среди молодых вооруженных ребят. В Таджикистане в 1997 году я жил в казармах 201-й дивизии и был счастлив.
В мае этого года умер генерал армии Варенников. Я пошел проститься с ним в здание номер два по Суворовской площади, недалеко от здания Дома Советской армии. Двор здания номер два — кстати сказать, это старый бывший дворец — вмещал в это утро несколько тысяч солдат и офицеров. Они стояли в очереди, чтобы проститься с генералом армии. Будучи человеком простым, я сначала встал в их очередь — и сразу почувствовал себя как рыба в воде, своим среди своих. Да и на меня никто пальцем не показывал. Пришел человек, стоит, значит, так надо. Чуть поодаль я вдруг увидел военного со звездой маршала. Вначале, в первый момент, я не понял, что это маршал, потом, посоветовавшись с охранниками, определились, что это маршал. Какой маршал и какая его фамилия, я не вспомнил. Очередь военных двигалась небыстро, потому что военные пропускали гражданских. Ко мне подошли и предложили войти с гражданскими. Не очень охотно я вышел из военной массы. Когда я проходил мимо маршала, маршал неожиданно поздоровался со мной. Видимо, он знал, кто я такой.
Мы поднялись мимо множества военных и почетного караула с обнаженными клинками наверх в зал с колоннами. Колонны были задрапированы черным и красным от пола до потолка. Гроб наклонно был помещен в центре зала. Лицо старого воина было освещено. В ногах у него лежала гора цветов. Я присоединил к цветам мои скромные красные гвоздики…
Что я хочу этим всем сказать, припомнив быстро сильные мужские коллективы: тугой хлещущий поток футбольных фанатов, адских заключенных, отбивающих шаг на раскаленном асфальте в заволжских степях, очередь солдат и офицеров, пришедших проститься со старым солдатом… Что хочу сказать? Это я рассказал о мужских коллективах, о массах мужчин, одержимых одной страстью. Вот я о чем…
«Бог-отец» на спектакле «Отморозки»
Захар Прилепин пригласил меня на просмотр «Отморозков», когда еще лежал снег. Он не назвал спектакль, просто сказал: «Серебренников тут делает прогон спектакля по моей книге, придете?»
Автомобиль мы оставили на стоянке, где Камергерский переулок впадает в Тверскую. Экипаж из нацболов плюс женщина Фифи, которая со мной спит. В Камергерском мы увидели толпу и поняли, что нам туда, к запертым дверям, у которых толпа перемещалась. Обнаружился и Прилепин. Я спросил у него, нет ли у него фляжки с коньяком. Нет. А было холодно.
Группами, сложным маршрутом через дворы нас провели наконец в репетиционный зал. Никакой сцены, лишь уровни стульев повышаются на деревянной платформе. Женщина, с которой я сплю, любопытно вертелась и снимала на мобильный и на крошечный фотоаппарат. Как обычно, было непонятно, кто есть кто и чего все эти люди собираются вместе, расходятся, о чем договариваются. Было по меньшей мере три мужика, похожих на Серебренникова, какой подлинный — не было ясно, хотя я его один раз в зале «Билингва» видел. Поэтому я толком ничего не мог объяснить Фифи, черноволосой моей подружке, с которой я сплю. Жаль, потому что, если вы спите с женщиной, то вам хочется ей всё объяснить. Кто есть кто и зачем всё это.
Долго не начинали, как полагается у театральных людей (у музыкальных тоже), наконец потушили всё что можно, и вдруг подсветили тьму. Толпа актеров выкрикивала лозунг: «Мы маньяки, мы докажем!» Толпа находилась за железной милицейской изгородью, по ту ее сторону, а по сю стояли человека четыре милицейских в условной форме «космонавтов» — пластиковые шлемы на бошках и дубинки в руках. Я прикинул численности «нацболов», как я их воспринял, и «ментов» и пришел к выводу, что их мало. Если бы я ставил спектакль, я бы им увеличил численность, хотя бы для двух-трех массовых сцен. Но, может, у Серебренникова столько студентов в театре-студии МХАТ не нашлось. Поэтому малочисленная группа олицетворяла нацболов, а их даже судили в реальности по сорок человек сразу, как в 2005 году за захват приемной Администрации Президента.
«Нацболы» на сцене прыгали, бегали, толкались, вели достоевские разговоры о смысле жизни. Я различил в студентах МХАТ пару-тройку своих товарищей; так, главный нацбол был смоделирован актером с нашего товарища Сергея Аксенова. Меня на сцене не было, я во время написания книги Прилепина сидел в тюрьме. Но Аксенов сидел в той же тюрьме, что и я, и, по правде говоря, в то время партией рулил Анатолий Тишин. Но студенты МХАТ Тишина уже не застали, он уже давно священник в городе Санкт-Петербурге, поэтому срисовали студенты главного нацбола с Аксенова. Очень похож, надо сказать. (Аксенов, посмотрев спектакль в театре на «Винзаводе», говорят, был тронут до слез.) Главный герой спектакля носит имя Гриша, а фамилию Тишин. Прилепин и Серебренников сделали вынужденно Гришу Тишиным, то есть отдали ему в спектакле настоящие его имя и фамилию, он сын Анатолия, потому что Прилепин якобы подписал уже довольно давно договор на киносценарий по этой же книге, и та фамилия, которая в книге, уже была занята, таким образом.
Глядя на актеров, я думал что-то вроде: «Наконец вот герои, которые тебе не «Три сестры», это тебе не «Немирович-Данченко» в клетчатом костюме, жизнь всё же ворвалась в театр. Театр — это затхлое, вообще-то, место. Я бы сделал еще грубее, честнее… У меня бы парни говорили, как нацболы: опасно, с уклоном вправо, нацболы ведь родились как лево-правые, и правого вначале было больше. Факт».
— А где ты?— спросила Фифи, женщина, с которой я сплю, имея в виду, что меня нет на сцене.
— Я в тюрьме, как в книге. И это хорошо для режиссера, ты представляешь, что бы с ним сделали, с Серебренниковым, если бы у него на сцене ходил Лимонов?!
— Жаль,— сказала женщина, с которой я сплю.— Жаль.
— Я в лимонах,— в это время на сцене «нацболы» бросались лимонами и жонглировали ими.— И вообще, я чувствую себя как Бог-отец. Я ведь всё это создал… — Я показал на сцену.— Без меня ничего бы этого не было…
Сцена с гробом, который тащили и переворачивали, показалась мне неуклюжей. Но я что, моя фамилия не Серебренников, сцена с гробом показалась мне примитивно-символической, технически устарелой.
Возвращаясь с женщиной, с которой я сплю, к себе домой, чтобы с ней спать, я сказал ей, что считаю спектакль полезным и нужным для нашей политической борьбы.
Еще я объяснил ей, что невооруженным глазом виден процесс канонизации НБП российским (и не только российским) обществом. В то же самое время, когда власть репрессирует моих сторонников (только с 2008 года около сорока нацболов были осуждены по статье 282.2 за якобы принадлежность к запрещенной экстремистской организации, обвинения предъявлены еще двадцати моим сторонникам), вот выходит спектакль Серебренникова. В 2010 году Франк Касторф поставил в Берлинском народном театре спектакль о Лимонове и НБП, только что вышел фотоальбом Сергея Беляка «Девушки партии» (конечно же, НБП), в Украине и во Франции вышли биографии Лимонова, где большая часть этих книг уделена истории НБП. Прилепин получил премию «Супернацбест» (о, парадокс!) из рук господина Дворковича — советника и друга президента. Канонизация!
— Да,— сказала Фифи.— И все-таки жаль, что тебя нет в спектакле как героя, нет на сцене.
— Я всё это создал. Я Бог-отец. Вот я это создал, и увидел, что это хорошо.
— Ну хорошо,— сказала Фифи.
И мы отправились в постель, чтобы доказать друг другу, что мы есть. Чтобы преодолеть космическое одиночество. Ибо по моей недавно сформулированной гипотезе making love задумано было, может быть, и как уловка для размножения человеческого вида. Однако сам человеческий вид испытывает ни с чем не сравнимое интенсивное сверхчеловеческое удовольствие от making love. Это удовольствие происходит от преодоления женщиной и мужчиной космического одиночества.
Этого еще не знают нацболы. Это я только что открыл прошедшей зимой.
О нацболах и «комиссарах»
Когда в 1993 году мы: я, Александр Дугин и Тарас Рабко, восемнадцатилетний студент Тверского университета,— создали НБП — Национал-большевистскую партию, Русское национальное единство уже существовало с октября 1990 года. РНЕ — ровесник ЛДПР, старейшей после КПСС российской политической организации.
В октябре 1995 года на своем съезде РНЕ заявило численность в пять тысяч человек. В Москве и Московской области их насчитывалось пятьсот — шестьсот. Это была самая крупная молодежная организация России начала и середины девяностых годов. Ее идеологией официально был назван доморощенный русский национал-социализм на базе православия, но на самом деле молодежь привлекала военизированная организация РНЕ, дисциплина, военная форма, занятия по стрельбе и владению приемами рукопашного боя. В России девяностых не редкость было видеть на улицах городов группы военизированных подростков: члены РНЕ держались серьезно, спокойно и скорее вызывали симпатию, в разнузданной Москве так уж точно.
В 1997 году, будучи кандидатом (на довыборах, депутат-коммунист скончался) в депутаты Госдумы от Георгиевского округа Ставропольского края, я обнаруживал свежие листовки РНЕ даже в самых заброшенных станицах, у границы с Чеченской Республикой. Юноша со щитом и мечом в руках предлагал защитить население. В казачьих станицах в то время и в том месте они были популярны.
НБП, которую мы создали в 1993-м, быстро догоняла по популярности РНЕ. Никакой формы, но единообразная черная одежда городских подростков (черные джинсы, куртка), стрижка под ноль (по желанию, никого не заставляли, люди приходили и с зелеными ирокезами). Партия лево-правая, НБП привлекала молодежь того времени более всего именно своей идеологией, эклектически собравшей воедино именно и правых героев XX века, от чернорубашечников Муссолини до Че Гевары, от героев большевиков до героев итальянских «красных бригад» и немецкого РАФ, Курчио и Баадера. К нам шли и рабочие-подростки, и студенты элитных вузов, все яростные элементы, которых отталкивала новая жизнь России с ее культом наживы и стяжательства. В 1998 году мы созвали первый всероссийский съезд партии и обнаружили, что нас очень много. И что партия так молода, что часть партии невозможно было включать в документы, таким было меньше восемнадцати. У нас уже были организации в сорока семи регионах России. Мы подали документы на Регистрацию партии в Министерство юстиции. Нас не зарегистрировали; мы подали документы еще раз. Нас опять не зарегистрировали. Под лживыми предлогами. Если бы нас зарегистрировали, мы бы участвовали в выборах в Государственную Думу в 1999 году и гарантированно попали туда, настолько партия была яркой и молодой. «Их пять тысяч, они все молодые, мы не знаем, чего от них ожидать»,— резюмировал в Таганском суде отношение власти к нам красномордый представитель Минюста (по-моему, он был еще и пьян, либо с похмелья).
В 1997 году партия попыталась принять участие в казачьем восстании в Казахстане. Восстание было предотвращено, множество людей арестованы. В 2001 году я был арестован вместе с товарищами в горах Алтая на границе с Казахстаном по обвинению в попытке организации незаконных вооруженных формирований. Фактически обвинен в попытке начать партизанскую войну. По выходе из-за решетки партия обратилась к практике ненасильственных действий «Акций прямого действия». Активисты партии поражали пищевыми продуктами VIРов правительства (однажды даже Михаила Касьянова, премьера и генсека НАТО), а также стали «захватывать» мирным путем кабинеты важных чиновников. Так, в 2004-м были захвачены кабинет Зурабова в Министерстве здравоохранения и приемная Администрации Президента. За что нацболы были посажены в тюрьмы.
В ответ на деятельность НБП серый кардинал Кремля г-н Сурков создал в феврале 2005 года по лекалам и рецептам НБП (они содержатся с моей книге «Как мы строили будущее России») движение «Наши», целью которого была именно борьба с молодежной партией НБП. Приведу только одну цитату из «Как мы строили…»: «При отборе ребят следует сразу делить их на «комиссаров», способных вести работу по пропаганде и агитации, способных выступать перед массами (убалтывать массы), и на солдат. Солдатская должность почетна, но на данном этапе борьбы нам важнее «комиссары» — сеятели нашей идеологии, развитые и образованные».
Так что «комиссары» с Селигера слизаны с нацболов и запрещенной НБП.