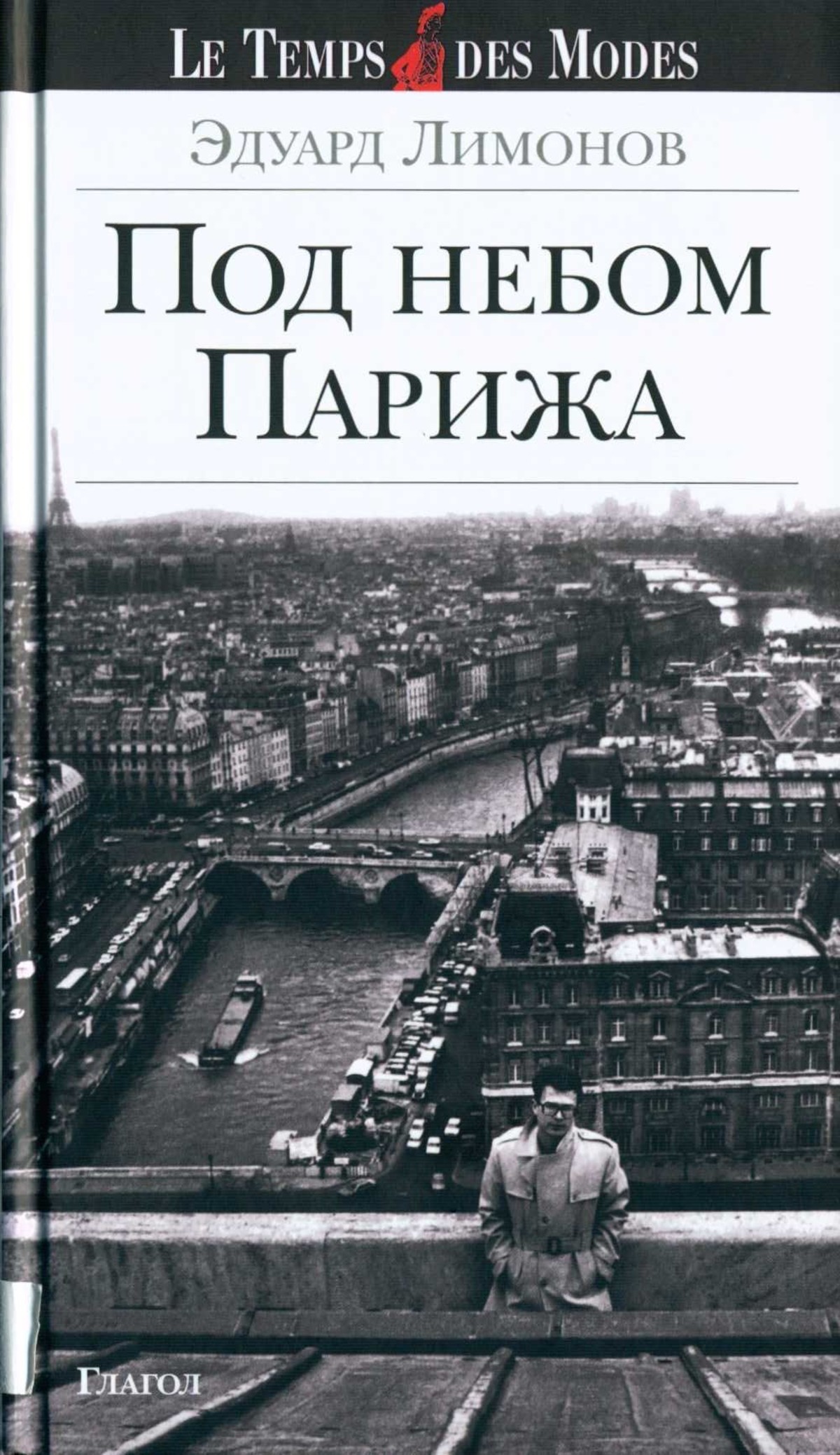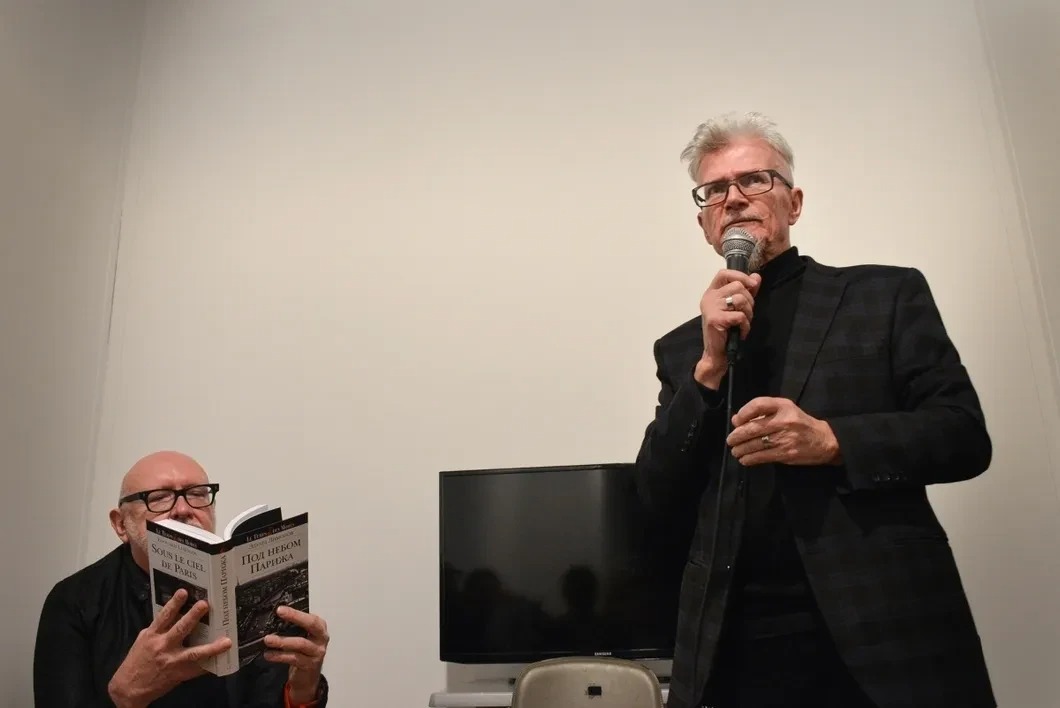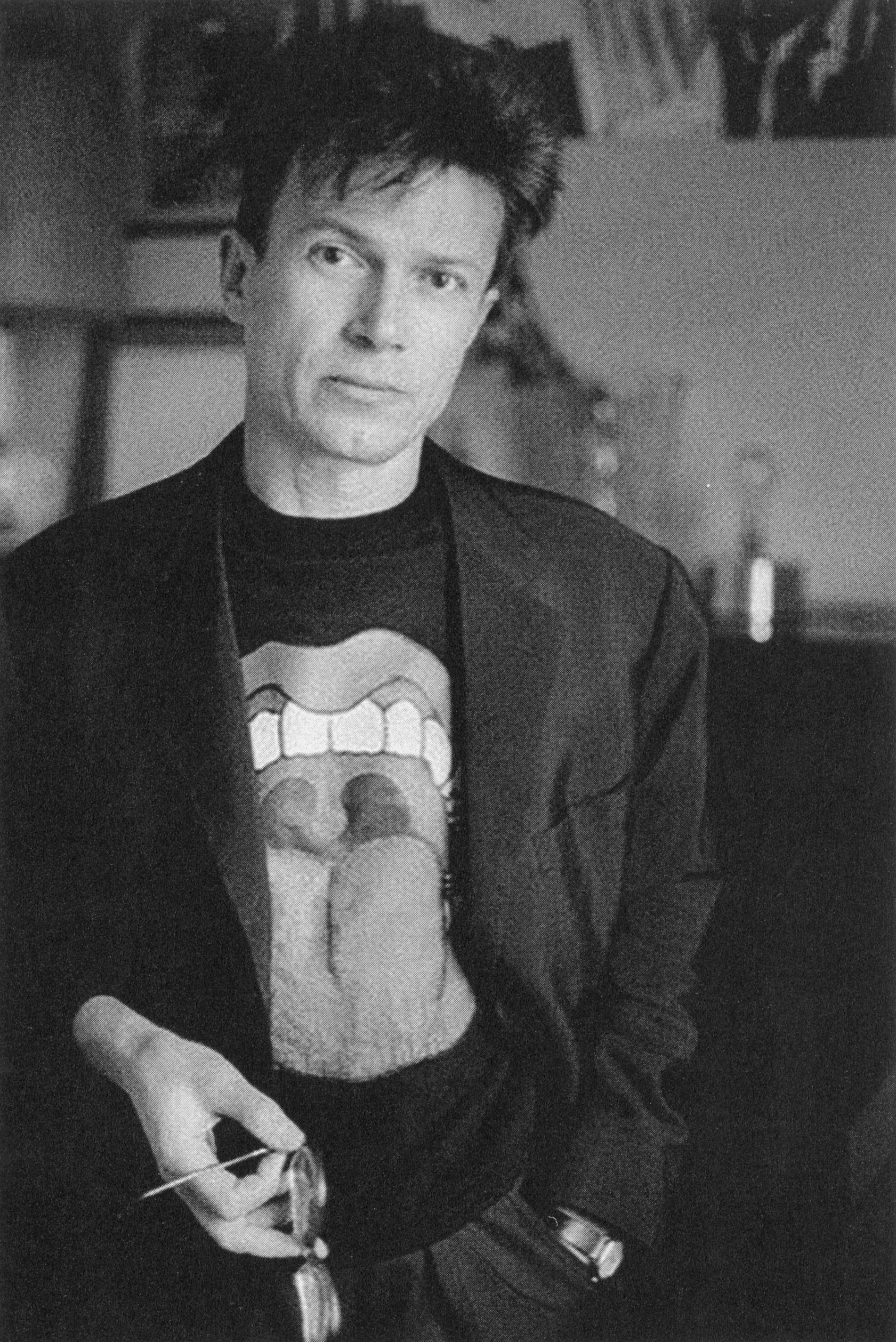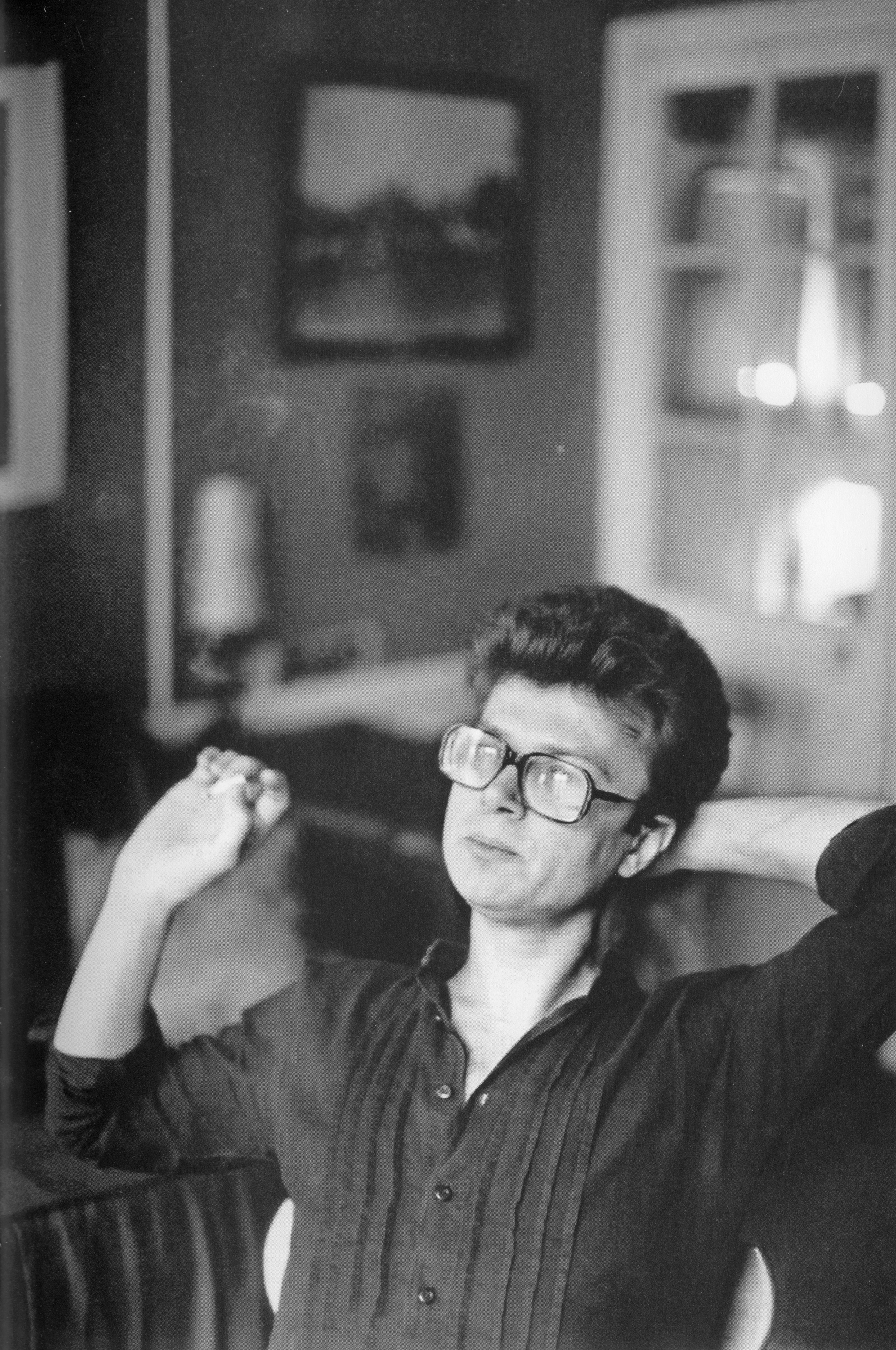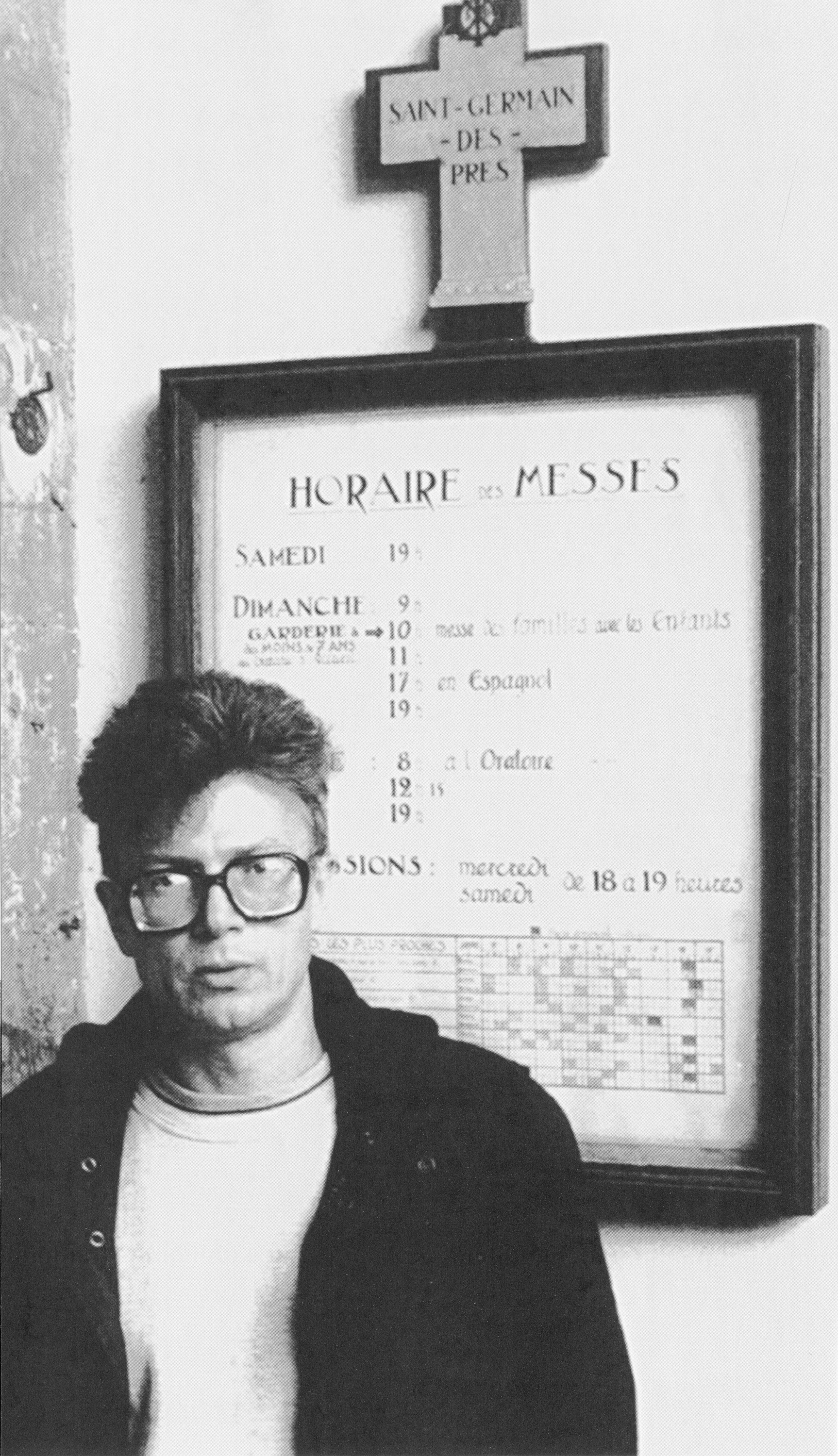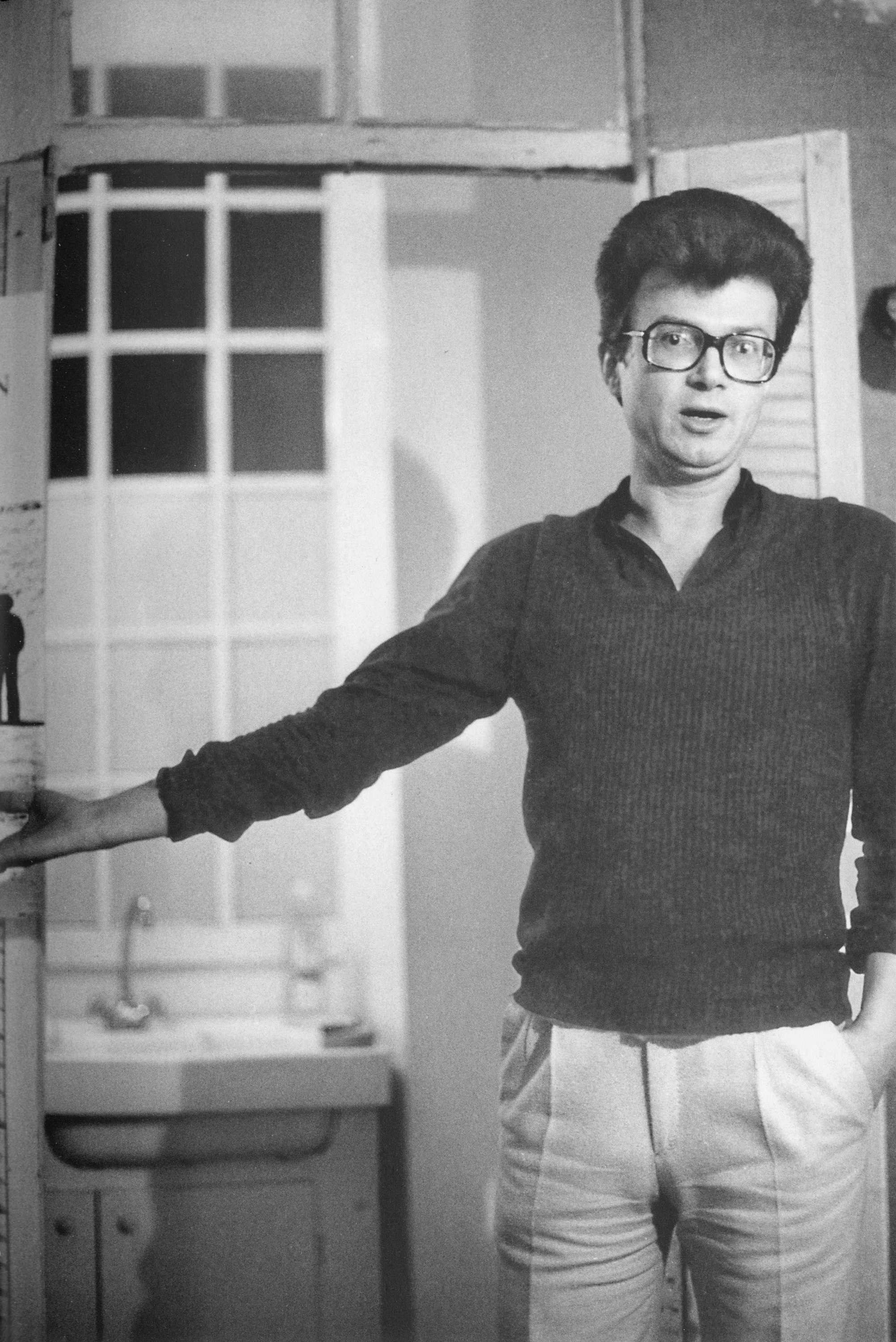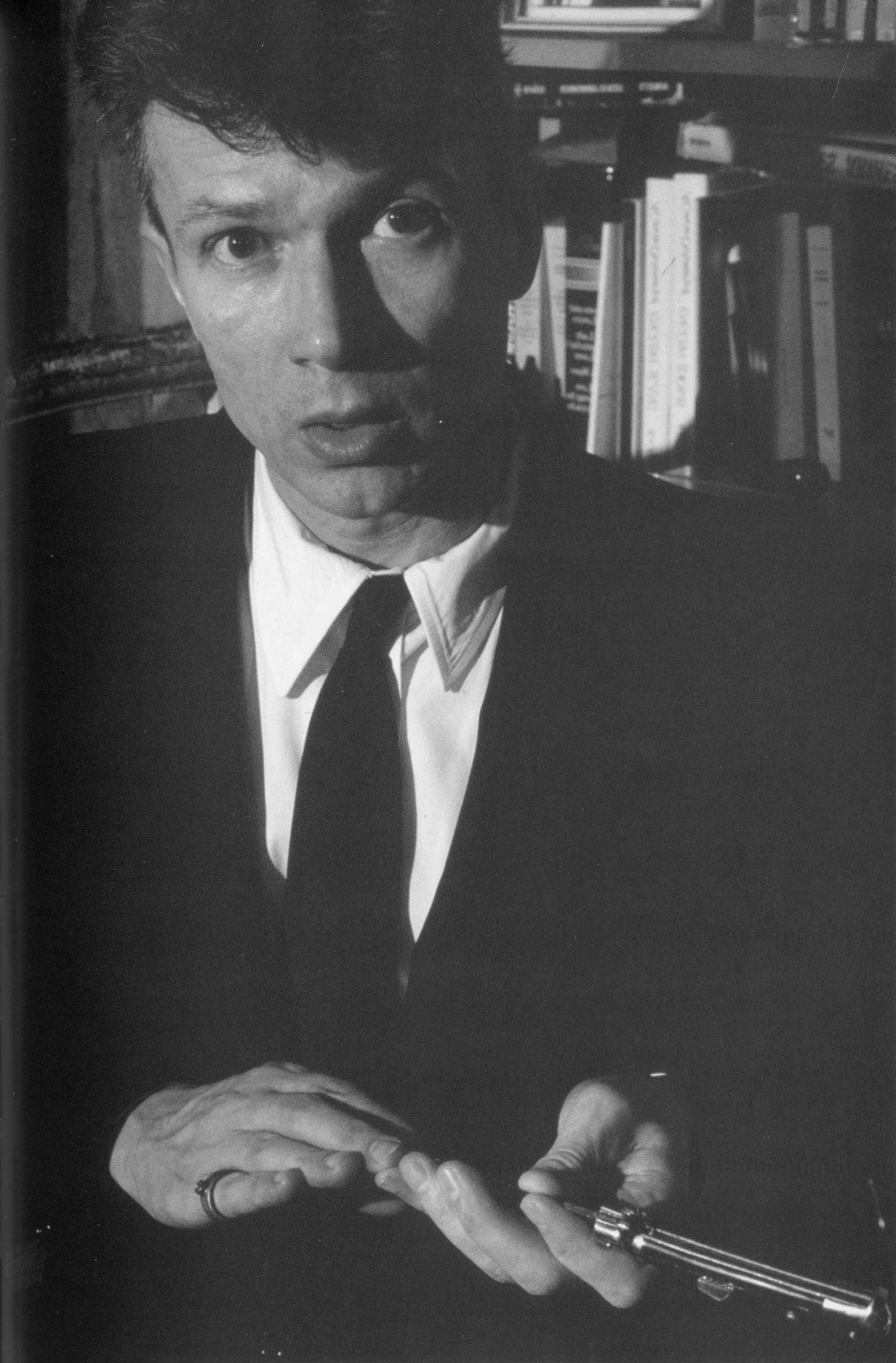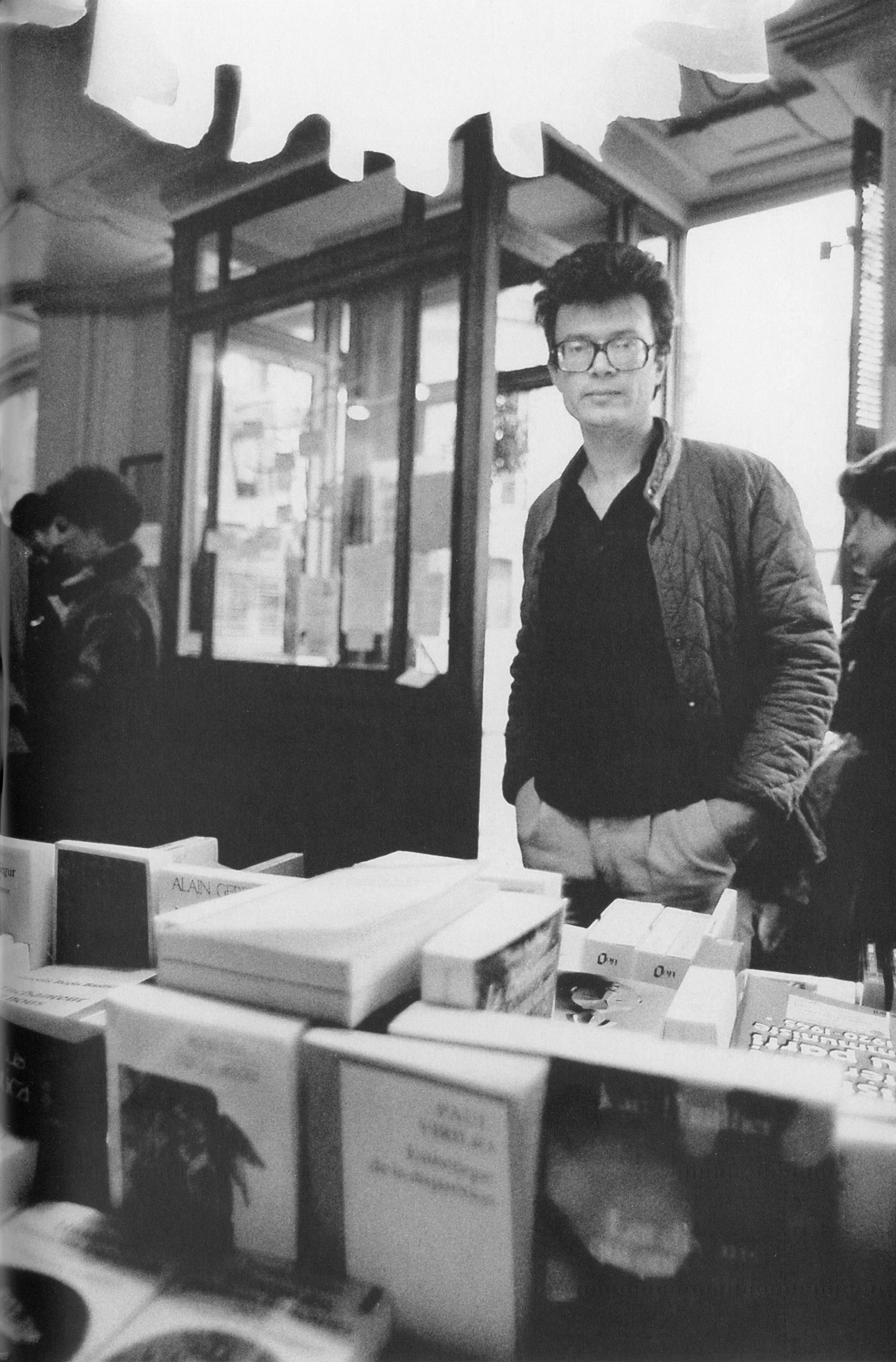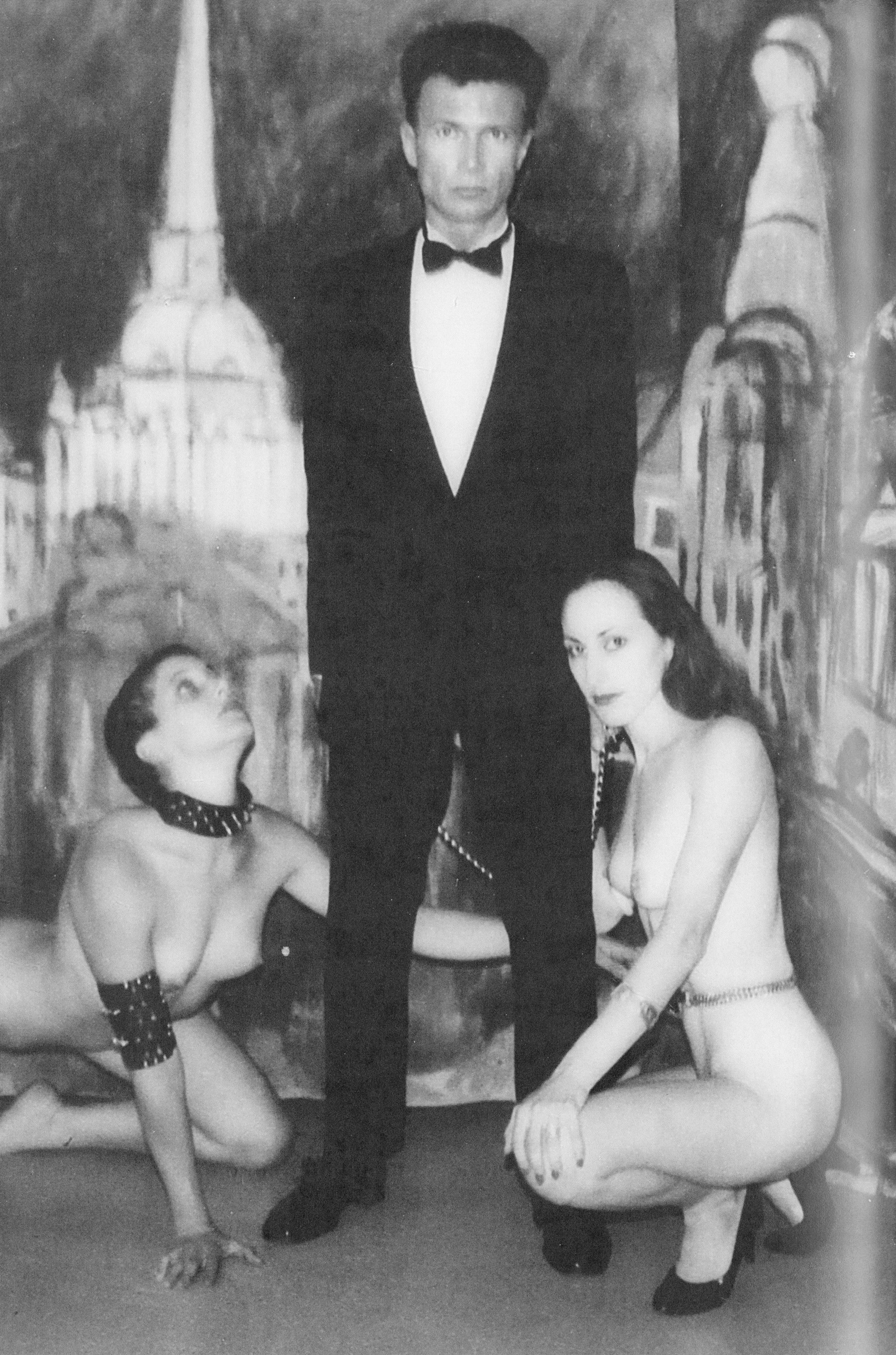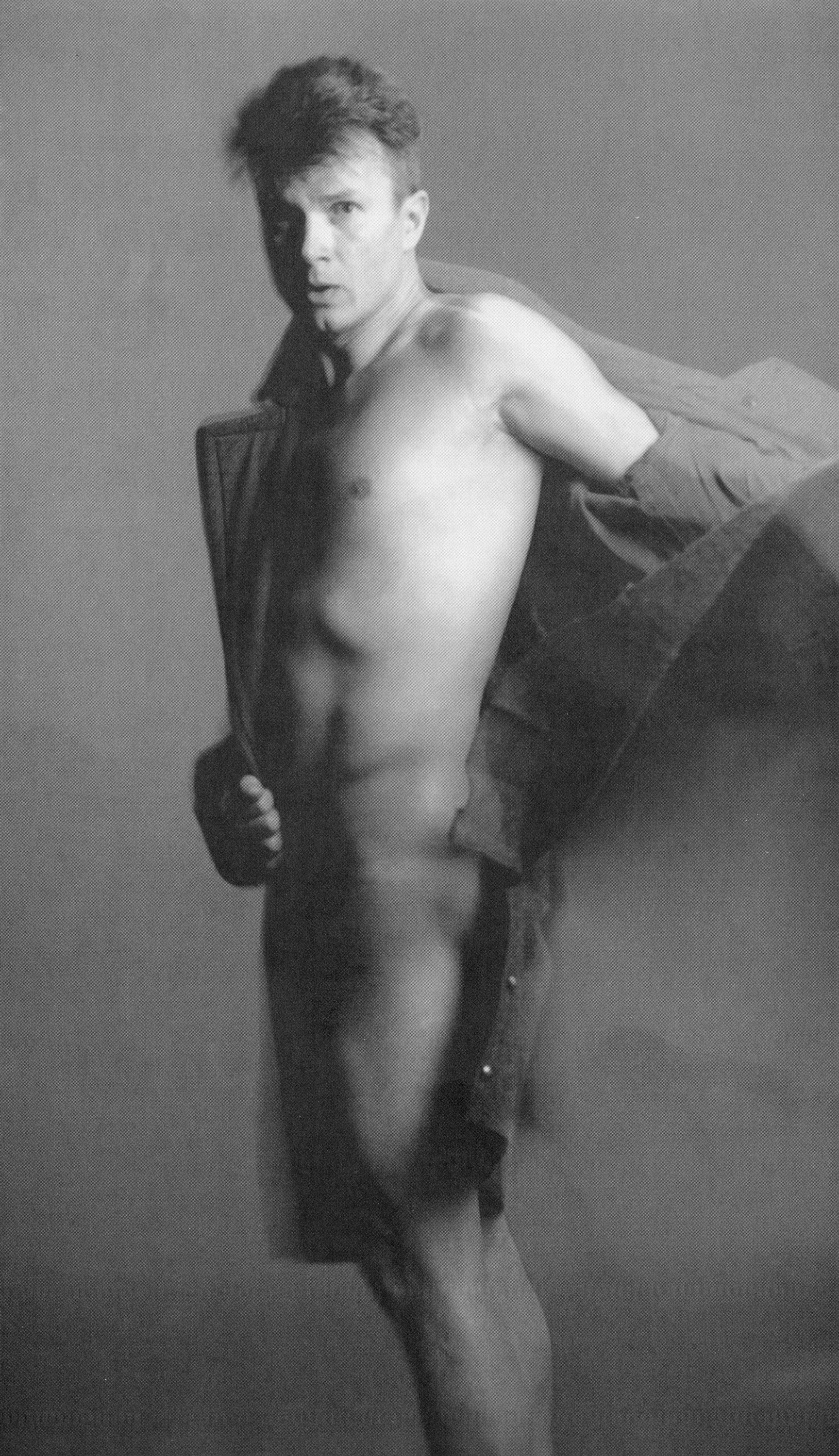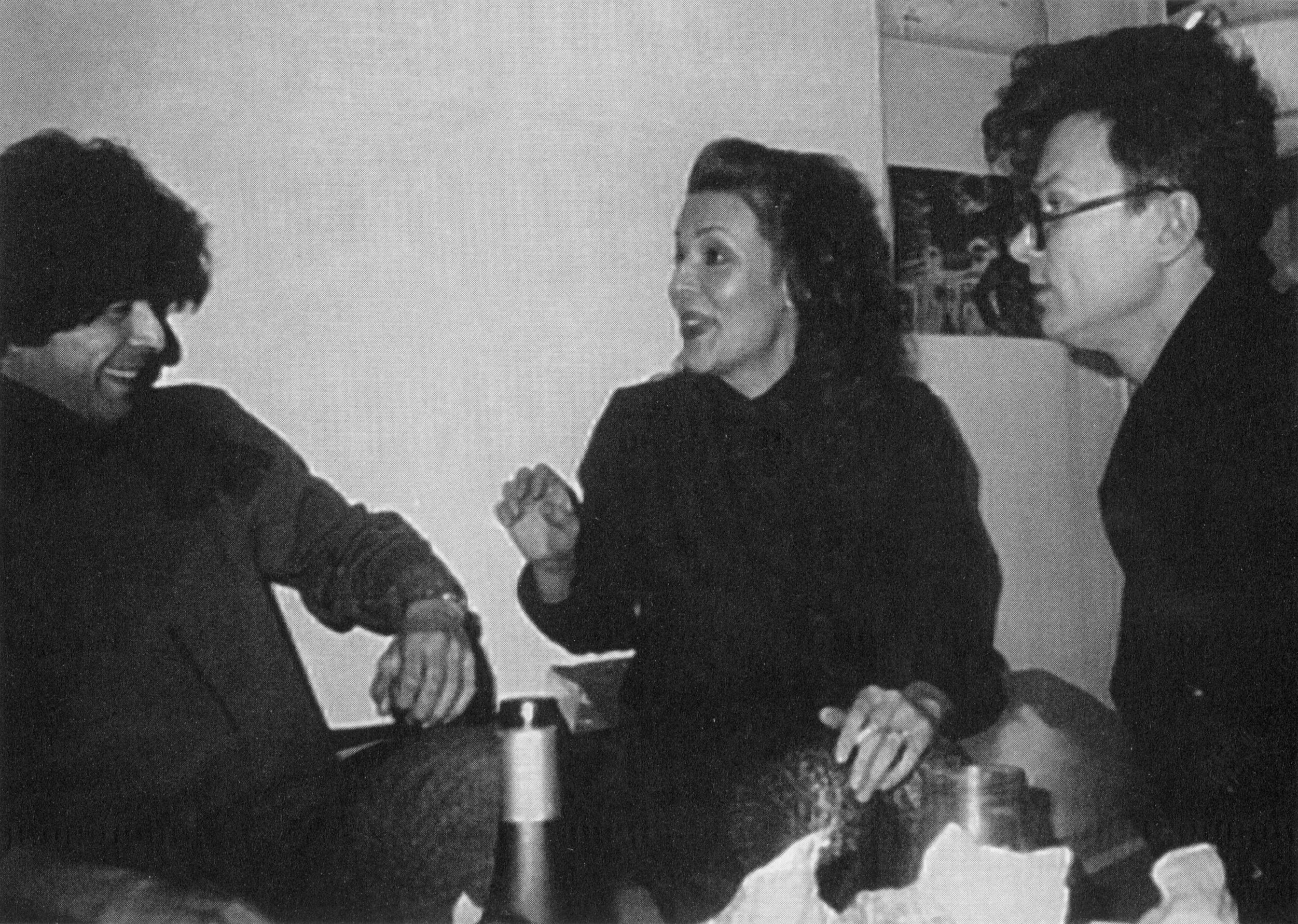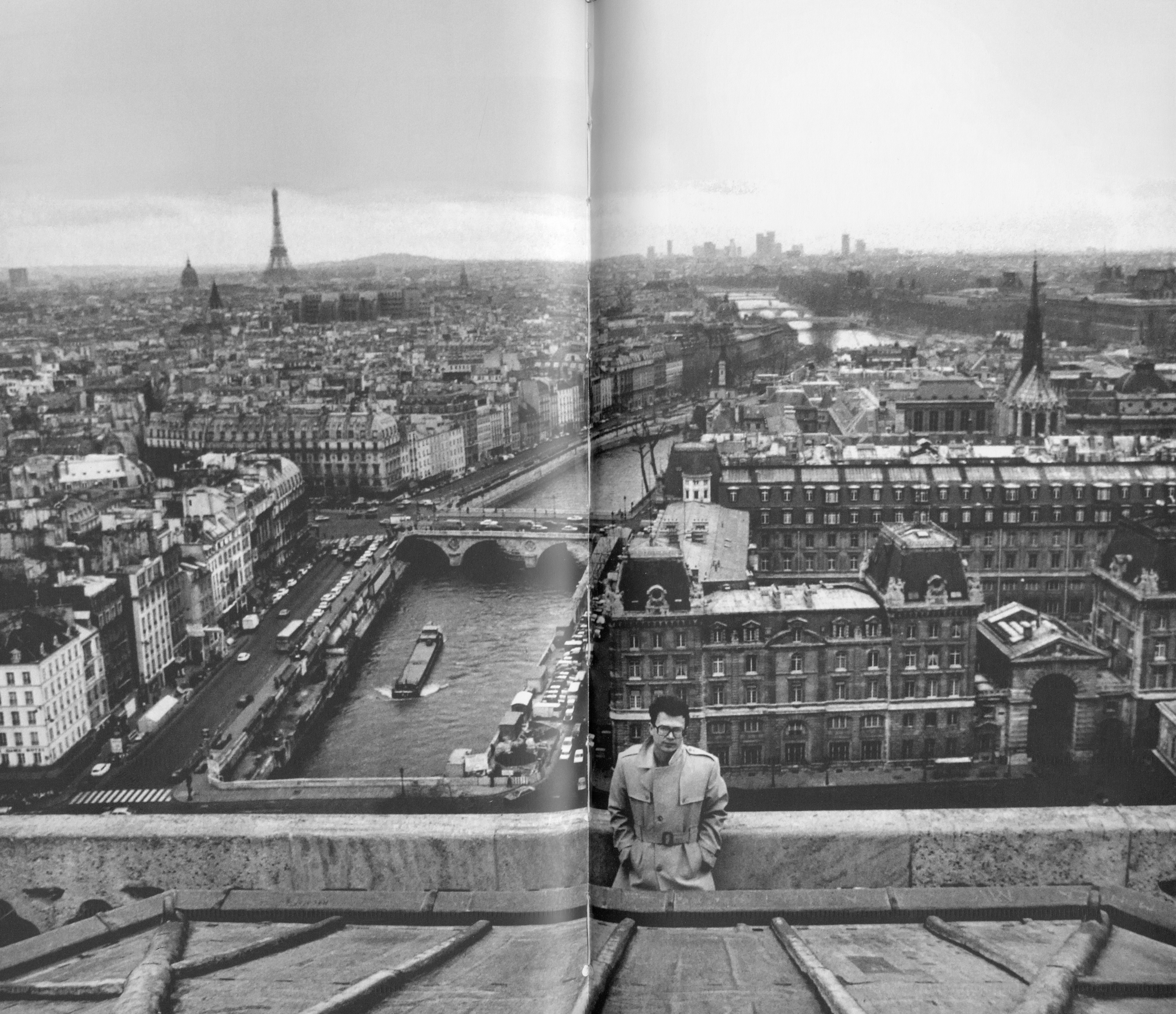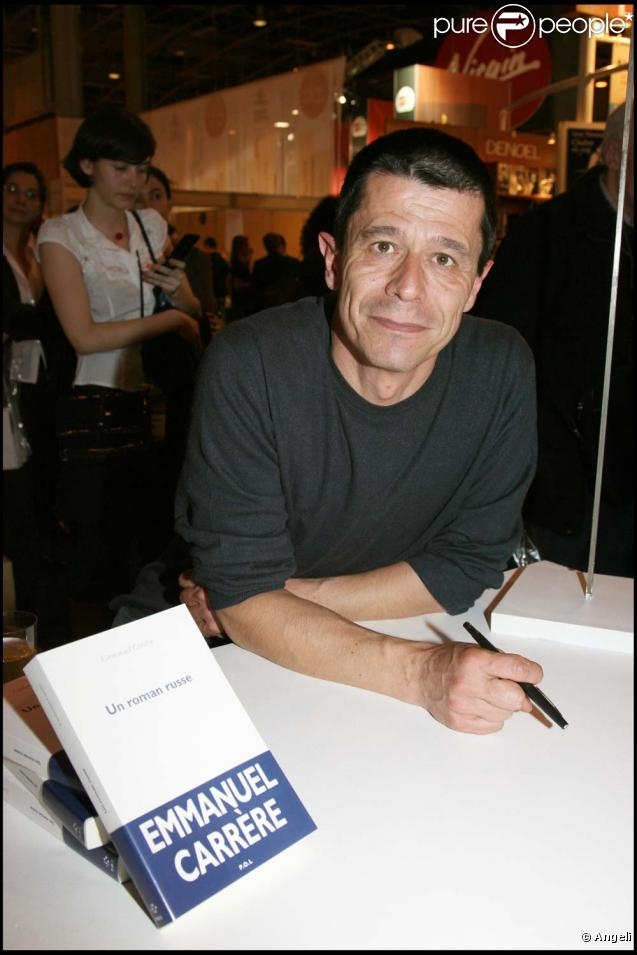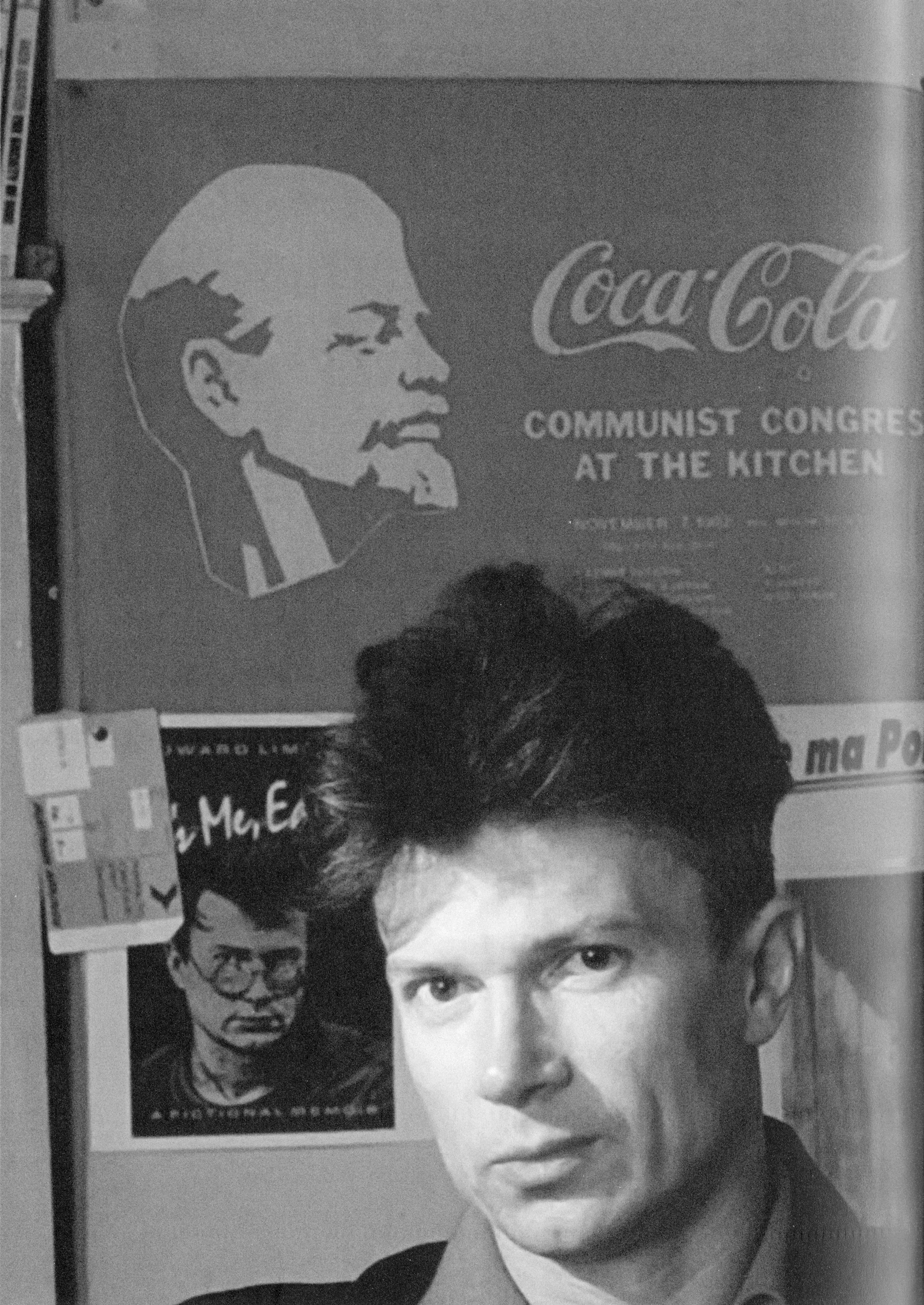Рассказы
Падение Мишеля Бертье
В войну он был начальником отдела разведки при Де Голле, в начале пятидесятых вышел в отставку, и так как всегда имел наклонности к литературе, то решил развить именно эту сторону своей натуры. И вот уже около сорока лет «шэр колонэль» существует в качестве писателя, критика и журналиста.
Я шёл к нему в буржуазный дом в седьмом аррондисмане, дабы лично преподнести ему новую книгу. Раз в год он приглашал меня и уделял мне час-полтора из запасов своего, уменьшающегося куда быстрее, чем моё, времени. И граммов сто из запасов своего лучшего виски. В самые первые годы моей жизни в Париже мы встречались чаще. Очевидно, я был ему более интересен или же он ещё не ценил своё время на вес золота, ныне же я шёл на традиционную ежегодную, или, точнее сказать, ежекнижную встречу.
Я вынул листок записной книжки (я имею привычку брать с собой лишь нужный мне лист, не таская всей книжки) и, следуя ему, набрал код. На щитке загорелась зелёная точка, и я, с трудом отведя массивную дверь всем своим весом, вошёл внутрь. Собственно, подумал я, он мог бы со мною и не встречаться. Даже я видел уже в мире достаточно персонажей, и повторение многих из них начинает меня раздражать. Но, кажется, я ему всегда нравился. Вначале заинтересовал его своей первой книгой, затем второй, и так как он, очевидно, находил во мне всё ещё не известные ему черты… В холле его дома было тепло и чисто и хорошо пахло парфюмом, может быть, это были специальные духи для холла, как существует, например, туалетная вода для автомобилей и туалетов классных отелей? Или же это запах жидкости для чистки ковровой дорожки, ею устлана лестница? Я вошёл в лифт и осмотрел себя в зеркале. Пригладил волосы рукой. Прикрыл дверь и нажал на кнопку шестого этажа. Его книги (я прочёл одну и перелистал ещё одну) оставили меня равнодушными. Я понял, что он, несмотря на войну, никогда по-настоящему не разозлился. Он был ОК, писатель, но таких писателей в наше время много. Он принадлежал к племени здравомыслящих добрых дядь, их сочинения повествуют о торжестве вялого добра над таким же вялым и неэнергичным злом. Мне было непонятно, как он смог сохраниться таким хорошим в грязи войны. Я, даже в грязи мирного времени, пересёкши три страны, сделался твёрдо и уверенно нехорошим, война, я думаю, сделала бы меня монстром. Его сочинения в точности соответствовали его внешнему облику дядюшки-профессора. Седовласый, пухленький, розовый лик с несколькими подбородками, одетый в хорошие шерстяные костюмы, всегда с отлично подобранным галстуком, склонный к добропорядочному консерватизму в одежде, Мишель Бертье предстал мне из автобиографической книги о своём детстве добропорядочным семилетним мальчиком. Другом еврейских польских мальчиков того времени. В коротких штанишках, однако уже тогда не расист, он защищал слабых, возвышал свой детский голосок, протестуя против насмешек и издевательств над плохо говорящим по-французски сыном польского беженца.
На лестничной площадке шестого я привычно свернул налево. Подняв руку к звонку, я подумал, а почему я общаюсь с ним ежегодно, в чём причина? Я надеюсь, что он опять напишет хвалебную статью о моей книге? Перевалив за 65 лет, Мишель Бертье, как это принято во Франции, автоматически сделался известным писателем. Французский писатель получает блага и известность за выслугу лет, подобно моему папе в Советской Армии (там проблема решена бесстыдно: чем больше лет прослужил офицер, тем большее жалованье он получает…) Статья известного Мишеля Бертье о моей книге мне не помешает. Однако я уже перешёл из разряда дебютантов в профессионалы, и мне не приходится ждать каждую статью с замиранием сердца, я уверен в себе, и желающие написать о моей книге всегда находятся. Зачем же я иду к нему? А, вот, я понял… У меня вспышка интереса к нему. Лишь год назад я узнал, что Мишель Бертье был офицером разведки. Это обстоятельство его биографии возвысило его в моих глазах необыкновенно. За пухлым улыбчивым мсье писателем я видел теперь всегда спектр молодого человека в униформе, и ради этого молодого офицера я простил Бертье его упитанные миддл-классовые книги.
Я позвонил. Возник и стал, усиливаясь, приближаться шум шагов. Не мужских, но женских. Жена Бертье, норвежка, сухая, высокая женщина, шла открывать дверь. Многочисленные замки защёлкали, отворяясь.
— Бонжур, мадам!
— Бонжур, мсье Лимонов, коман сова, проходите! Мишеля ещё нет, но он скоро будет.
Завещанная картинами и картинками прихожая. Особый запах музея, приятный, запах давно высохших красок, старых рам и благородного, скрипучего, но ухоженного паркета. Я позавидовал запаху. Я тоже чистое животное, но когда пещера небольшая, и в ней обитают двое, и вторая половина (красивая и своенравная) много курит, то запах есть. И запах еды присутствует, и сырости, и… Я имею то, что я имею… Если книгам его и жене-норвежке я не завидовал, то запах квартиры Бертье нравился мне больше, чем запах моей.
Церемония снимания бушлата, затем передвижения по коридору (несколько белых дверей прикрыты) в гостиную. В гостиной ещё картины, но уже основные богатства: несколько хороших сюрреалистов, пара латиноамериканских известных художников (их я ценю меньше) и даже одна большая работа человека, которого я знал в своё время в Москве, не бесталанная, но всё же находящаяся скорее в пределах этнографии, чем искусства. Ни один стул не сдвинут со времени моего прошлого визита. Сейчас она мне покажет, куда мне сесть, и предложит выпить. Покажет на диван, на ближнюю секцию его, а выпить я возьму «Шивас-Ригал». Точно, именно на ближнюю секцию дивана указала её подсохшая рука в благородных кольцах. Садитесь.
Из хулиганства я сел не на диван, но в «его» кресло. Она с удивлением взглянула на меня, но прошла к бару. Отворила створку.
— Шивас-Ригал?
Интересно, каким методом она пользуется для запоминания… Записывает? Я уверен, что семья Бертье общается ещё с, по меньшей мере, несколькими сотнями индивидуумов. Дух противоречия шепнул над ухом: попробуй взять водку!
— Водка стрэйт, если можно…
Она чуть вздрогнула спиной, но налила мне водки. Я терпеть не могу водку, и, отхлебнув полглотка, я мысленно выругал свой собственный дух противоречия, неуместно разыгравшийся сегодня.
— Как вы переживаете холода?— спросила она, усаживаясь в другое кресло и закуривая.— Насколько я помню, вы живёте в мансарде в третьем? Надеюсь, у вас не очень холодно?
«Вот такими трюками,— подумал я,— Бонапарт завоёвывал сердца солдат. «Шивас-Ригал», место жительства».
— Я удивляюсь вашей замечательной памяти, мадам. Я бываю у вас раз в год.
— О, ничего удивительного,— заулыбалась она.— Я запомнила мансарду под крышей, потому что Мишель однажды, проводив вас, сказал: Вот приехал молодой человек в Париж, живёт в мансарде под крышей. А мне, Ингрид, никогда не привелось приехать в Париж, потому что я в нём родился. Должно быть, великолепно приехать в Париж молодым, поселиться под крышей…— У Мишеля было очень грустное лицо.
— У меня холодно,— сказал я.— Четыре окна на улицу, плюс два выходят во внутренний вертикальный двор. Постоянная циркуляция воздуха. Как ни топи, всё выветривается. Однако я не жалуюсь. Для меня важнее свет, а света на моём чердаке сколько угодно.
— У вас опять что-нибудь выходит?
— Да.— Пошуршав, я извлёк из конверта книгу.— Вот, я подписал вам и мсье.
— Мишель будет очень рад.
— Выходит в январе,— пробормотал я.
Из глубины квартиры вдруг замяукала сирена.
— Опять!— Она встала.— Что-то не в порядке с alarme1. Уже который раз сегодня. Извините.— Она вышла, прикрыв очень чистую и белую дверь.
Я давно уже знал, что чистые и белые двери переживают владельцев так же, как и грязные, а сменив сотни крыш над головой, убедился в том, что «стройте свой дом у подножья Везувия»,— самая разумная заповедь, однако у них можно было сидеть в пиджаке и рубашке, без четырёх свитеров, и я бы выбрал их квартиру, если бы мне предложили выбрать. Разумеется, за ту же цену. Романтизм мансарды был мне ни к чему, в моей жизни романтизма было уже много, сплошной романтизм, я бы пожил для разнообразия в тёплой квартире.
Мяуканье прекратилось.
— Без аларма, увы, не обойтись,— сказала она, входя и усаживаясь в кресло.— В доме коллекция картин. К нам уже пытались забраться несколько лет тому назад. Но с алармом приходится всё время помнить о нём.— Она вздохнула.— У нас очень сложной системы аларм, с разными программами…
— Ко мне влезли в октябре,— сказал я.— С крыши, разбили стекло в окне. Среди бела дня. Правда, ничего ценного не нашли, взяли только золотые запонки. Однако противно. Чувствуешь себя жертвой.
Я не поведал ей пикантных деталей ограбления. Например, то, что чемодан, содержащий коллекцию наручников, цепей и искусственных членов из розовой резины, был раскрыт вором или ворами и все эти прелести валялись в центре комнаты. Вор или воры не прихватили ни единого «Эс энд Эм» предмета. Очевидно, у них были нормальные секс-вкусы.
— Кошмар!— воскликнула мадам Бертье.— Полиция не обеспечивает секьюрити граждан.
— Секьюрити — это миф,— сказал я.— Обеспечить безопасность квартир никакая полиция не в силах. Тотальная секьюрити вообще невозможна…
— Ну разумеется,— воскликнула норвежская женщина и уселась поудобнее. Лицо её сделалось оживлённым. Очевидно, вопрос секьюрити её живо интересовал.— Но мы не говорим о тотальной секьюрити, речь идёт хотя бы о том, чтобы убрать преступников с улиц и от дверей наших квартир.
— Лучше ничего не иметь, дабы ничего не терять,— изрёк я мудро. И тотчас сообразил, что говорить подобные вещи в наполненной ценностями квартире глупо.— Что касается личной безопасности, то даже президентов убивают. Простому же человеку уберечься от настоящего врага невозможно. Всякий может убрать всякого. Представьте себе, вы возвращаетесь вечером и у ворот вашего дома сталкиваетесь с человеком… Он преспокойно вынимает револьвер и без эмоций и лишних телодвижений стреляет в вас. Садится в машину и уезжает. Первый полицейский, исключая счастливый случай, появится не раньше, чем через десять минут. За это время автомобиль пересечёт треть Парижа…
— Ну, это вы насмотрелись «поляр»2, мсье Лимонов,— сказала она, слабо улыбнувшись, как бы веря и не время мне.— Не преувеличивайте.
— Я не хожу в синема и по ТиВи смотрю только новости, мадам. Я лишь хочу сказать, что от решительного врага в современном супергороде уберечься невозможно. Наше счастье ещё, что современная цивилизация разжижала волю всех, преступников тоже, и как следствие этого — враг, обыкновенно крикливый хрипун, коего хватает лишь на скандал, ругательства или вдруг, в крайнем случае, на короткую вспышку драки. Дальше дело обыкновенно не идёт. Но не дай бог ни вам, ни мне приобрести ВРАГА. В Соединённых Штатах у меня были знакомые, похвалявшиеся, что способны убрать мешающего мне типа за пять тысяч долларов.
— Сказки, распространяемые преступным миром для устрашения граждан…
— Вовсе не сказки,— обиделся я.— Моего друга Юру Брохина убили выстрелом в затылок в его апартменте в Нью-Йорке в 1982 году.— И я позволил себе уколоть её: — Вы, люди миддл-класса, изолированы от криминального мира, тесно соседствующего, кстати сказать, с миром простых людей, вашими деньгами и предрассудками. Живёте вы в гетто для обеспеченных граждан, общаетесь исключительно с себе подобными. Потому мир кажется вам чистым и светлым. Подобный дорогим магазинам или залам музеев. Но пройдитесь, скажем, по Пигалю, и вы можете заметить край какой-то другой жизни, сотни и тысячи людей, работающих в бизнесе продажи секса. Вы увидите, разумеется, лишь легальную его часть. Но даже она впечатляет. В кафе сидят азиаты, югославы и арабы в тесных пиджачках и с тяжёлыми глазами. Часами ничего не делают и беседуют… Вы когда-нибудь задумывались, о чём? Что они фабрикуют?3
— Признаюсь, я была на Пигале всего два раза в жизни, и оба в voiture4. Я успела увидеть множество бедно одетых мужчин. Все они как бы чего-то ждали и вглядывались в перспективу бульвара.
— Около года, мадам, у меня была любовная связь с женой бандита. Да-да, настоящего бандита. За время этого странного романа я успел узнать, насколько криминализирован Париж… Вы даже себе не представляете…
В коридоре зазвенел телефон. Она извинилась и вышла. Произнесла там несколько невнятных фраз и возвратилась в комнату.
— Это Мишель. Он извиняется. Он всё ещё в ателье. Он ждал, когда схлынет трафик.— Она уселась в кресло.
Я знал, что рабочее ателье Мишеля Бертье находится в десяти минутах ходьбы от квартиры. Он сам сообщил мне когда-то, что с удовольствием совершает aller-retour в ателье и обратно пешком. Так что какой трафик, почему нужно брать автомобиль? Чтоб полчаса добираться в нём до квартиры?
Она, очевидно, поняла по моему лицу, что я нуждаюсь в объяснении. К тому же я ждал обыкновенно по-английски точного её мужа уже 25 минут.
— С тех пор как Мишеля ограбили, он предпочитает пользоваться автомобилем.
— Ограбили?
Судя по её глазам, она жалела, что проговорилась. Возможно, он не велел ей никому говорить.
— Да. Чёрный парень встретил его у выхода из метро, последовал за ним, вынул нож и потребовал бумажник… Мишель, вы же знаете, он бывший военный, экс-офицер разведки Де Голля, и вдруг какой-то сопляк угрожает ему ножом, Мишель рассердился и отказался отдать бумажник… Чёрный ударил его по лицу… Разбил ему очки, нос… при падении Мишель ударился головой и бедром. Потерял сознание…
— Да,— пробормотал я.— Да…
— Физический ущерб — меньшее из зол,— сказала она грустно.— Он полежал в постели несколько дней и оправился. Морально же, он, кажется, до сих пор не отошёл от этого fait divers5… Вы понимаете… как вам сказать, морально, с ним произошла трагедия. То есть собственная беззащитность его потрясла. И для бывшего офицера, прошедшего через войну, это должно быть особенно обидно. Куда обиднее, скажем, чем для профессора литературы… Хотите ещё водки?— Я взял «Шивас-ригал». Она, может быть не сознавая, что делает, налила себе то же самое. Села.— И ещё, если бы хотя бы он не был чёрным… Вы знаете, Мишель только что вместе с несколькими коллегами выступил в печати против апартеида, они начали кампанию, и Мишель как бы душа всей этой кампании в прессе. Ясно, что нельзя переносить преступность одного индивидуума на всю расу, но ему было бы легче, если бы грабитель оказался белым…
— Много было денег в бумажнике?— спросил я, сознавая, что вопрос глупый. Но иногда следует задать глупый вопрос, дабы избавить умного человека от проблемы. Я захотел дать ей возможность прекратить исповедь.
— Восемьсот франков, кредитные карты… Но денег не жаль, и о краже карт я тотчас заявила, так что грабитель не сумеет ими воспользоваться. Но меня заботит Мишель… вы знаете, в нём как бы что-то сломалось. Он стал очень молчаливым… иной раз я застаю его сидящим, глядя в одну точку, как бы отключившимся от реальности. Лучше бы это случилось со мной… На меня бы это не произвело такого впечатления. Я пережила бы подобную историю куда легче. Я ведь крепкая женщина севера…— Она грустно улыбнулась.
Вновь зазвонил телефон, и мадам Бертье, вздохнув, вышла. Прикрыла за собой дверь. Я оглядел гостиную. Жёлтый приятный тёплый свет. Несколько ковров. Вдалеке, в квадрате коридора, видна окниженная сплошь стена библиотеки. Уютное гнездо, храм литературы и искусства. Лишь в окна, приглядевшись, можно увидеть тёмный, волнующийся, рычащий, свистящий и завывающий Париж, внешний мир… После войны полковник погрузился на сорок лет в спячку, в тёплый, интеллигентский, сходный с детским сон. Он всерьёз поверил, что мир светел, организован и безопасен… Но пришёл большой чёрный парень со стройными ногами, в джинсах, в кожаной куртке с прорванной подкладкой (почему эта деталь пришла мне в голову?), подкараулил пухлого седовласого буржуа, отличную мишень, у метро, и ударом в лицо разбудил Мишеля Бертье. Очнувшись на ночной улице, отирая кровь с лица, полковник — слабые ноги подгибались — встал, держась за ствол дерева. И побрёл домой. Старость, конец жизни, унижение быть сбитым с ног, лишённым очков, беспомощным… Я ли это, в своё время посылавший парашютистов в тыл врага, на задания, заведовавший судьбами людей, я ли это бреду, сощурив глаза, с трудом узнавая улицы?..— подумал Мишель Бертье…
Войдя, она развела руками.
— Мишель извиняется. Очень и очень просит его извинить, но он вынужден отменить свидание. Трафик так и не схлынул… И я, в свою очередь, извиняюсь перед вами, но принимая во внимание его состояние…
— Я понимаю,— сказал я.— В другой раз.
Я оставил книгу, надел бушлат, прошёл мимо белых дверей прихожей в лифт и вышел в Париж. Впустив меня в себя, Париж привычно сомкнулся вокруг. У метро, покосившись на мой, только что остриженный машинкой череп, мама-девушка подтянула маленькую «фиетт» ближе к себе. В вагоне место рядом со мной долго оставалось пустым, несмотря на то, что все другие были заняты. Позже его занял чёрный парень. Судя по реакции публики, у меня пока были проблемы, противоположные проблемам Мишеля Бертье.
Статьи о моей книге он не написал. Однажды вечером я шёл по рю Франсуа Мирон и увидел сгорбленного беловолосого старика. Держа шляпу в руке, погруженный в свои мысли, старик, выйдя из дверей Пен-клуба, спустился по ступеням, пересёк улицу и, пройдя к комиссариату полиции, стал открывать дверь, припаркованного недалеко от полицейских авто и мото, автомобиля. Мишель Бертье меня не видел.
1 Alarme (франц.) — сигнализационная система.
2 Polar (франц.) — то есть полицейские фильмы.
3 Фабрикуют — то есть замышляют.
4 Voiture (франц.) — автомобиль.
5 Fait divers (франц.) — отдел происшествий во французских газетах.
из сборника рассказов
«Великая мать любви» • 1988 год
Стена плача
Рю де Лион, ведущая от Лионского вокзала к площади Бастилии,— улица грязная, пыльная, неприятная. Она широка и могла бы носить звание повыше, авеню, например, но никто никогда ей такого звания не даст. Любому планировщику станет стыдно. Ну что за авеню при таком плачевном виде! Только одна сторона рю де Лион полностью обитаема — нечётная. По чётной стороне, от пересечения с авеню Домэсниль и до самой Бастилии тянулась ранее однообразная каменная колбаса виадука — останки вокзала Бастилии. Раздувшуюся в вокзал часть колбасы занимало заведение, именуемое «Хоспис 15-20». В нём (если верить названию) должны были содержаться беспомощные долгожители и хронические больные. Сейчас на месте «Хоспис 15-20» лениво достраиваются игрушечные кубики и сферы Парижской Новой оперы. То есть местность всё ещё плохо обитаема.
Я изучил коряво-булыжную старую улицу по несчастью. В первые годы моей жизни в Париже мне приходилось каждые три месяца посещать ту сторону города. На рю Энард помещался (и помещается) центр приёма иностранцев. Там, выстояв полдня в очереди, я получал (цвет варьировался в соответствии с тайным кодом полицейских бюрократов) повестку в префектуру для продления récépissé1. Живя в третьем, я был обязан тащиться в двенадцатый арондисмант к фликам. Таков был регламент и таким он остался. Flics2 нас не спрашивают, куда нам удобнее ходить. Чтобы добраться к ним, я мог или «взять» метро до станции Реюйи-Дидро или мог достичь их более коротким путём по рю Фобур Сент-Антуан, она с её мебельными магазинами была веселее, обжитее и чище; и позже повернуть на рю Реюйи, и только. Однако я предпочитал рю де Лион. Дело в том, что на рю де Лион был магазин оружия.
Оружейных магазинов у нас в Париже немало. Оружие, продающееся в них, одинаково недоступно личностям без паспортов, с легкомысленными бумажками вместо, сложенными вчетверо. И личностям с паспортами оружие малодоступно, верно, однако индивидуум без паспорта воспринимает оружие более страстно. Мне нужно было приблизиться к магазину на рю де Лион, набраться сил. Перед тем как идти к фликам, в унизительную очередь, меж тел национальных меньшинств, стоять среди перепуганных чёрных, вьетнамцев, арабов всех мастей и прочих (но ни единого белого человека… один раз, заблудившаяся скандинавская старушка, и только!), я шёл прямиком к двум заплёванным грязью от тяжёлых автомобилей, запылённым витринам тяжёлого стекла. Разоружённый, как солдат побеждённой армии, я стоял, руки в карманы, ветер в ухо, ибо нечему остановить ветер на широкой рю де Лион, и жадно глядел на Смит энд Вессоны, Кольты, Вальтеры, Браунинги фирмы Херсталь, израильскую митральез Узи… «Тир ан рафаль»3 — хвастливо сообщала прилепленная под митральез этикетка. Очередями, думал я, очередями… ха… Сгустившаяся в стальных машинах сила, власть, минимизированная до размеров тесно пригнанных друг к другу металлических мускулов, гипнотизировала меня. Уже отойдя было с десяток шагов, я возвращался, утешая себя гипотезой, что именно сейчас в центре приёма иностранцев пик наплыва посетителей, благоразумнее подождать чуть-чуть, и опять прилипал к стеклу. Нет, я ни разу не вошёл в магазин, ибо твёрдо знал, что ничего, кроме ножа, не смогу у них купить… С моей рэсеписсэ, без национальности, они мне не продадут и охотничьего ружья. Да мне и не нужно было охотничье ружье, и нож мне был не нужен, у меня было два ножа… Я бы приобрёл митральез Узи, если бы имел возможность. И кое-что ещё… Я не фантазировал, стоя у витрины, я всегда решительно пресекал свои фантазии в зародышевом ещё состоянии… Дальше обладания Узи мои фантазии ни разу не забрались. В детстве, сына обер-лейтенанта (такое звание, я с удовольствием обнаружил, оказалось, было у моего папы в переводе на немецкий. Я прочёл в своей биографии, в каталоге немецкого издательства «P.S.», что я сын обер-лейтенанта), меня окружало оружие. Пистолет ТТ, позже отца вооружили пистолетом Макарова, автомат и пулемёт Калашникова, я на них даже и внимания не обращал! В одиннадцать лет я гонял по улицам с бельгийским браунингом — сосед майор арендовывал мне его на день, вынимая патроны. Когда однажды, я помню, мама Рая не возвратилась домой к десяти вечера, задержалась в очереди (за мебелью!), отец сунул в карман пистолет и мы отправились в темноту Салтовского посёлка искать маму. Два мужчины. Только в детстве, в той стране на востоке, я немного попринадлежал к власти через обер-лейтенанта папу Вениамина и его пистолет системы Макарова: девятимиллиметровая пуля с великолепной убойной силой плясала в кармане папиных галифе при ходьбе, и не одна, но в хорошей и многочисленной компании. Мы шли по Материалистической улице, в темноте два-три фонаря, и под каждым топтались большие зловещие дяди. Но мы не боялись их, с нами была машинка…
Ветер врезал мне в ухо горстью пыли, и я вернулся с Салтовского посёлка на рю де Лион. Рядом стоял сутулый арабский дядька с большим, покрасневшим от холода носом, в потрёпанной шапке из цигейки. И неотрывно глядел на матовой синевой отливающую мускулистую жилистость карабина. Взгляд у него был грустный. Мы коротко переглянулись, без улыбки, но с симпатией, никто ничего не сказал, я отошёл ко второй витрине, целомудренно оставив его наедине с карабином. Так оставляют друга наедине с любимой девушкой.
Стоя потом в этой блядской очереди в центр, они ещё даже не открыли дверей, затылок к затылку… сейчас всё это бесстыдство организовано лучше, тогда же, в панике, боясь западни со стороны новых властей, социалистов, «этранжерс» приходили едва не с рассветом, нервничали, ждали, бегали лить и отлить, доверяя свои имена соседям, топали ногами под дождём и снежной крупой; я старался думать об оружии, а не о фликах. Если не об оружии, то на военные всегда темы! Так я развлекался тем, что представлял соседей по очереди в виде солдат моего режимант, роты, батальона и пытался определить на взгляд, из какого типа получится какой же солдат. Некоторые из них решительно ни к чёрту не годились, недисциплинированных, их придётся расстрелять за дезертирство после первого же боя, другие, напротив, обещали стать отличными храбрыми солдатами. Я вовсе не воображал себя мегаломанически полководцем, всего лишь офицером, может быть, обер-лейтенантом, как мой отец. Обер-лейтенанта, я был уверен, я достоин. Почему? Потому что в воинской профессии, как и в мирных, ценится спокойствие, уверенность в себе, педантичность и неистеричное поведение. «Ребята меня уважали во всех странах, в которых мне привелось жить… Ребята разных социальных классов и разных степеней развития, почему же вдруг окажусь я негодным к командованию людьми с оружием?» — думал я. Я не терялся при пожарах (два раза), в морских несчастьях (тоже два) не дёргался… Я вспомнил, как некто Эл, старый нью-йоркский адвокат, сказал мне как-то во время приёма в доме моего босса-мультимиллионера: «Ты напоминаешь мне, Эдвард, гуд олд бойз моего поколения. На тебя можно положиться, парень». И Эл похлопал меня по плечу. Босс общался с Элом по необходимости, у Эла была плохая репутация, он был адвокатом всяких тёмных людей с итальянскими фамилиями, живущих в Бруклине и Литтл-Итали, босс морщился, завидев Эла на своих парти. Но я, его слуга, имел своё мнение на этот счёт, я всегда думал, что Эл — hard and real man, в то время как босс — сорокалетний мальчик, выёбывающийся своими экзотическими автомобилями и бизнесами. Мой босс Стивен Грэй был кем-то вроде Бернара Тапи задолго до Бернара Тапи… «Man»… Между мужиками всегда бывает ясно, кто «мэн», а кто нет. Настоящий мужчина, Эл меня одобрял, я был горд тогда очень. Я горд и сейчас. На нём был старомодный твидовый пиджак, на Эле, поредевший после пятидесяти кок зачёсан назад… «Гуд олд бойз» его поколения, очевидно, были все эти люди с итальянскими фамилиями, которых он защищал…
Визита к витрине на рю де Лион хватало мне, чтобы выдержать фликовскую церемонию на рю Энард. За годы этих походов, каждые три месяца, я многое понял об оружейных магазинах. Я понял, что витрина магазина оружия — стена плача современного мужчины. Он приходит к ней, чтобы лицезреть свою насильственно отсечённую мужественность. Грустный, лоб к стеклу, он молча молится и грезит о своей былой мощи. К витрине магазина оружия приходят очень разные люди. Да, старые, вылинявшие, облезшие, прогулявшие безвозвратно свою жизнь, но попадаются и очкастые аккуратные буржуа в хороших пальто, и краснощёкие типы в кроссовках, джинсах, с яркими горячими глазами, по таким, как поэтично выражались в России, «тюрьма плачет». Однажды я застал у витрины, и это меня растрогало, несентиментального маленького горбуна с жёлто-зелёным лицом, веснушчатый кулачок прижимал к носу платок. О чём он думал, маленький, недоросший, недосформировавшийся, в куртке, потёртой на горбу?
Я начал посещать стены плача ещё в Вене. Своё первое западное оружие — крепкий золингеновский немецкий нож, похожий скорее на штык вермахта, чем на нож, я купил в магазине оружия на Бродвее, на самом Таймс Сквер. Он находился между магазином «Рекордс» и «Таймс Сквер Эмпайр» — в этом торговали куклами, изделиями из слоновой кости, тостерами, лампами, портфелями, бумажниками из искусственной кожи, масками Кинг-Конга, статуэтками Эмпайр Стэйтс Билдинг, тишотками «Ай лав Нью-Йорк» и ещё сотнями наименований подобного же говна для туристов. За магазином «Рекордс», под козырьком порнокинотеатра, продавали поп-корн, и с тех пор понятие нож или штык неестественным образом соединяется в моем подсознании с запахом поп корна. Безусловно, прежде чем войти внутрь, я больше часа простоял у витрины. У той стены плача топтался целый коллектив. Большие, но робкие чёрные неотрывно глазели, кто на пистолет-пулемёт Маузера, кто на Винчестер, короче, каждый выбрал себе объект желания. Я помню, что в центре витрины, на кусочке красного бархата, была выставлена знаменитая итальянская винтовка Каркано М.91 калибра 6,5 мм. Это из неё Ли Харвей Освальд пристрелил Кеннеди. Зачем не знаю, но я посчитал нас. Нас было шестеро у стены плача. Был ещё один, но тот… было непонятно, интересовала ли его винтовка Каркано М.91, а может, он ждал благоприятного момента, чтобы залезть в отдувающийся карман или чтобы раскинуть карты на картонном ящике и ограбить прохожих легально… Двери магазина были гостеприимно открыты, из них несло холодом, по-американски щедро расточаемым, и я вошёл в аэр-кондишионэд помещение. В застиранном до дыр джинсовом костюмчике, купленном на Канал-стрит, 1 доллар 25 центов брюки и 3 доллара куртка. Аборигену не стоило труда мгновенно понять, что я за птица.
— Что я могу для вас сделать, young man?— спросил меня сэйлсмэн Зигмунд Фрейд. Черноглазый, весёлый и подозрительный, он изъяснялся на грубейшем английском, свидетельствовавшем о куда более низком социальном происхождении, чем у его двойника, но по хитрым глазам было видно, что опыт и практика сделали из него отличного чтеца человеческих душ.
— Я хочу приобрести нож,— сказал я.— Мне он нужен.
— Я вижу, янг мэн,— согласился Фрейд.— Тебе он действительно нужен.— Представители его племени обыкновенно отличаются разговорчивостью. В штате Нью-Йорк продажа населению оружия по воле властей чрезвычайно затруднена, магазин вовсе не был забит посетителями, бедняга Фрейд, по-видимому, страдал от вынужденного мутизма… Правда, он мог разговаривать с другими сэйлсмэнами…— О, тебе ужасно нужен нож, янг мэн,— воскликнул он и сочувственно поглядел на меня. А что ещё он мог сказать? Мой костюм — такой можно было подобрать в мусоре, сандалеты были из той же коллекции, контактные линзы мои покрылись налётом пятнышек неизвестного происхождения и царапали глаза, и глаза болели. Покрасневшие, они, я предполагаю, сообщали мне больной вид. Я много пил тогда, и физиономия моя оставалась перманентно опухшей, я курил крепкую марихуану и… короче, я был не в лучшем состоянии. «Янг мэн, изрядно потрёпанный жизнью» — вот как я сам себя определял, глядя в зеркало. И было непонятно, выпутаюсь ли я из моих историй.
— Сколько денег ты можешь истратить?— спросил меня Зигмунд Фрейд.
— Двадцать долларов.
— Жаль,— сказал он.— За двадцать два есть отличный немецкий армейский нож. Они — джерманс — понимают, как наилучшим образом отправить человека на тот свет. Хочешь посмотреть?..
Я хотел. Кроме двадцати, у меня было ещё множество монет во всех карманах джинсов, но я не был уверен, наберётся ли на два доллара. В любом случае, я взял все свои «мани», следующий же чек из Вэлфэр должен был прибыть только через пять дней. Меня это обстоятельство мало заботило, я врос в Нью-Йорк корнями, я мог прожить в нём пятьсот пятьдесят пять дней без «мани». Я знал как. Единственная серьёзная неприятность безденежного существования состояла в том, что оно лишало меня одиночества. Одиночество, я выяснил на собственной шкуре, в сильно развитом капиталистическом обществе стоит денег. Странно, казалось бы, с первого взгляда люди боятся одиночества и ищут именно общения. Почему же одиночество стоит «мани»?..
— Хочешь полюбоваться?— повторил он.
— Да.
Он беззаботно оставил меня и ушёл во внутреннюю кишку. Впрочем, все витрины были заперты на замки и в большом ангаре магазина присутствовали ещё два сейлсмэна и несколько покупателей. Вернулся и положил передо мной изделие в ножнах из грубой свиной кожи. Извлёк. Тяжёлая рукоять, сильное тело с двумя канавками для стока крови. Инструмент предназначался не для разрезания, не для лёгких хулиганских порезов по физиономии, нет, у него в руках находился инструмент для глубокого пропарывания, для достижения внутренних укромных органов, спрятанных в глубине тела.
— Видишь,— сказал Зигмунд Фрейд,— это, янг мэн, именно то, что тебе нужно. Порет глубоко и верно. Ты ведь собираешься ходить на охоту на дикого зверя, я так предполагаю? Никакой зверь не устоит перед прямым ударом, нанесённым верной рукой.
Я ощупал нож и прочёл надписи, удостоверяющие, что он немецкий.— А у вас нет таких, знаете, лезвие выскакивает изнутри… С пружиной?
— No, son4,— сказал он весело.— Такие запрещены законом. Форбиден. Верботтен!— повторил он почему-то по-немецки.— И поверь мне, son, эти игрушки с пружинами, с кнопками — они для легкомысленных фрикс, для хулиганов, не для серьёзных людей. Я тебе предлагаю серьёзного, боевого друга, сан. Нож для настоящих мужчин. Бери его, он не избавит тебя от всех твоих проблем, но в его компании некоторые из них покажутся тебе куда менее значительными.
И Зигмунд посмотрел на меня психоаналитическими глазами.
— Вы немецкий еврей?— спросил я.
— Да. А что, чувствуется национальный патриотизм?
— Чувствуется. И ещё вы похожи на Зигмунда Фрейда. Вам когда-нибудь говорили? На отца психоанализа.
— Лучше бы я был похож на Президента «Чейз Манхаттан Бэнк», янг мэн,— сказал он.— Берёшь нож?
— Если дотяну до двадцати двух долларов.
Я извлёк двадцатку, вывалил монеты, и мы стали считать. Оказалось лишь 21 доллар и 54 цента.
— I am sorry,— сказал я.
— Take it,— он придвинул нож ко мне.— Он таки нужен тебе. Нью-Йорк — серьёзный город, янг мэн.
И он стал сметать мою мелочь, ведя её по поверхности ящика из непробиваемого стекла в ковшик руки. Под мутным стеклом, пронизанном проволоками, лежали совсем уж серьёзные вещи. Револьверы больших калибров. Я заметил среди них «Маузер 57». От выстрела из такого череп человеческий разлетается, как спелая тыква, с хвалёным серым веществом головного мозга. Брызгами.
Он помедлил, склонившись над ковшиком своей руки. Вынул из неё десять центов.
— Take a dime5. Позвонишь кому-нибудь. Скажешь, что ты жив.
До Бродвея далеко, но я прохожу иногда по рю де Лион. У витрины всегда стоит male!6 Мне кажется, что, поскольку улица пустынна, пугливые и скрытные мужчины могут вдосталь полюбоваться на отнятую у них мужественность. Вот, скажем, у магазина на рю Ришелье, который и больше и богаче, они останавливаются куда реже. На рю де Лион же всегда стоят, ветер или дождь, или жара плавит асфальт… И глаза у них невыносимо грустные. Как у кастрированного кота, которого хозяин лишил мужественности, дабы он не причинял ему хлопот своими романтическими страстями.
1 Récépissé (франц.) — вид на жительство.
2 Flics (франц.) — полицейские.
3 Tir en rafale (франц.) — стрельба очередями.
4 Son (англ.) — сын.
5 Take a dime (англ.) — Возьми монету.
6 Male (англ.) — самец.
из сборника рассказов
«Великая мать любви» • 1988 год
Обыкновенная драка
Он ударил меня первым. Он был прав. Я уже некоторое время обижал его, называя всяческими матерными словами по-английски. Я называл его motherfucker и хуесос и ещё другими. Но если начать эту историю с головы, а не с хвоста,— я был прав. Ибо до этого он снял с Мишки очки, говнюк.
Вообще-то, если вернуться к пункту «зеро» истории, мы с Мишкой-типографом вылезли из метро у Лехалля уже вдребезги пьяные. Мы приехали из банлье, где в русской типографии была в этот день закончена моя новая книга. Мы обмыли книгу в компании издателя и рабочих (шампанское и виски), выпили в кафе у станции белого вина и, купив в супер-маршэ бутыль кальвадоса, сели в поезд. Так как никогда не знаешь, какая книга будет последней в твоей жизни, разумно праздновать выход каждой.
Десять копий малютки, затянутые в пластик, лежали у моих ног на полу вагона RER линии В, бутылка кальвадоса переходила из рук Мишки в мои и обратно. Челночные, знаете, движения совершала. У станции Бурж-ля-Рейн Мишка предложил мне купить судно, чтобы бороздить на нём моря и океаны, одновременно не бездельничая, но совершая необходимые кому-то торговые рейсы.
— А хули ещё делать в жизни?..— сказал Мишка.— Я не собираюсь работать типографом до конца дней моих. На хуя я тогда уезжал…
— Правильно,— одобрил я.— Купим списанный миноносец. Я слышал, что можно задёшево купить списанный военный корабль.
— Не может быть!— воскликнул Мишка.
— Может. И знаешь, почему задёшево? Потому что его никуда, на хуй, не применишь, военный корабль. Помещения на нём мало, всё стиснуто до предела, дабы вместить как можно больше орудий и припасов к ним. И никакого люкса на военном корабле. Народ же, покупающий бато, ищет прежде всего люкса, чтобы рассекать южные моря в компании красивых блядей, развалясь на диванах в больших каютах с весёлыми окнами. Чтобы возить на нём грузы, эксвоенный корабль тоже не особенно пригоден, много в него не загрузишь. А нам он как раз будет впору.
— Но если невозможно возить на нем грузы…— начал Мишка.
— Мы будем курсировать вдоль берегов и обстреливать города и деревни.— Я захохотал. Часть населения вагона, доселе обращённая ко мне затылками, встревоженно сменила их на бледные осенние лица.
— Почему ты, Лимонов, хочешь обстреливать города и деревни?— Мишка глядел на меня как строгий, но втайне гордящийся взбалмошным анархистом-учеником учитель. По-моему, ему самому хотелось обстреливать населённые пункты и он лишь стеснялся своих сорока восьми лет.
— Не знаю…— начал я. Но решил раскрыться перед Мишкой. Я давно уже ни с кем не говорил на «эти» темы. Для этих тем нужен был специальный человек, а специальный человек не подворачивался. Может, Мишка как раз и есть специальный человек?— Надоело мне быть цивилизованным, притворяться смирным, кастрированным. Сколько можно. Мишка! Жизнь укорачивается, а где сильные ощущения? Где удовольствия борьбы? Жить в цивилизованной стране — как находиться в хорошем психиатрическом госпитале, надеюсь, ты уже понял… Сытно, тепло, но тысячи ограничений… И строго следят за тем, чтоб ты не возбуждался. Но возбуждаться — и есть жизнь, Мишка! Хочу возбуждаться… Во мне дух горит и не погас с возрастом, даже жарче горит, разрывает меня. Ты думаешь, я хочу почтенным соней-писателем жизнь окончить? Активно не хочу… Следовательно, давай будем иметь в виду нашу мечту. И станем к ней двигаться.
Мишка глотанул кальвадоса и отёр рот тыльной стороной ладони. Поезд мягко подскользнул и пиявкой прилип к платформе станции Аркуэль-Кашэн. Я знал об этом городе-спутнике Парижа только то, что его муниципалитет сплошь состоит из коммунистов. И что на Пасху 1768 г. маркиз де Сад устроил здесь дебош с вдовой кондитера, которая заложила его властям.
— Вот и давай,— сказал я.— Идея твоя — тебе и начинать. Составь досье. Выясни, где можно купить списанный военный корабль. Позвони в различные инстанции.
— На сколько, ты думаешь, он потянет, кораблик, а, Лимонов?
Вошли свежие пассажиры. Стройный чёрный в аккуратном сером костюме с галстуком и атташе-кейсом уселся рядом с Мишкой. Рядом со мной опустился крупный старик в маскировочной хаки-куртке.
— Хуй его знает… Никогда ещё не покупал военных кораблей.
— Мы с тобой похожи на двух подвыпивших люмпенов, рассуждающих о революции, сидя в кафе,— заметил вдруг Мишка уныло.— И капусты у нас, в любом случае, нет.
— Ни хуя подобного,— сказал я.— Не самоунижайся. Мы не демагоги. Деньги заработаем. Ты сколько раз свою судьбу менял? В скольких странах жил?
— В четвёртой живу. Посетил куда больше.
— А я в третьей. Те, кто в кафе разглагольствуют,— чаще всего в этом же картье и родились. Мы с тобой авантюристы. Ты уверен, что в этой стране умрёшь?
— Не думаю… Вряд ли. Здесь климат плохой. Сыро.— Мишка передал мне бутылку.
Мы въехали под открытое облачное небо в Форуме. Мы были, однако, ещё много ниже парижских улиц. Просто в этом месте Форум по проекту архитектора не покрыли крышей. Бушлат мой, некогда принадлежавший Гансу Дитриху Ратману, немецкому моряку, был расстегнут. Пролетарская куртка Мишки, напротив, была тщательно зафиксирована им на все имеющиеся пуговицы и молнии. Кальвадос действовал на нас по-разному. Мы направлялись в ашелем художников — в новый дом как раз напротив чуда канализационной техники — Центра Помпиду. Одно из ателье принадлежало моему приятелю Генриху. Я предполагаю, что мы хотели выпить ещё и продолжить собеседование.
— В наше время боеспособная протяжённость жизни увеличилась необыкновенно, Мишка,— сказал я.— Одиннадцатилетние дети прекрасно воюют, вооружённые Калашниковым, и в Сальвадоре, и в Ливане, и в ирано-иракской войне. Можешь поднять Калашников — уже годишься. И старики преспокойно могут оперировать Калашниковым вплоть до возраста восьмидесяти и больше лет. В этом истинное преимущество нашего времени перед всеми временами. В эпоху сабель, мечей и конных атак боеспособность располагалась где-то между всего лишь двадцатью и сорока годами!.. Ты слышишь, Мишка!
— Слышу… Ты уверен, что твой друг дома? Нужно было всё-таки позвонить ему…
— Дома. Где ему ещё быть… Ох, как я не люблю этих ёбаных музыкантов! Посмотри на уродов, Мишка.— Я презрительно сморщился. Внизу, на цементном дне ущелья, у бронзовой статуи голой девки, расположились уличные музыканты. Группа их, нечёсаная, бородатая и растекающаяся как грязная жижа, была окружена зрителями. Повсюду, с разных уровней и площадок Форума на музыкантов довольно глядели бездельники. Психология порядочного советского гражданина, чёрт знает каким непонятным образом унаследованная мною от папы — советского офицера, безжалостно заставляет меня презирать бездельников, безработных, людей грязных и плохо одетых. Несмотря на то что сам я большую часть жизни просуществовал вне общества — был вором, поэтом «maudit» и чернорабочим,— я парадоксальным образом пронёс это презрение через всю жизнь.
— Что они тебе сделали?— поинтересовался Мишка, безразлично скользнув взглядом по музыкантам.— Ну дуют себе в трубы и щиплют гитары, пусть их…
— Ты, Мишка, плюралист. Слишком терпимый. Я не выношу этот бездарный сальный народец здесь или на станции метро «Шатле». Толпы подонков. Бесполезные существа. Говнопроизводящие машины! Чернь. Даже смотреть на них неприятно — как лицезреть городскую свалку. Обрати внимание на типа с трубой: сальные волосы до плеч, красный платок завязан под коленом, фу, какой мерзкий говнюк. Рожа, от неудачно залеченных прыщей, похожа на кактус.
— Парень как парень,— Мишка обернулся ко мне. Один глаз у него был хитро прищурен.— Я не могу сказать, что обожаю толпу в Шатле или у Центра Помпиду, но в демократии каждому есть место. Ты, между прочим, фашист, Лимонов. Никакой ты не левый. Тебя по ошибке в левые определили. Тебе уже говорили, что ты фашист?
— Я не фашист. В одном журнале написали, что я — «правый анархист»… Однако ярлык не имеет никакого значения. Если нелюбовь к уродливым, бесполезным и бездарным людям называется фашизм, тогда я фашист. Вся эта публика оскорбляет чувство эстетизма во мне…
Оказалось, что выбраться с балкона, на котором мы находились, можно, лишь спустившись вниз, к скульптуре и музыкантам. Другой выход наверняка существовал, но мы его не нашли. Я впереди, пачка с книгами под рукой, Мишка сзади — мы стали спускаться, распихивая народ. С далёкого вверху неба закапало вдруг. У бронзовой девки, спиной к ней, стоял кактусоволицый с платком под коленкой и, задрав вверх, в дождь, кларнет-трубу-дудочку, вывизгивал из неё мелодию. Жирная некрасивая девка в тесных джинсах, сплетя обе руки над головою, неудачно подёргивалась и кружилась в двух шагах от солиста хуева. У грубых ног статуи сидели ещё несколько ворсисто-волосатых существ с винного цвета физиономиями: стучали и пощипывали струны.
— Обрати внимание на исключительно мерзкую девку, Мишель.— Я нагло остановился между дудочником и танцовщицей и поглядел на экспонат, сопроводив взгляд гримасой отвращения. Так глядят на крысу, вдруг перебегающую рю де Розьер среди бела дня, местные евреи.— Живот вывалился из штанов…
— Корова,— согласился Мишка.— Но не смотри на неё так вызывающе, нас побьют.
— Они?.. Нас… Не смеши меня…
— Их много, а мы одни. Не забывай, что мы ещё не обплываем мирные берега на военном корабле. И приготовься к тому, что каждый участок мирного берега окажется защищённым национальным военно-морским флотом.
— Kill the suckers, fuck the fuckers!
— Ты что такой агрессивный сделался? Кальвадос в голову бьёт? На английский перешёл…
— Надоело потому что.— Я остановился у найденного наконец выхода с цементной арены и бросил книги оземь.— Везде одно и то же, Мишка! Через три страны прошёл — и везде молятся статуе простого среднего человека. Равенство распроклятое воспевается. Но ты-то знаешь, что это хуйня, Мишка. Люди вопиюще неравны. Даже если дать им идеально равные условия воспитания и образования. Толпа тупа, глупа и бесталанна на 95 или сколько там, биологи точно знают, процентов. Мы все уже рождены неравными. Кактусоволицый и животастая — ублюдки, а я — нет. И я ненавижу бесталанных сук вокруг, потому что они меня подавляют. В трёх странах — в СССР, ЮэСэЙ и Франции — политический строй один и тот же: диктатура посредственностей. Человек высшего типа безжалостно подавляется. Наша цивилизация планомерно уничтожает своих героев. Происходит ежедневный геноцид героев!
— Чего ты, на хуй, хочешь? Жалуешься на своё время? Хотел бы родиться во времена трубадуров, рыцарей и прекрасных дам? Так это сказка. В реальности никогда таких времён не было… Ты маленький, и я маленький. В тебе сколько росту?
— Метр семьдесят четыре.
— Так вот, в те прекрасные времена самый здоровенный, умеющий широко и долго размахивать дубиной, делался господином. Нам с тобой не светило бы в любом случае занять хорошее место в обществе, так как мы маленькие.
— Но мы крепенькие,— сказал я.— С чего ты взял, Мишка, что я идеализирую эпоху трубадуров и прекрасных дам или вообще прошлое?
— Ты же недоволен настоящим.
— А я что, бумагу подписывал быть довольным? К тому же эмоциональная неудовлетворённость — лучший мотор для писателя.
— Пойдём, мотор,— сказал Мишка.— Так мы никогда в пункт В не доберёмся. Давай я возьму книги.
— Я сам умею носить свои книги.
Мы пересекли бульвар Севастополь и вышли к Центру Помпиду. Если у Лехалля к сброду и черни ещё густо примешаны «branches», то есть одетая модно и ведущая себя а-ля мод молодёжь, то у Центра Помпиду процентное соотношение между чернью и браншэ резко нарушается в пользу черни. Обилие жуликов, шпагоглотателей, уголовников в трико, ложащихся на стекла, несвежих Чарли Чаплинов, безработных, не знающих, как убить время, подзаборных девочек и всяческого совсем уж неопределённого грязноватенького больного люда — непременного мусора больших городов — удручающе именно в этой точке Парижа. Недаром несколько полицейских автобусов дежурит денно и нощно вокруг чуда канализационной техники двадцатого века.
— Видишь, в каком доме обитает человек. В стеклянной башне. Лет пятнадцать добивался ателье, все «пистоны» использовал — и вот получил. Последний этаж — его. Восемьдесят пять квадратных метров…
— Шумно, наверное?— спросил Мишка.
— Звукоизоляция. Рамы двойные. Только ровный такой гул с площади, как океанский прибой.
Избегая стволов деревьев и скамей, на которых червями копошились клошары и безработные, мы направились к башне — обиталищу жрецов искусства. Большая часть их, по словам Генриха, никакого отношения к искусству не имела. Но зато имела «пистоны» в министерстве культуры и в Отель де Билль. Существо в мужской кожанке, в стоптанных ботах, заляпанных засохшей грязью, с бабьим лицом, растопырив руки, перегородило нам дорогу. «Один маленький франк, капитан?»
— А в ГУЛАГ не хочешь, пизда?— швырнул я существу по-русски и, не останавливаясь, проследовал к цели, к двери общежития художников. Проходя мимо скамьи, наполовину занятой телом какого-то чернявого бездельника, я небрежно швырнул мои книги рядом с ним. Разбрасывание предметов обычно является у меня неоспоримым признаком начинающегося опьянения. Существо с бабьим лицом прокричало нам вслед нечто вроде «Сало-ооо!».
— Смотри-ка,— удивился Мишка.— Русского не понимает, но интонацию твою поняла.
— Собаки, и те соображают, когда к ним сурово обращаешься.— Я нашёл фамилию приятеля на щитке интеркома и нажал пластиковую выпуклость. Из надрезов в дюралевом щитке не донеслось ни единого звука.
— Ну вот, его нет дома,— уныло сказал Мишка.— Зря тащились.
— Погоди. Может, он в туалете. Или в ванной. Там два этажа, пока спустится…
— Ну, жми ещё…— пробурчал Мишка.
Я нажал. В этот именно момент «он», или «тип», или «это говно», как я и Мишка впоследствии стали его называть, вспоминая об эпизоде, появился из-за Мишки и ловко сдёрнул с него очки.
Вообще-то Мишка очков не носит. Он надел их на минуточку, дабы разглядеть фамилии счастливцев, проживающих в стеклянном дворце… Мишка — бывалый человек. Мишка пережил в этой жизни многое. Посему он спокойно сказал, обращаясь к больному:
— Эй, отдай мои люнетт1 обратно.— И даже не протянул за своими люнетт руки.
Жлоб, на голову выше меня и Мишки — это он полулежал на скамье, на которую я бросил книги,— оскалился и посадил Мишкины люнетт себе на нос. Затем он воздел ручищи к небу и несколько раз обернулся вокруг себя под неслышимую нам мелодию.
— Наверное, обколотый героином,— предположил Мишка.— Посмотри, какие глаза чокнутые…— И, медленно взяв за локоть больного, объяснил ему почти ласково, как ребёнку: — Отдай мне, пожалуйста, мои очки? Они тебе не нужны, а я без них плохо вижу…
— Мишка! Ты просишь у этого гада отдать тебе очки? Да он над тобой издевается! Ты, motherfucker…— начал я. (Как всегда в подобных случаях, английские ругательства только и пришли мне в голову.) И я попытался, отодвинув Мишку, приблизиться к типу вплотную. Но Мишка не позволил себя отодвинуть.
— Спокойно,— сказал Мишка.— С такими нужно спокойно. Он отдаст мне очки. Положи мои люнетт туда, откуда ты их взял…— Мишка улыбнулся мазэр-факеру и похлопал себя по переносице.
Мазэр-факер улыбнулся Мишке в ответ, да так, что вся его сухая латинская физиономия растянулась грязным абажуром на каркасе лица… И он посадил мишкины очки Мишке на нос…
— Видишь!— Мишка поглядел на меня гордо, как дрессировщик, которому дикий зверь, против ожидания, не снял скальп.— С такими следует держать себя спокойно. Правду я говорю, мудило гороховый?— обратился Мишка к зверю.
Зверь вдруг положил большую красную лапищу Мишке на голову и ласково задрал Мишкину растительность. Заодно лапища пригладила лоб, брови и глаза и, сдвинувшись на свеженадетые очки, свезла их с носа.
— Эй-эй, потише, пожалуйста! Не будь медведем, что за медвежьи ласки!
Мишка поймал очки и спрятал их в карман куртки.
— Нужно валить отсюда,— сказал он мне и поморгал растерянно глазами.— Бери книги и пошли. Где книги?
— Что, испугался мазэр-факера? Погоди, попробуем последний раз.— Я прижал выпуклость. По тому, каким непомерно огромным, морщинисто-дактилоскопическим и жёлтым я увидел свой указательный палец, я догадался вдруг, что я пьян и пьянею ещё. И с большой скоростью. Прервав мои наблюдения, из-за кадра, однако, выдвинулась сизо-красная лапища и, накрыв мой палец, насильственно нажала на него и на кнопку. Довольно больно нажала.
— Эй ты, хуесос, stupid asshole2, что ты делаешь?— воскликнул я. И обернулся. Бессмысленное, глупое и жестокое лицо смеялось крупным планом. Нехорошие, грязными развалинами, колизеевским полукругом щерились верхние зубы. За лицом, как на голландском пейзаже, синел Центр Помпиду, сухие стволы пересекали перспективу, две розовые щекастые девки дули друг другу в рот с вывески магазина «Сохо», торгующего модными глупостями, и в ту сторону уходил спиной от меня миниатюрный Мишка. Должно быть, Мишка пошёл взять со скамьи книги, предположил я.
— Ты, глупый мазэр-факер,— продолжил я речь.— Мы тебя не трогаем, не трогай нас. ОК? Ты, стюпид мазэр-факер. ОК?
Все было вовсе не ОК, потому что он вдруг ударил меня коротко и резко в нос.
— Ты…— начал я. И вынужден был приложить руку к лицу, так как из носа на верхнюю губу выкатилось нечто тёплое и, свалившись с губы, упало мне на галстук. Ибо под бушлатом Ганса Дитриха Ратмана на мне были приличные одежды — полиэстровый костюм 60-х годов и синий галстук. Кровь!— понял я. И разозлился. А разозлившись, увидел, что очки мои, вследствие не замеченного мною маневра, оказались у гада в руке. У него была явная слабость к «люнетт».
— I am sorry!— сказал я и шмыгнул носом.— Я очень sorry. Я сожалею, что был с вами груб. Вы сильнее меня — я признаю. Давайте помиримся…— Рукавом бушлата я смазал кровь с верхней губы.
Он был доволен. Он победил меня и унизил. Он улыбался и поигрывал моими очками, зажатыми в руке.
— Стюпид Амэрикен,— произнёс он коряво.— Ты,— он ткнул в мою шею твёрдым пальцем,— стюпид!
— Да,— согласился я.— Я — stupid. I am sorry…
Видя, что я капитулировал, он расслабился. Пританцовывая передо мной, он стал работать на публику. Бездельники, конечно же, тотчас же собрались в некотором отдалении поглядеть, что происходит. Почему человек с кровавым носом и второй, в руке зажато — что?— топчутся друг перед другом.
Он поверил в моё подчинение и, разевая рот в хохоте, стал позировать толпе. От одного из деревьев в него прицелился телевиком фотограф. Он заметил телевик и бодро поглядел в объектив.
Продолжая бормотать: «Я извиняюсь, я виноват… Будем друзьями…», я соединил обе ладони замковым захватом, как учил меня больше тридцати лет тому назад Коля-цыган, и, перенеся в этот молот всю мою силу, какая имелась в пьяном, но тренированном теле, я ударил его сбоку и снизу в затылок, под ухо. Так сбесившаяся ветряная мельница могла бы сбить с ног зеваку, если бы идиот-турист вдруг оказался на уровне её могучего крыла.
Он рухнул наземь. И я без промедления ударил его сапогом в голову.
— Я убью тебя на хуй, мазэр-факер!— закричал я.— Ты решил, что я американец… Ты думал… Ты думал…
Я бил его сапогами в голову, чтобы он не встал. Если он встанет — меня ожидает минимум госпиталь. Он выше, тяжелее и сильнее меня. И судя по тому единственному удару, который он мне нанёс, он умеет драться.
Мишка, как футболист в телевизионном замедленном повторении гола, бежал на меня, вынося далеко вперёд ноги,— гиперреалистические подошвы тяжёлых типографских рабочих башмаков Мишки плыли на меня всей своей дратвой и всеми своими царапинами. Клошарка в мужской кожанке, широко разведя сизые алкогольные губы, кричала. Только на исключительно короткий момент я услышал: «Он убьёт его! Убьёт его!» — и внешние звуки были отключены. Я мог слышать отныне лишь звуки, издаваемые мною. И оказалось, что я ору по-русски, смешивая русские ругательства с английскими.
— …Ты думал я американец, ха! О нет, дебил, я — русский… И я убью тебя тут на хуй, на площади у Центра Помпиду, забью насмерть, и мне всё равно, что со мной произойдёт потом, sucker! Я тебя не трогал, ты первый начал. Первый! Первый! Первый! Я серьёзный человек, я не американец, я русский. Мне жизнь не дорога в конечном счёте, я из слаборазвитой ещё страны, где пока честь ценится дороже жизни… Я — русский, мазэр-факер, ты чувствуешь это на рёбрах или нет! Русский… Русский… Меня трогать не надо. Противопоказано. Я полудраться не умею. Я убью тебя на хуй…
Я избивал его как символ. В нём, лежащем у стены HLM для художников, было воплощено для меня всё возможное зло. Целый набор зла. Он вломился грубо и насильственно в мой мир, разбил невидимую оболочку, отделяющую и предохраняющую меня от других. «Ну вот и получай теперь, гад! Ты надеялся на лимитированное столкновение, на лимитированную войну, да… Но ты не знаешь русского характера, мудак… Теперь, когда ты тронул меня, гад,— война будет до последней ядерной боеголовки, до последнего патрона к Калашникову, до последнего глотка кислорода в атмосфере! Ты надеялся удачным толчком в нос подчинить меня? Эх ты, жалкий мудак… Да я уже десяти лет отроду выучил азиатский приём, может быть подлый, но ведущий к победе: если ты слабее — притвориться побеждённым, даже расплакаться, чтобы в удобный момент обрушиться на расслабившихся гадов всей своей волчьей мощью!»
Мишка, набросившись на меня сзади, схватил меня за руки. Но схватить меня за ноги он не мог. И я продолжал работать ногами, обутыми в дешёвые, чрезвычайно остроносые сапоги, купленные мною — я почему-то вспомнил об этом — в двух шагах, на рю Сен-Мартен, в бутике «Кингс-шуз». Покончив с национальными обидами, я уже пинал его королевско-шузовскими сапогами за себя персонально. Зато, что у меня нет паспорта, за то, что моя девушка не звонит мне уже неделю. За то, что он, здоровый битюг, ни хуя не делает, отираясь у Центра Помпиду, а я вкалываю всю мою жизнь, и у меня ничего нет! Классовая ненависть работника к подонку, налив мои сапоги свинцом, хлестала его по рёбрам. «Я тебе, блядь, не ресторан «Du Cœur»3, испорченный западный мазэр-факер! Я тебе покажу ресторан «Сердца» с бесплатным мясом!» Брюхастые, безработные — владельцы авто и мотоциклов… Мускулистые лодыри с широкими плечами, краснолицые здоровые и наглые рабы — они же профитёры этой цивилизации, я бил их всех сапогами в одно тело, лежавшее у стены…
— Он убьёт его! …Убьёт его!— Внезапно микрофоны зрителей заработали. Я ослаб и позволил Мишке утащить себя с площади. Свернув за угол, мы побежали…
*
Проснувшись, я позвонил Мишке. Тот спал ещё, но сориентировался быстро.
— А, это ты, убивец…
— Где книги?
— Они остались у тебя.— Мишка зевнул.
— У меня их нет.
— Тогда они остались в кафе…— Мишка зевнул два раза подряд.
— В каком кафе, Мишка?
— Я не знаю названия, но помню визуально местонахождение… Подожди, дай подумать…— Он там зашевелился, должно быть переворачиваясь.
— Давай-давай, рожай.
— Где-то на одной из улочек, впадающих в пляс Репюблик.— В Репюблик впадает с десяток улиц.
— Из этого кафе видна спина статуи на площади… Ну ты и агрессивный! Никогда больше не буду с тобой пить. Даже за денежное вознаграждение. Только чудом у Помпиду не оказалось полиции.
Я не стал слушать его ворчание, я положил трубку, побрился, надел тёмные очки поверх разбитого носа, поднял воротник плаща и спустился в улицы.
В Париже шёл дождь. Дождь не мешал, однако, манёврам целой толпы прохожих на пляс Репюблик… Оказалось, что только из одной улицы видна спина статуи (фас и бока были видны из многих). Два кафе располагались на ней. В первом бармен ответил мне, не колеблясь: «Нет, мсье, вы у нас не были вчера вечером». Во втором кафе, также не колеблясь, бармен сказал: «Да, вы у нас были и не заплатили, мсье».
— Я извиняюсь, я заплачу,— сказал я.— Скажите, не оставил ли я у вас книги?
— Оставил,— равнодушно сказал бармен и вытер мокрые руки о полотенце, болтающееся у пояса фартука.— Эй, Гастон, где книги?
— В шкафу,— ответил хмурый детина, названный Гастоном.
Бармен, порывшись в шкафу, извлёк две замызганные, заляпанные грязью и вином книжки.
— Это всё?! Со мной был целый пакет книг!
— Всё, мсье. Всё, что вы оставили.
Я вздохнул. У меня не было оснований сомневаться в словах бармена. На кой ему нужны книги, да ещё на русском языке.
— Я был очень пьян?— смущённо спросил я, выкладывая монеты на прилавок.
— Ты ещё спрашиваешь!— Бармен покачал головой. Безо всякого осуждения, впрочем.
— Победы, коварны оне, / Над прошлым любимцем шаля,— справедливо написал когда-то великий поэт Велимир Хлебников. Через одиннадцать месяцев в подобной же уличной драке мне проломили лоб. Некрасивая вогнутость повествует теперь всему миру о моей неразумности.
1 Lunettes (франц.) — очки.
2 Stupid asshole (англ.) — глупая жопа.
3 «Les Restaurants du Cœur» (франц.) — Рестораны «Сердца» — сеть ресторанов для неимущих. Затея клоуна Колюша [Coluche], постепенно выродившаяся в рекламную операцию.
из сборника рассказов
«Великая мать любви» • 1988 год
Дождь
В Люксембургском саду было сыро, хмуро и необычно пусто.
Дмитрия в саду не оказалось. Впрочем, он, может быть, и не подошёл бы к Дмитрию, если бы увидел его. Так бывало уже не раз. Скорее ему нравилось только увидеть мускулистую коренастую фигуру приятеля, мечущегося с ракеткой по корту или же бросающего фрисби на пыльном баскетбольном поле. С помощью этого манёвра Париж немедленно одомашнивался, превращался в родной провинциальный город, где, зайдя в соседний двор, можно крикнуть приятелю: «Привет!»
Он обошёл сад по периметру, по самым безлюдным его аллеям и ненадолго присел у новых кортов, где стал наблюдать плохую игру двух некрасивых девушек. Сам он играть в теннис не умел и никогда не пытался научиться. Впрочем, все игры казались ему бесполезной тратой времени. От игры в карты до игры в бейсбол. Он играл в жизнь.
В поле его зрения появился буйно заросший грязными волосами тип в тёмных мятых тряпках и, вынув из-за спины кусок картона, показал ему текст. «Я голоден… из тюрьмы…» Поморщившись, он пробормотал «нет» и подтвердил «нет» головой. Не обидевшись, тип убрал картон и ушёл из кадра. Нет работы — воруй, грабь, но не проси,— подумал он. Сам он, даже во времена тягчайшей бедности не опускался до попрошайничества… Даже… Ему пришлось стыдливо остановить мысль, так как он вспомнил себя подростком в Сочи и Туапсе, приближающимся к парочкам, обнимавшимся на скамейках. «Простите, пожалуйста, капитан, у вас не найдётся ли немного мелочи, я уже несколько дней ничего не ел…» Больше всех давали моряки и офицеры, отсюда эта нехитрая лесть — «капитан», даже если «клиент» был простой матрос или курсант… Он не любил и высмеивал христианство, эту удобную для среднего бесталанного человека поп-религию, но приходилось признать, что «кто из вас без греха — пусть бросит в неё камень», сказано мудро. Едва только ты забудешься и примешь суперменовскую снисходительную позу, глядя этак сверху вниз с мгновенно образовавшегося пьедестала-возвышения, ан тотчас всплывает почти забытый эпизод собственной жизни, и ты со вздохом вынужден спуститься и втиснуться в толпу. В тёплую и грязную толпу себе подобных. В толпе пахнет чесноком, отрыгивают прокисшим дешёвым вином, подванивают нестиранными носками, испускают газы, щиплют девушек за задницы, короче, родное и грешное, оря младенцами и зияя стариками, обступает тебя человечество.
Некрасивых девушек изгнала следующая пара: чёрный тоненький юноша и крепкая американка-блондинка. Из опыта многолетних посещений сада он знал, что юношу зовут Игнасио и он сын африканского ambasador. Какой страны, он, впрочем, не помнил.
Американочка — розовощёкая и пышная, наверняка не пересекла ещё границу двадцати лет, однако вполне уже могла кормить с помощью крупных сосцов нескольких младенцев. Корова с телячьим выражением лица, подумал он. Телячий гладкий раздвоенный носик, телячьи серо-голубые глаза. Он успел увидеть лицо американочки крупным планом, пока она снимала с плеч лёгкую куртку. В своё время в Калифорнии и Нью-Йорке он переспал с полусотней таких вот девушек с большими сосцами, задастыми и нежнокожими. Обычно дедушка или бабушка трогательных коров оказывались выходцами из германских или скандинавских стран. Он вспомнил, что на полублатном русском слэнге-арго таких девушек именно и называют «телками». Его связи с подобными подружками, однако, никогда не длились долго. Сам необычный тип, он выискивал необычных, трудных женщин…
«А с чего ты взял, что ты необычный?» — сказал он себе и даже вздохнул тоскливо, потому что это был его обычнейший, регулярно повторяющийся церемониальный вопрос к самому себе. И он влёк за собой другой, основной вопрос: имеет ли он право на циническое жестокое отношение к себе подобным, к коллективу людей? Merde, shit,— отмахнулся он от себя на двух языках. Что за блядское абстрактное интеллигенствование! Впрочем, всё объясняется просто, и ты знаешь объяснение. Прошло полтора месяца после того, как ты закончил очередную книгу, comrade писатель, и вот, предсказуемое, явилось сомнение в себе. Верный знак того; что следует начинать новую книгу. Он десяток раз напился за эти полтора месяца, в чём тоже ничего удивительного нет — он всегда нуждался в интенсивной расслабленности после интенсивной работы над книгой. Напился, совершил с полдюжины случайных сексуальных контактов — пора за работу. Только вот на чём остановиться, о чём писать книгу? Идей было множество. Существовало несколько заготовок — начал новых романов, несколько крутых фраз, которые можно было продолжить такими же крутыми, сильными мускулистыми фразами… Однако по опыту он знал, что выбрать будет трудно. Выбирать становится всё труднее. Писать всё легче.
Крупные, упали на скамью несколько капель. И на оголённые до локтя бронзовые руки его. Как они сказали, девочки в агентстве, когда он заходил подписывать договор: «Quelle couleur!»1 А он ответил им: «Soleil de Paris»2… Сильные, ещё несколько капель шлёпнули по чёрным, видавшим виды брюкам. И впитались в ткань, расплываясь. Брюки надо бы постирать. Пора. Он сам стирал свои вещи, даже пиджаки. Отдавать их в чистку в Париже дорого. В Нью-Йорке он отдавал их в чистку? Он не помнит. Когда работал у мультимиллионера, отдавал. Вместе с многочисленными костюмами мультимиллионера и своих несколько. Тогда он носил исключительно белое. Сейчас — исключительно чёрное. Капли участились, и, он поднялся. Игнасио и блондинка продолжали играть. И продолжали сражаться на других, соседних кортах. Деньги заплачены — дождь не дождь. Он направился к выходу на rue de Vaugirard. Поднял воротник старого пиджака. Вот что значит вещь от хорошего дизайнера. Пиджак служит ему шестой год. Много раз стиранный и выцветший от солнца, он, однако, сохранил форму и элегантность. В таком пиджаке, даже и надетом поверх чёрной t-shirt с белыми пулями, полиция много раз подумает, прежде чем остановить владельца и потребовать документы.
Он вошёл под крышу обширной, с асфальтовым полом беседки. Нужно было переждать дождь, сделавшийся слишком густым и назойливым. Хаотически брошенные, может быть, шахматистами, обыкновенно населяющими беседку, безмолвствовали на территории многочисленные люксембургские бледно-зелёные стулья. Взявшись за один, он отчленил его от железной толпы собратьев и уселся лицом к тропинке, ведущей к выходу из сада. И к туалетам.
Энергичный, черноволосый вкатил коляску с крупным младенцем отец. Второй ребёнок, девочка лет пяти, вбежала, держась за отцовский задний карман чёрных брюк. Буржуа. Неплохой ебарь. Старомоден, определил отца писатель. До сих пор делает любовь с женой, как с любовницей. Профессия? В каком-то энергичном он бизнесе, не с бумагами. Если бы с бумагами, он был бы полусонный. Скорее всего, владелец магазина. Посадив девочку на стул, отец, вынув из кармана платок, стал вытирать ей волосы. Девочка хохочет, следовательно, семья счастливая… Глупости, и несчастный ребёнок может хохотать. Почему нет?
Худая, симпатичная — светлые брюки и чёрный cotton пиджак (без подкладки?) поверх t-shirt — писатель почувствовал классовую близость к ней — вошла с тучным молодым человеком в очках, слишком свободных брюках и рубашке в крупных цветах. Вошла первая, и, ведомый за нею, ступил мешковатый в очках. Кто? Не сын. Не брат. Любовник? Вряд ли. Скорее всего, приятель, явившийся в Париж, она ему показывала сад, и вот их загнал сюда дождь. Возможен и другой вариант: она приехала в Париж, и он (в конце концов, рубашка в цветах близка по духу к Les Halles) прогуливает её в Люксембургском саду. Они уселись справа от писателя, лицом к лицу, на довольно приличном друг от друга расстоянии. Заговорили по-французски и, кажется, без акцента. Но её лицо может быть лицом итальянки.
Он выбрал лужу, дабы, глядя на частоту падения капель именно в эту лужу, следить за изменением интенсивности дождя. Лужа обильно пузырилась, но со стороны кортов, где не было крупных деревьев, только молодняк, небо оставалось светло-серым и, кажется, даже светлело. Большой голубь притопал пешком к его ногам и приступил к чесанию перьев. Как собака, у которой блохи. Существуют ли блохи у голубей? А может быть, это особые насекомые, голубиные блохи? При всём том голубь выглядел вполне здоровым, крупным голубем. Стать его соответствовала стати мужчины в метр восемьдесят ростом…
Широко загребая руками, тип в устарелой формы бежевых широких внизу брюках и свитере цвета люксембургских стульев вплыл рывками в беседку. Зад типа был куда обширнее обтекаемых свитером его плеч. На черепе, поверх редкого слоя волос, поблёскивал обруч наушников «walkman», а корпус «walkman» висел, зацепленный за карман брюк у ляжки. Тип заходил по беседке. Голова и туловище выдвигались первыми, затем следовали гребки рук, и только после этого сдвигался зад и ноги. Разумеется, подобный способ передвижения, как и форма тела, свидетельствует об анормальности типа. Walkman также ненатурально выглядел в обществе мужика среднего возраста. В фильмах такими представляют нам больных убийц и сексуальных маньяков. Что же, народ, созидающий фильмы,— неглупый народ. Различного таланта, но неглупый и наблюдательный. Как и фотографы. Связь между телом человека и его психикой, несомненно, существует. Хотя человечество осудило Ломброзо за его якобы расистские изыскания, последнее слово ещё не сказано, «щё не вечiр», как гласит украинская пословица. Поглядим, что будет дальше. Человечество не единожды уже осуждало свои собственные открытия как заблуждения, чтобы возвратиться к ним позднее. Разве не были осуждены первые храбрецы, утверждавшие, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот? Были…
Порыв сырого ветра ввинтился под лёгкий пиджак со спины и обдал спину холодом. Он застегнул пиджак на единственную пуговицу и отвернул рукава.
Пара стариков. Он — высокий, сутуло-горбатый, в бесформенной куртке — впереди, сумка в руке. Она — седая, стрижка под комсомолку двадцатых годов, в брюках, sneakers и куртке с капюшоном, руки уронены неживо, кукольно по обе стороны туловища,— вошла за ним, повторяя все его движения. Он отряхнулся и потопал ногами, сбивая с себя капли, она проделала то же. Стала вплотную к нему, подняла к нему лицо. Издала каркающий, вопросительный звук. Писатель вслушался. Ещё звук. Это не был французский язык, не был английский или немецкий. И не китайский. Она говорила на своём собственном языке. Требовательно, задрав голову. Так воронёнок, подобранный писателем в церковном дворе в городе Иванове и привезённый в Москву, каркал, задирая голову, и раскрывал клюв, требуя колбасы. «Кар?»
— Эдвард?
Он обернулся. Держась за ручки коляски, в ней спал маленький, может быть двухлетний, мальчик, за его стулом стояла незнакомая ему, очень худая женщина в чёрном комбинезоне и сандалетах на босу ногу. Оголённые кости локтей и предплечий торчали, обтянутые синей неровной колеёй, из рукавов. Неприятно худа, словно после тяжёлой болезни. Мальчик постарше, стоя в нескольких шагах, хмуро наблюдал непонятную ему сцену. Писатель не вспомнил женщину, но поднялся. Ему приходилось не единожды встречаться с людьми из прошлого, и он знал, что следует узнать незнакомку, следует сделать вид, что ты её узнал.
— Хэлло!— сказал он.— How are you?
— Ты не узнал меня? Нет?— воскликнула женщина.— Я — Мэрэлин. Мэрэлин Штейн. Помнишь Нью-Йорк? Аппер Вест Сайд?
— О, Мэрэлин!— воскликнул он всё так же лживо.— Ты надолго в Париж?
— Я живу здесь восемь лет, Эдвард. Я вышла замуж за Frenchman. Это мои мальчики.
Тот, что в коляске, спал, забыв закрыть один глаз. Слюнявый, с засохшими у губ белыми пятнами. Второй, переступив с ноги на ногу, отвернулся и замахнул ногу, целясь в голубя. Чесоточный одиночка не улетел, но отбежал чуть-чуть к деревянной колонне и стал наблюдать оттуда человеческую сцену.
Он не узнал её. И фамилия Штейн ему ничего не говорила. В нью-йоркской телефонной книге можно найти сотни Штейнов.
— Я знала, что ты живёшь в Париже. Ванда сказала мне. И я видела твои фото в журналах. Без них, я бы, пожалуй, тебя не узнала. Ты изменил причёску. И вообще… изменился.
Из облака пыли, окружающего прошлое, начинал появляться силуэт. Причёску он сменил в 1978 году. Следовательно, Мэрэлин Штейн относилась к знакомым его раннего нью-йоркского периода, сам он называл период «героическим»: 1975, 1976, 1977 годы.
— Садись, Мэрэлин,— сказал он, придвинув к своему стальному стулу ещё стул. В момент, когда она, переступив, сделала шаг по направлению к стулу и села, смешно разведя руками, он вспомнил её. Мэрэлин-Балерина!
— Кто твой счастливый супруг, Мэрэлин?
— Бизнесмен. Крупный бизнесмэн. «Индустриалист», как они здесь называют.
— Ни за что бы не сказал десять лет назад, что ты выйдешь замуж за бизнесмена. Скорее можно было предсказать, что ты свяжешь судьбу с секс-маньяком!
Она поёрзала на стуле. Тёмные глаза метнули несколько прежних, образца 1976 года, взглядов.
— Я была очень приличной девочкой. Это вы, русские, совратили меня…
Тогда ему казалось, что это она, Мэрэлин, совращала их, русских.
По крайней мере его. Оказалось, что возможна другая интерпретация прошлого. Он не стал оспаривать её интерпретацию. По выбранной им луже энергично запрыгали пузыри. Дождь усиливался. В беседку вошли два clochards. Оба в sneakers и джинсах. Он отметил, что на clochards новенькие отличные джинсы. Старший — джинсы были ему длинны, вельветовый пиджак и кепочка делали его удивительно спортивным и современным — шёл за младшим и бурчал. Как супруги, подумал писатель… В дальнем углу беседки уселась компания молодёжи, одетая в яркие, детсадовских цветов, тряпочки, и весело хохотала. Старуха, грудью упёршись в старика, грозно вопрошала на одной ей понятном языке «Где?» или, может быть, «Дай!».
— Я давно собиралась тебе позвонить,— сказала Мэрэлин,— но твой телефон не значится в телефонной книге.
— Я на liste rouge.— Он подумал, что, если бы она задалась целью найти его, могла бы позвонить в одно из двух его издательств или же его лит-агентше.
Массовый убийца с walkman резко остановился рядом с ними, так что его карман оказался на уровне лица писателя. Убийца уставился в кроны каштанов, покачиваясь в такт неслышимой писателю музыки. Каждый из нас слышит свою музыку. Какие же мелодии, интересно, слышит Мэрэлин? Странным образом он не помнил её тела. Не помнил ни единого ощущения от процесса делания любви с ней. А ведь Мэрэлин-Балерина не была всего лишь эпизодической тенью в его жизни.
…Индиец в тюрбане, дежуривший в ту ночь, остановил его, направлявшегося к лифту. «Мистер Савенко, вас ожидала мисс, но ушла, оставив вам вот это». Индиец помахал конвертом. «Хорошая мисс. Очень хорошая мисс!» Тюрбан скучал на ночном дежурстве, было три часа. Странный мистер русский Савенко, живущий в отеле «Опера», каковой тюрбан презирал, несмотря на то что работал в нем ночным porter, удостоился визита хорошо одетой мисс. Тюрбан был удивлён. Откуда у русского такие знакомства.
Он выдернул конверт из руки тюрбана. В лифте он оторвал край конверта и, скомкав его в шарик, сунул в карман кожаного пальто. Он был очень хорошо воспитан. Он вспомнил, как его, мальчишку тринадцати лет, поймали на кладбище «копачи» (могилокопатели) и привели, выламывая руки, в кладбищенскую сторожку. Оставшиеся на свободе участники экспедиции (вполне невинной, они хотели выкопать несколько кустов крыжовника, чтоб пересадить их на участок земли у нового дома Витьки) Витька Проуторов и Сашка Тищенко видели, спрятавшись в кустах, как он вытер ноги перед тем, как войти в сторожку. Такие вещи делаются подсознательно, родители таки вопреки его желанию незаметным образом воспитали его.
В конверте оказалась открытка. За десять лет он забыл всё её содержание, но помнит первые два слова. «Wonderful spirit!» — начиналось послание. Мэрэлин-Балерина высказывала ему своё восхищение его поведением. Предшествующей ночью на party в доме Балерины он бросился с ножом на экс-жену. Кто-то из мужчин успел схватить его за руку, нож лишь располосовал руку непрошенному спасителю. Была драка, его свалили. Тогда в нём ещё бушевали страсти. И какие! Сейчас он бы пожал плечами и ушёл. Или светски беседовал бы с бывшей супругой ни о чём. Американцы, вытаращив глаза, глядели на русские страсти. Несмотря на восхищение, кто-то вызвал полицию. «Wonderful spirit», однако, успел покинуть поле боя до прихода полиции. Сопровождаемый некрасивой девушкой.
Он позвонил ей и поблагодарил за открытку. Тогда всякий знак внимания, оказанный ему женщиной, расценивался им как приглашение к постели. Он предложил ей встретиться, хотя она была ему совершенно не нужна физически. Он самым вульгарным образом «покорял» женщин, желая избавиться от комплекса неполноценности, привитого ему изменой жены. Нет, он не установил себе цифры, количества, достигнув какового, ему следовало остановиться. Покорение женщин замещало ему все другие победы — успех, славу, деньги… Он пригласил Балерину в диско. Почему-то он решил, что пригласить её в «Барбизон-Плазу» будет прилично. «Барбизон-Плаза» — теперь он удивляется своей глупости — была скучнейшим заведением на Шестой Авеню в районе 58-й улицы. Туда ходили танцевать секретарши и salesmen. Уже через год он повёл бы её в «Mud Club» или в другую модную дыру в downtown. Но десять лет назад он очень расстроился, что в «Барбизон-Плазу» их не пустили. Почему не пустили? Тогда он не понимал, сегодня понимает. Балерина, зная, что он — бедный, оделась специально для него в старое зелёное пальто. Он же, зная, что отец Балерины очень well-to-do торговец готовой одежды, специально для неё нарядился в никогда ещё не надёванную апельсиновую дублёнку-кожух, бежевые брюки и розовые туфли на каблуках. Они выглядели, как pimp3 и дебютировавшая лишь вчера потаскушка.
— Ты помнишь, как мы ходили в «Барбизон-Плазу»?— Он улыбнулся.
— Отлично помню. На тебе были розовые туфли на пластиковых платформах, какие носят в Нью-Йорке чёрные pimps, а на мне старое пальто старшей сестры. Ну и парочку мы составляли!
— И шёл снег. Буря была над Нью-Йорком.
Ему внезапно стало стыдно, что он расчувствовался. Он уважал себя, образца 1976 года, за другие эпизоды. За то, что, сцепив зубы, он сел писать книгу. За то, что один выходил ночами на площадь к «Дженерал Моторс Билдинг», напротив отеля «Плаза», и сидел, запрокинув голову — таким образом ему были видны сомкнувшиеся вокруг куска звёздного неба вершины небоскрёбов. За то, что, глядя на них, он шептал: «Всё равно я выебу вас всех! Я стану известным, самым известным писателем! Больше вашего Нормана Мейлера. I gonna fuck you all!» За то, что кричал то же самое, кричал в небо, когда бывал пьян. За то, что приходил на холодную каменную скамью у «Дженерал Моторс» несколько лет кряду и ни разу в себе не засомневался, хотя книгу его не хотели и его самого никто не хотел. В 1983-м, приехав к публикации романа в самом лучшем их издательстве, в «Рэндом Хауз», он не удержался — сходил к «Дженерал Моторс», сел на ту же скамейку, задрал голову и закричал: «Ну, что, я выебал вас! Выебал! Все считали меня мечтателем, а у меня оказался стальной хребет!» Защекотало в глазах, но только на мгновение. Через несколько минут он спокойно встал и ушёл, как уходит солдат, взяв наконец трудную стратегическую высоту. Ушёл к другим высотам, не оглянувшись на могилы друзей. За такие жесты он себя уважал.
Но себя, вышедшего тогда вместе с Балериной в нью-йоркский ветер, выгнанного, он не уважал. Они пошли в диско-бар, находящийся на той же Шестой Авеню. Это была его идея. Он хорошо подготовился, изучил местность. Перед свиданием с ней он проверил окрестности и изучил цены. И именно за эту трусливую подготовленность, за чрезмерную заботу о встрече с женщиной, ему вовсе не нравящейся, он себя и не уважал. Сегодня он стеснялся того типчика не из-за того, что тип имел на ногах розовые башмаки на каблуках в 13 сантиметров, но за заискивание перед каждой пиздой.
— Ты был очень mysterious тогда, Эдвард!— Обернувшись на старшего мальчишку,— тот ломал пальцы, сунув их в переплетение железных прутьев стула, на котором она сидела,— мать приказала зло: «Пойди поиграй с детьми!» В беседке скопилось уже с полдюжины детей, и они сообща наладили игры. Ребёнок нехотя вынул пальцы из стула и ушёл.
— Ты развратил меня!— воскликнула она внезапно.— Ты познакомил меня со злом!
Он не ожидал упрёка. Искренне рассмеялся.
— Я тебя развратил? Я был русский поэт со стеклянными крыльями, в определённом смысле неиспорченный, несмотря на трёх жён, юноша, приземлившийся в Новом Вавилоне. Вы, американцы, казались мне monsters разврата! С вашей сексуальной революцией, sex-shops, с порнофильмами… Я очень боялся выглядеть провинциальным, это правда, боялся оказаться смешным и old-fashioned в ваших глазах, в твоих глазах тоже…
— Я не утверждаю, что ты развратил меня осознанно. Но ты развратил меня, да, вниманием к сексу, тем, что делал любовь со мной несколько раз ежедневно…
— …Я делал это — признаюсь теперь, дело прошлое — из боязни оказаться хуже американских мужчин. Когда не знаешь стандартов, не можешь оценить себя по достоинству. Я был уверен, что ничего особенно героического мы в постели не совершаем. Не забывай, что от меня только что ушла жена, я сомневался в себе как в мужчине. Если от меня ушла женщина — значит, я плох, так примитивно мыслил я.
— Ты был formidable!4 — сказала она по-французски.— Ты знаешь, ты ведь мне совсем не нравился…
— Зачем же ты пришла в отель и оставила открытку. Wonderful spirit!
— О, это произошло случайно. Я была у Ванды, у Линкольн-центра, рядом. И потом, ты вёл себя на моем party так иррационально, так страстно, что вызвал моё восхищение. Вот, подумала я, у русских ещё есть могучие страсти. Но восхищение моё было чисто интеллектуальным. Мне и в голову не пришло, что, мол, хорошо бы выспаться с этим парнем… Но когда я, не желая того, выспалась…— Она закатила глаза, изображая, может быть, экстаз.
— Я был неудачник, а неудачники обычно прекрасные любовники… Не уверен, что я способен на такие подвиги сегодня.— Он и вправду твёрдо верил, что losers вкладывают в lovemaking всё существо своё. Единственный способ самоутвердиться.
— Насколько я знаю, ты не женат. Живёшь один?
— Один… Пытался жить с женщинами. Последняя попытка окончилась год назад, неудачей разумеется…
Она погрузила обе руки в сумочку, висевшую на ручке детской коляски и закопалась в брюхе сумочки. Извлекла… joint. Оглядевшись по сторонам, прикурила и затянулась…
— Хочешь?— протянула ему joint.
— Спасибо, но я должен ещё работать сегодня. Пытался сосредоточиться целое утро, но без успеха. Вот вышел прогуляться… Made in New-York?
— Да. Очень крепкая трава. Женщина, набирающая нам журнал, имеет прекрасные связи…
— Ваш журнал?
— Я выпускаю журнал вместе с ещё тремя…— она замялась,— жёнами. Информационный бюллетень по-английски. Нужно же чем-то заниматься в этой жизни, помимо воспитания детей…
— Да-да,— поспешно согласился он.— Нужно.
— Муж много работает, редко бывает дома. Я скучаю… Скажи мне…— она затянулась и, вытолкав дым в дождь, продолжила: — Я очень изменилась?
— Не очень,— солгал он, не задумываясь.— Разумеется, никто не молодеет, но у некоторых индивидуумов с течением времени меняется даже психологическая структура. Я встречал таких. Нет, ты не изменилась, разве что похудела или мне это кажется?
— Лето,— оправдалась она.— Стояла, как ты знаешь, страшная жара, совсем не хотелось есть…
Ему захотелось уйти. Но дождь, судя по его луже, был очень частым. Вне сомнения, уже через несколько минут пиджак и брюки превратятся в мокрые липкие тряпки. И в холодные тряпки, так как в природе было не тепло. Он вздрогнул, воображая холодную липкость на теле, и остался под навесом. Протянул руку к её joint.
— Одну затяжку… Позволишь?
— Му pleasure. Очень хорошая трава.
Он затянулся, но неглубоко. Десять лет назад в Нью-Йорке унции марихуаны хватало ему всего лишь на неделю. Bon, другие были времена. Он поймал себя на том, что вздыхает. «Жалеешь о том времени?» — спросил он себя с удивлением. Нет, он не жалел, но в этом времени ему явно не хватает ощущений. Острых чувств. Не хватает негодования. Не хватает злобы. Ощущается острая нехватка возмущения и гнева. Не хватает зависти. Кому он должен завидовать, подписавший только что свой седьмой французский контракт? Он видел свои фото в журналах всего мира. Ну, если не всего мира, то в журналах самых цивилизованных стран, стран с развитым «publishing business»…
Внезапно приблизившись и разбившись на мелкие отдельные фацетики кожи, зашевелилось рядом лицо Мэрэлин. Десять лет назад он не понимал её лица. Лица американки. Сейчас всё было ясно. Было попятно, что владелица лица боится. Было понятно, что она боязливо ждёт. Было ясно, что если иногда Мэрэлин и бывает в чём-либо уверена, то состояние уверенности не продолжается достаточно долго. Было ясно, что любой прохожий может смастерить себе такой образ Мэрэлин, какой желает, и поступить с Мэрэлин согласно законам, применяемым в общении с боящимися женщинами. Может сесть на все фацетики кожи Мэрэлин голой задницей, если хочет. Но только в том случае, если его чистая сила боли сильнее её чистой силы воли. И если ему интересно подчинение Мэрэлин. Его лично эта игра уже давно не интересовала.
Она облизала губы и прикрыла глаза. Язык ещё раз робко лизнул уголок рта. Спрятался. Ненужно дёрнулась щека, сжав мелкие морщинки в мгновенно разошедшийся узор. Она чего-то ждала. Он представил себе корову, переступающую с ноги на ногу, жуя траву. Вот она дёрнула хвостом. Опять переступила ногами. Не раздвигая задних ног, извергла лепёшку вегетарианского, приличного дерьма. И затопталась в нём…
В сущности, секс ведь куда больше секса. Менее всего секс — это сочленение двух органов, мужского и женского. Эта простейшая операция на деле лишь результат естественного отбора воль, результат сравнения и единоборства биологических духовных сил, иногда — молниеносного краткого единоборства, иногда — мучительной и упорной борьбы. И женщина может оказаться далеко не слабее мужчины. Невидимые молнии воли, испускаемые ею, могут быть не слабее молний, испускаемых мужчиной. Талант существа, всё существо участвует…
— Да, хороша трава.
Она набралась храбрости.
— Я читала твою книгу. Ну эту, где ты описываешь события, в которых мы все участвовали. Это чудовищно, что ты видишь мир таким вот… И всё ведь было совсем не так…
— Я не настаиваю на том, что мой вариант видения тех событий единственный. Но я — единственный из всех нас — сумел выразить «случившееся» в словах. Напиши свой вариант, если можешь. Плюс это самое случившееся всегда неоднозначно. Я мог бы написать ещё полдюжины книг, описывающих ту же историю, но ни один издатель не может позволить себе роскоши опубликовать шесть вариантов одной и той же истории.
Внезапно, прилетев из прошлого, перед ним, заслонив молодые деревья и корты, появилась её пизда меж раздвинутых ног. Тёмные волоски спускались по обе стороны серой половой щели. У некоторых она розовая, у других — красная, у Мэрэлин, вспомнил он, серая. Знаком американского доллара, расклеившись, пизда Мэрэлин висела в небе, и сидели, как в кинозале, глядя на неё, Эдвард и Мэрэлин. За десять лет пизда не состарилась нисколько, но задорная испуганность исчезла с лица пизды. Её сменило выражение подавленной испуганности. Можно было безошибочно угадать, что это пизда жены индустриалиста, матери двух мальчиков, а не пизда Мэрэлин, по кличке Балерина.
— Мам!— Старший мальчик давно уже стучал по плечу Мэрэлин Штейн.— Хочу в туалет… Мам!
— Jesus Christ! Ты видишь? какой дождь… Отбеги в…— Мать огляделась, ища, куда бы услать ребёнка совершить естественную надобность.
— Дети…— вздохнула она, вставая и одёргивая комбинезон.— То пить, то в туалет, вечное «мама»!— Взяв сына за руку, она подошла с ним к краю беседки.— Я буду считать до трёх. На «три» — бежим изо всех сил. Хорошо? Раз, два, три!
Мать и сын, мелькая подошвами сандалет, побежали к туалету. По пути они пересекли его лужу и замутили её. Он встал. Пизда исчезла с небес. Может быть поняв, что ею не интересуются. В беседке появился полицейский в старомодной накидке. Грудью упираясь в полицейского, старушка-комсомолка, задрав голову вверх, кричала требовательно на только ей понятном языке. Может быть, она требовала от полицейского свиной варёной советской колбасы, как воронёнок?
— Туалет рядом,— он указал пальцем на невысокий заборчик за «его» лужей.— Видишь? В десятке метров.
Он поднял воротник пиджака и вышел в густой дождь.
1 Quelle couleur! (франц.) — Какой цвет!
2 Soleil de Paris (франц.) — парижское солнце.
3 Pimp (англ.) — сутенёр.
4 Formidable (франц.) — потрясающий.
из сборника рассказов
«Коньяк «Наполеон»» • 1987 год
Замóк
— Я участвовал в трёх войнах, написал двадцать одну книгу, был женат шесть раз.— Он остановился, посмотрел на зажатый в руке стакан с канадским виски — его любимым напитком — так, как будто видел стакан впервые.— Я пью виски-straight и рассчитываю прожить ещё лет десять. Жизнь — говно, не стоит стараться… Ты меня понимаешь? Ты русский, ты должен меня понять…
Я его понимал. Он успешно изображал из себя нечто среднее между Хемингуэем и Женей Евтушенко. Мы сидели в piano-bar в подвале на Сен-Жермен, и чёрный пианист в белом смокинге выбивал из piano джазовую вещь, очень подходящую к настроению моего собеседника. Пахло пролитым алкоголем. Было полутемно и красиво. Казалось, вот сейчас к piano выйдет Лорен Бокал, а из «Только для служащих» двери — руки в карманах — появится презрительный Хамфри Богарт и — сигарета в зубах — прислонится к стене. Он меня привёл в этот piano-bar, может быть, он заранее сговорился с чёрным пианистом, чтобы тот проаккомпанировал его хемингуэевской арии?
— Понимаю,— промычал я и налил себе виски из бутыли. Все остальные, рядовые посетители, получали свои drinks штуками в бокалах, мы же, по его желанию, взяли бутылку. Мы были настоящие мужчины, как же иначе. Два писателя.
— Зачем она тебе?— Он неожиданно ухватил меня за лацкан старого белого пиджака и через стол потянул к себе. Ему было лет шестьдесят, но рука была крепкая. В отличие от меня, он хорошо ест.— Отдай её мне…
Он думает, что «её» можно отдать, как будто она книга, которую один из нас написал, или велосипед, или квартира, которую можно уступить другому человеку. Ему.
— Возьмите,— сказал я, снял с себя его руку и выпил свой виски. С удовольствием, обжигаясь, чувствуя дубильную крепость напитка. Несмотря на то что в основном мы оба казались мне ужасными позёрами, мне было время от времени вдруг приятно то виски, то его тяжёлая, с набухшими алкогольной кровью венами рука на столе, то табачный дым, донесённый к нам от соседнего стола, где бледная рослая красотка только что прикурила сигарету от спички, поднесённой совсем не подходящим ей, слишком молодым и робким самцом.
— Спасибо, русский.
Его старые чёрные глаза, проследившие выход двадцать одной книги из пишущей машинки, целившиеся в трёх войнах и ласкавшие шестерых жён, увлажнились. Он не заплакал, но расчувствовался.
— Только как мы осуществим передачу?— Я налил себе виски опять.
Я редко бываю в подобного рода заведениях, у меня нет денег. В отличие от него, я написал две книги и находился в процессе издания первой. Я радовался виски. Я хотел напиться вперёд.
— Ты не должен больше с ней видеться. Никогда.
— Как? Не пускать её к себе в studio? Глупо. У неё есть ключ. Она ни за что не отдаст мне ключ, если я потребую.
— Это твоё дело. Ты мне обещал.
Обещал. Он ничего не понимает. Мы сидим уже в третьем баре, и он до сих пор не может понять. Он думает, достаточно сказать русской женщине: «Я не люблю тебя. Я не хочу тебя больше видеть. Отдай мне ключ от моей studio» — и русская женщина обидится и исчезнет навеки. Он плохо знает русских женщин, хотя и утверждает, что у него была когда-то ещё одна. Когда ему было столько лет, сколько мне.
— Сказав вам «Возьмите её», я имел ввиду, что я не отношусь к ней серьёзно. И что, если вы, как вы говорите, любите её, я не стану…— я остановился. Мне стало вдруг противно даже произносить эти слова: «Вы любите». Что за выражения, обороты, ей-богу, словно мы школьники, запершиеся в туалете и обсуждающие, свежие и благородные, первую любовь. Нашу общую. Он, трагически сощурившись и одной рукой оглаживая серую бородку, ждал, когда я закончу. Я решил впредь говорить с ним на моем языке, а не на его — условном, культурном и жеманном. Пусть принимает мои правила игры.— Если я начну её избегать, она станет уделять мне всё своё время и внимание. Ей не понять, что мужчина может быть к ней равнодушен. Я вам обещаю с ней не видеться, но я не уверен, что она выполнит моё обещание. Вы понимаете?
— Да-да, я понимаю. Я ведь сам русский…— Он глядел на меня теперь, как актёр в плохой американской production по роману Достоевского, «рюсски мюжик» с загадочной душой.
Русский… Он был наполовину еврей, его мама родилась в конце того века в Минске или Пинске. Я улыбнулся, вспомнив, как Фрейд и Юнг изучали русский характер в Париже и Женеве на евреях-эмигрантах. И обнаружили в русском характере самоубийственные тенденции. Ничего не имея против евреев, считая их нацией талантливой и энергичной, всё же не могу согласиться с тождественностью еврейского и русского характеров. Вот и он, он не понимает, пусть подсознательно, но очень по-ближневосточному он приписывает мне — любовнику и другу женщины — власть, присущую в восточной семье патриарху-отцу. Он мне на неё жалуется и верит, что я в силах ей указать, приказать и направить к нему. Ещё один шаг в этом направлении — и мы начнём обсуждать, какой бакшиш он мне заплатит за женщину. Сколько овец, верблюдов, сколько браслетов из серебра а золота… Ха…
— Сколько тебе нужно денег, чтобы нанять новую квартиру?
Он совсем с ума сошёл. Он готов совершать передвижения других писателей по Парижу ради этой женщины. Такие вещи не называются любовью, они называются obsession1.
— Но я не хочу менять квартиру. Моя studio мне нравится. Мне удобно в Марэ, я только начал привыкать к виду из окна, к камину, к старым авионам на старых фотографиях.
— Ты мне обещал, русский. Мы оба писатели.
— Нет, я не стану менять квартиру. Я сменю замок.
Он засмеялся.
— Да, проще сменить замок.
— Послушайте, Давид, я хочу вас предостеречь…
— Я знаю, она очень опасна. Я знаю…— Он улыбался восторженной улыбкой старого дурака, попавшегося на удочку молоденькой бляди и с тех пор уверенного, что на крючок его поймала сама Вирджин Мэри. Улыбкой одного из тех нескольких ершей, которых, по-кошачьи собравшись, выдернула из пруда Нормандии прошлым летом нами обоими усиленно упоминаемая особа. Его поколение раболепно относится к женщинам. Сексисты. Моё поколение их не замечает.
— Я хочу вас предостеречь, что Светлана — эгоистическое существо, способное не только взять и не отдать ваши любимые книги или позвонить от вас по телефону в необычайно отдалённые страны мира, но и существо, способное разгрызть, прожевать и проглотить очень объёмистый кошелёк в рекордно короткие сроки. Помните об этом, Давид. «Светоносная», как вы её называете…
— Пребывание в Соединённых Штатах не прошло для тебя даром, бедняга.— Он покачал головой и посмотрел на меня с жалостью.— Ты заразился непристойным материализмом.
— Вы сами жаловались мне, что «Светоносная» так и не вернула ваши любимые книги и наговорила по вашему телефону с отдалёнными странами на астрономическую сумму франков.
— Ну, я был тогда немножко зол, потому что она исчезла и не показывалась. Мне кажется, она просто не знает разницы между своим и чужим, она уверена, что всё принадлежит ей, весь мир. Разве можно винить её за это, мой молодой коллега?
Молодой коллега подумал, что, если бы старый коллега знал, в каких выражениях «Светоносная» описывала его молодому коллеге, он, может быть, получил бы сердечный удар. «Скучный старик» — было самым лёгким. «Мудак» — наиболее употребимым. «Давно хуй не стоит, а туда же лезет…» — убийственным для мужской репутации человека, прошедшего через три войны и шестерых жён. Выслушивая приговор «Светоносной», молодой коллега даже чувствовал что-то вроде чувства мужской солидарности со старым коллегой. Потому что пронесутся двадцать с небольшим лет, и кто знает, может быть, и о нём какая-нибудь экзотической национальности «Светоносная» скажет с пренебрежительной усмешкой «Давно хуй не стоит, а всё туда же…» За что, сука? Мало мы вас ублажали, старались?.. Даже хуй среднего мужчины, рабочего муравья, успевает много поработать за жизнь, а уж члены любопытных писателей, лезущих даже в войны, очевидно, трудятся ещё более усердно… С другой стороны, неизвестно, может быть, Давид никогда не отличался высокой производительностью хуя… Однако же сексуальная жизнь у иных мужчин не останавливается и после семидесяти… Молодой коллега вспомнил, тренера по боксу, бывшего поэта-имажиниста, друга Есенина, жившего с ним в одной квартире в Москве у Красных ворот. На того, 74, по утрам жаловалась жена, 38, что «кобель» не даёт ей спать, пристаёт, ебаться хочет…
— Вот и она.
Губы старого писателя расползлись растерянными половинками, и он вскочил, одёргивая белый пиджак-френч с накладными карманами — изделие Пьера Кардена. Шея напряглась в петле футляра всеми жилами, кадык, как поршень учебного автомобильного мотора в автошколе, совершил несколько судорожных движений, ноги и туфли поспешно выдвинулись из-под стола, и обладатель их уже стоял на опилках и поддельных мраморных плитах пола, почему-то расшаркиваясь. Самец, завидевший самку.
Весь зал наблюдал прибытие «Светоносной». Толпе постоянно нечего делать, и она пользуется малейшим поводом, чтобы чуть развлечься. Русская женщина явилась в лиловой шляпе с набором цветов вокруг тульи и с недоразвитой вуалью, доходящей ей до верхней губы. Такие шляпы возможно разыскать в парижских шляпных магазинах, однако, чтобы водрузить такую шляпу на голову и отправиться в ней по улице, требуется известное мужество. Посему только «Светоносная» да ещё, может быть, десяток дам, столь же отважных, как она, разгуливают со странными сооружениями на головах. Голые груди «Светоносной» покоились в чашечках из чёрных кружев, легкодоступные обозрению, так же как и весь левый бок, включая места, которые обычно покрывают трусики. Внизу ноги и колени «Светоносной» взбивали пену чёрных и лиловых кружев — выбивали какую-то испано-цыганщину.
— Baby,— чмок.
— Bon soir, papa,— чмок-чмок.
Господи, она называет его «papa», он её — «baby».
Из всех возможных вариантов ласкательных имён оба кривляки выбрали эти, самые употребительные.
— Привет. Ты, конечно, не можешь встать, чтобы приветствовать женщину…
Голос был злой. Я нарочно лениво поднялся с табурета.
— Я встаю, чтобы поприветствовать женщину.
— Тебе никогда не сделаться джентльменом.
— Я активно не хочу делаться джентльменом. Это, должно быть, ужасно скучная профессия. Ещё скучнее писательства.
Старый коллега уступил ей своё место. Она, шурша нарядами, опустилась большой молью на сиденье. Давид Хемингуэй топтался, не зная, что дальше делать. Сообразив, взял табурет от соседнего, полупустого стола. Сел. Поглядел на неё, потом на молодого коллегу.
Она брезгливо передвинула к еврейскому Хемингуэю его бокал и бутылку.
— Виски лижете… Фу…
Сейчас она потребует шампанского. Я не сомневался в этом нисколько. Русская женщина всегда хочет шампанского. Зимой и летом, ночью и днём, в городе и в деревне.
— Бутыль «Дом Периньон»,— объявил Давид нашему официанту в смокинге. Она его уже успела выдрессировать. Хемингуэй уже не спрашивал «Светоносную», что она будет лизать.
— Ну, мужчины, беседуете?
«Светоносная», довольная предстоящим распитием бутыли едко-шипящей, хорошо замороженной, дорогостоящей жидкости, возлегла спиной на сиденье и оглядела меня и старого Хемингуэя из-под шляпы. Снисходительно. Тёмно-серые очи её с одинаковым пренебрежением скользнули по нам обоим. У меня не было денег, и никто меня не знал. У него были деньги, и его знали в мире, по нескольким его книгам были поставлены фильмы, но он был стар, у него «хуй не стоит, а туда же лезет…» Я опять вспомнил, что мне тоже предстоит стать старым, задумался о будущем моего хуя и потому тепло поглядел на него, а на неё — зло.
— Что?— спросила он встревоженно.
Я бы ей не постеснялся сказать, что, но он понимал по-русски. Зачем он её пригласил, было мне малопонятно.
— Счастлив тебя видеть,— сказал я. И посмотрел на неё так, как она на нас, снисходительно.
Кто она такая, в конце концов, даже если её никогда не загорающая очень белая кожа обтягивает красивые мышцы лица, задницы, ног и всех других частей, по которым мужчины шарят глазами и руками. В хорошо питающемся человеческом европейском обществе всё больше становится приятных глазу и пальцам экземпляров женского пола. Количество обесценивает качество.
— Я вижу.— И к Хемингуэю: — Какой вы сегодня красивый, папа… Загорели, помолодели. Белый френч вам ужасно идёт.
Светская любезность плюс желание позлить меня. Она уверена, что я в неё влюблён. Так же, как и он и минимум всё мужское население зала.
«Papa» привстал и, наклонившись, поцеловал руку «Светоносной». «Papa» за всю писательско-военноженатую жизнь не устал духовно и всё ещё тяготеет к женщинам, и очень мощно, судя по его телефонным мольбам о сегодняшней встрече. И предпочитает всё тот же тип. Экстравагантных. Последняя его жена, актриса, покончившая с собой совсем недавно, немало попортила ему крови, психопатка. «Безумец, куда ты опять лезешь!— захотелось мне сказать старшему коллеге.— Да этот нежный зверь в шляпке в один прикус переполосует тебе горло». Я увидел, как он любовно погладил толстыми, поросшими седым волосом пальцами её тонкую кисть в кольцах, о красоте которой я уже наслушался от него гимнов в предыдущих двух барах. «Таких женщин почти не осталось,— утверждал он.— Светскость и шарм. Природное благородство. Тонкость кости. А руки! Какие руки! Аристократка!» Она наплела ему, что происходит из старинного дворянского рода. Что голубая кровь течёт в её жилах. Видел бы он её маму, в Москве, похожую на толстую торговку рыбой. Я видел, но я не стал его разочаровывать. Я не напомнил ему закона природы, о существовании которого он, наверное, знает и сам, что такие гадкие девочки вырастают на пустырях из почвы скорее гнилой, чем благородной. Аристократы во многих поколениях уродливы, как смертный грех… Тут я вспомнил вдруг своего приятеля по шиздому, Гришку. Параноик, парень из деревни, Гришка был красив, как греческий бог Аполлон. И это не истёртое сравнение, по недосмотру автора не выброшенное из текста, но яркая и странная загадка природы. Нос, форма головы, светлые кудри, мышцы семнадцатилетнего юноши из крошечной украинской деревни, где избы покрыты соломой, немедленно вызывали ассоциации со знаменитыми статуями знаменитого бога. Позднее я проверил гришкины параметры в Великом Риме. По шиздому Гришка гордо разгуливал голый. Доктора, санитары и интеллигентные психбольные дружно сходились во мнении — Аполлон был заперт у нас в буйном отделении 4-го корпуса. Гришкой мы гордились.
От шампанского я отказался и с удовольствием придвинул к себе бутылку виски, в то время как пара занялась «Дом Периньоном».
— Готовишься в писатели?— ехидно спросила она меня.— Спешно наживаешь профессиональную болезнь — алкоголизм? Скоро выходит твоя книга?
— В ноябре,— лаконично сообщил я и налил себе виски. Я тренирую себя не в алкоголики, но стараюсь быть cool2. Свалив из Соединённых Штатов, я всё же успел многое позаимствовать в той части света. Быть cool много выгоднее, чем разозлиться, наскандалить, нагрубить, как часто поступают мои экспансивные экс-соотечественники.
— Выпьем за Россию! За страну, которая рождает таких прекрасных женщин!— провозгласил papa, повернувшись ко мне с бокалом пузырящегося шампанского. Шампанское было цвета оливкового масла. Вежливый и тренированный, я поднял свой scotch и, уже зная, что он любит чокаться, стукнулся своим толстым стаканом с его тонким стеклом. Она тоже выпила за Россию, которая рождает таких, как она. Бесподобно серьёзно, без улыбки.
*
Они заговорили по-французски, перемежая речь русскими фразами, а я, наблюдая их, старался участвовать в беседе как можно меньше. Я сидел и размышлял потихоньку о жизни, о том времени, когда я был любовником этой женщины, о том, что наши пути разошлись из-за того, что у неё оказался сильный и упрямый характер, и в результате, утомлённым борьбой, нам пришлось расстаться. Я отдавал ей должное в моих неспешных философских этюдах-паутинках, материалом для которых служили виски, табачный дым, piano, послушное пальцам пианиста, выделяющее неизвестные мне джазовые мелодии, её глаза, время от времени стреляющие в меня из-под шляпы, её или его вопрос, обращённый ко мне. «Combien?» — переспросил где-то сзади голос, и другой пробубнил мутную цифру франков. Сколько? Несколько лет. Четыре года. Больше. Почти пять. Расстались. Что-то в ней есть. Весёлый нрав, может быть? Да, и это. И авантюризм. Не говоря уж о внешности. Но «красавица» к ней как-то не идёт. Хотя она и красавица. Femme fatale? Да, пожалуй, если не для меня, то вот для старшего коллеги. Дух таинственности. Плюс её туалеты. Включая бесподобные шляпки.
«Papa» пусть бесконечно говорит о том, что он русский, но он её никогда не поймёт, хотя это просто. Я же видел её мать, первого мужа — представляю, откуда она и куда она движется, «Светоносная». Для начитанного «papa» она и Настасья Филипповна, и Сонечка Мармеладова, и Наташа Ростова, и Анна Каренина. Весь сонм русских женских душ, злых, красивых и страшных, пялится на «Papa» из-за спины «Светоносной» и из её жёлто-серых зрачков, которыми она умеет очень хорошо пользоваться. Мой вариант «Светоносной» куда проще. Для меня она — девочка из коммунальной квартиры на Арбате.
«Papa» икнул и, распахнув шею, стянутую футляром, застеснялся: «Простите». Она, светская, то есть без труда усвоившая поверхностную вежливость, сделала вид, что не заметила громкого, однако же, звука. И «papa» милый, подумал я, опорожнив стакан. И вообще, что у нас есть в этой жизни, у людей? «Papa» может протянуть ещё лет десять. Вряд ли, однако, он сможет наслаждаться этим дополнительным временем. На него уже навалилась тяжесть старости, и за плечами его в piano-баре время от времени появляется в рентгеновских лучах смерть. Судя по всему, «Светоносная» — его последняя любовь. Зачем же я его отговариваю, предупреждаю. Возможно, для него положить поросшую седыми волосками тяжёлую, набухшую жизнью руку на её белую грудь — уже удовольствие безграничное… Завтра же куплю новый замок… Нечасто теперь, но «Светоносная» приезжает ко мне вдруг среди ночи, вваливается, шумит, хохочет, требует любви и внимания. Теперь мне нужно будет отказаться от взрывающих моё достаточно одинокое существование её визитов в его пользу. Жаль… Нет, не куплю замок, почему я должен быть благородным…
Как глупо, что весь романтизм еврейского Хемингуэя, вся животная жажда жизни «Светоносной», всё моё честолюбие бывшего юноши из провинциального города, проделавшего долгий путь по нескольким странам и континентам, прежде чем найти первого издателя, моё одиночество, их страсти — всё свелось к простой хозяйственной дилемме: пойти ли мне в BHV и купить в подземелье его, в sous-sol, новый замок или не купить? На мою дверь, сквозь щели меж частями которой преспокойно можно разглядеть лестничную площадку и взбирающихся на оставшийся верхний этаж студенток и baby-sitters, разве вообще нужен замок? Старик бредит, я слушаю старика, зачем? Старику кажется, что я — его соперник, но это романтическая чушь из репертуара его поколения. Мы оба — и он, и я — только части её жизни. Есть и другие части. Старик полагает, что если она перестанет заваливаться среди ночи ко мне, то тут же станет приезжать к нему на Севр-Бабилон? Нет, «papa» тебя она бережёт для выходов в дорогие кабаки или в места, подобные тому, где мы сейчас сидим, где один drink, если не ошибаюсь, стоит полсотни франков, а сколько стоят бутылка виски плюс бутылка «Дом Периньон», которую они уже высадили, я затрудняюсь сказать. Наверняка вдвое больше моей месячной квартирной платы.
*
Хемингуэй попросил прощения и удалился походкой старого моряка в туалеты и телефоны.
— Мне кажется, у тебя плохое настроение. Что случилось?— голос медсестры, только что вытащившей обгорелого морячка из горящей шлюпки. Когда хочет, она умеет.
— Я не совсем понимаю, какова моя роль в этом старомодном спектакле? С восьми вечера он ноет и просит меня от тебя отказаться.
— И что ответил ты?— очень заинтересованная интонация.— Отказался конечно?
— Как можно отказаться от того, что тебе не принадлежит, а? Ты тоже можешь от меня отказаться, если хочешь.
— Значит, ты от меня отказался?
— Слушай, не придирайся к словам. Я просто объяснил лунатику, что ты существо дикое и никому принадлежать не можешь, а бродишь сама по себе. И что я не имею на тебя никакого влияния.
— Ты имеешь на меня очень большое влияние.
— Я?
— Ты.
— Вот уж не ожидал. Необыкновенный сюрприз. Я скорее считал себя твоим другом детства. И как другу детства, думал я, мне принадлежат некоторые несомненные привилегии. Например, право на выслушивание твоих любовных историй со всеми их приятными и некрасивыми подробностями вроде этой последней — кто был во фраке, кто держал за руки, у кого из двоих был лучше запах и член… Но влияние… Ты что, хотя бы раз изменила свои намерения в результате разговора со мной?
— Изменяла. Я тебе…
— Ты мне изменяла?! Ты не можешь мне изменить хотя бы потому, что я никогда тебе ни в чём не верил.
— Я оговорилась. И недоговорила. Не извращай смысл моих слов.
— Я понимаю, что ты оговорилась, но правда, не очень морочь старику голову, а? Все мы будем старыми, и мне жалко в нём себя самого, каким и я стану когда-то.
— Я не буду старой. Я покончу с собой.
Я подчёркнуто иронически расхохотался. Однажды она мне сказала, что так как сама она не способна писать книги или рисовать картины и практикует взамен искусство жизни, то я — как бы её представитель, заместитель в мире искусства. И потому она хочет мне протежировать. Протежировать? Тогда я согласился, смеясь. Теперь моя покровительница сообщает мне о своём желании избежать обязанностей протеже, хочет покончить с собой, когда она станет старой. Сейчас ей 27.
— Весь фокус в том, darling, что ты всегда будешь чувствовать, что ты ещё не стара. Недостаточно стара, во всяком случае, для того, чтобы покончить с собой.
— Не называй меня darling. Это пошло. В каждом фильме он называет её «darling».
— Хорошо. «Светоносная», как называет тебя наш общий друг Давид.
— Каким бы смешным тебе ни казалось прилагательное «светоносная», которое наш друг превратил ради меня в имя собственное, это его личное изобретение. Ты же, несмотря на всю твою талантливость, никогда не поднялся выше пошлого «darling». Ещё одно доказательство того, как поверхностно твоё ко мне отношение.
— Моё отношение к тебе так же поверхностно, как и твоё ко мне. Не ты ли всегда злилась и фыркала, если я проявлял слишком, по твоему мнению, усиленное внимание к твоей жизни. Ты никогда не ответишь на вопросы: «Где ты была?» или «Что ты делала?», если тебя спрашивать. Если не спрашивать, ты расскажешь сама и будешь очень обижена, если тебя не слушать достаточно внимательно. Всё, что тебе нужно от меня и других,— пристальное внимание к твоей особе. Вызвав внимание, ты равнодушно отворачиваешься.
— Неправда,— она надулась. Носик её, на одном из крыльев которого, весной — я знаю это — выступают несколько смешных веснушек, сморщился. «Если бы у неё не было пизды,— подумал я,— она была бы отличнейшим существом, хорошим другом и товарищем».— Ты мне очень близок. Я слежу за твоими успехами, как за своими собственными. Я знаю, что ты будешь очень большим писателем.
— Твои слова бы да Богу в уши,— заметил я. Оглядел бар, приподнявшись на стуле, с которого чуть съехал под влиянием виски. «Большим писателем»? Буду. Но что тогда изменится? Будет ли эта девочка за соседним столом, выставившая мне напоказ очень хорошую ногу в чёрном чулке, смотреть на меня иначе, чем она смотрит сейчас? Будет ли более доступна?
«Светоносная» взглядом знатока ощупала фигуру рыжей красотки за соседним столом. Рослая светло-рыжая девочка с простоватым лицом и вульгарными большими губами была, вероятнее всего, немка или голландка.
— Ничего…— нехотя согласилась «Светоносная».— Кожа не очень хорошая. Когда ты станешь большим писателем, ты будешь неотразим. Я только советую тебе ещё более развить в себе цинизм.
— Буду стараться,— пообещал я и развеселился.
— Я позвонил в «Распутин»,— вернувшийся Давид курил сигару.— Нас ждут… Поехали с нами, мой молодой коллега?
— Давид, вы прелесть!— «Светоносная» привстала и поцеловала Давида в аккуратную седую бородку.
— Спасибо за приглашение, но не могу. Меня ждут…— соврал я, чтобы одновременно позлить «Светоносную» и избавиться от этнографического веселья знаменитого ночного клуба в стиле a la Russe. Да и Давид, как мне показалось, недостаточно активно меня пригласил. Разумеется, ему хочется остаться с ней.
— Свидание? В два часа ночи?— «Светоносная» недоверчиво заглянула мне в глаза. Я встал. Поцеловал в душистую щеку «Светоносную», царапнувшись бровью о твёрдый край её шляпы.— Ебаться идёшь?— прошипела она насмешливо. Потом я пожал руку Давиду.
— Я всё понял, и я сделаю всё от меня зависящее,— сказал я.
Его рука ответила мне, дружески крепко сжав мою руку: «Спасибо». И я побежал по выкрашенным чёрной краской деревянным ступеням вверх из piano-подвала, оставив позади табачный дым, уютный запах алкоголя, swing и надтреснутый голос певца.
*
На следующий день в BHV я купил-таки замок с двумя бронзовыми язычками, ухлопав на него полторы сотни франков — обычно мне хватало этих денег на неделю питания. Я обещал старику. Вернувшись, я собрался было снять с двери старый замок и привинтить новый, как вдруг обнаружил, что у меня нет отвёртки. «Ох, бля!» — выругался я и хотел опять идти в BHV. В этот момент раздался телефонный звонок. Звонили с той стороны Атлантики. По моей просьбе мне организовали лекции в нескольких университетах. И, оказывается, даже уже выслали билет. Я бросил в синюю спортивную сумку пару десятков предметов, абсолютно необходимых путнику в путешествии, и покинул свою студию. Новый замок остался лежать на столе, распакованный, бронзовый и масляный.
*
Вернулся я в Париж в самом конце ноября. Среди множества писем в почтовом ящике обнаружил я и несколько экзотических открыток от «Светоносной», отправленных ею из Сингапура, Бангкока и почему-то Гватемалы. Ничего связного. В основном восклицательные знаки восторга от пребывания в местах отдалённых и горячих. Открытки заставили меня улыбнуться.
В студии было скучно и пыльно. За несколько месяцев пыль успела густо покрыть и масляные части моего нового замка. Я сгрёб его со стола и вместе с бумагами сунул в один из старых шкафов, которыми в изобилии снабжена меблированная студия. Мне было не до замка. Я уселся на садовый, более приличествующий Люксембургскому саду, железный стул — полдюжины их наполняет студию — и позвонил в издательство. Слава Богу, с книгой — бриллиантом моей души — всё было в порядке. Она должна была выйти в срок. Я стал вытирать пыль.
Извещение о самоубийстве старого Давида Хемингуэя было опубликовано в том же номере журнала, где я обнаружил первую рецензию на мою книгу. Судьба, очевидно, обожает подобные совпадения. Сообщалось, что старик застрелился из старого маузера, сохранившегося у него со времён первой его войны. Писали, что, по всей вероятности, последние месяцы находился он в глубокой творческой и персональной депрессии. Чем объяснялась депрессия, автор некролога знал не более моего. Упоминалась история последней жены старика, покончившей с собой несколько лет назад, и высказывалась догадка, что два самоубийства связаны между собой. С журнальной страницы, подпёрши рукою седую бороду, на меня глядел мой старший коллега. Кокетливо и очень по-литераторски. Приводилось также высказывание близкого друга старика, которому он якобы однажды сказал, что он обязательно покончит с собой при приближении дряхлости.
От портрета мёртвого писателя я вернулся к рецензии на свою живую первую книгу и с удовольствием перечитал её. По-латински несдержанно меня хвалили и по-галльски же мимоходом укололи пару раз, сравнив с Генри Миллером, который-де дебютировал сорок лет назад. «Интересно, что сказал бы старый коллега о моей книге, будь он жив?» — подумалось мне. Интересно, кем он считал меня, за кого держал меня до этого, не прочитав ни единой написанной мной строчки? За ебаря женщины, в которую он влюбился? За ебаря, выпендривающегося под писателя? Вероятнее всего… Внезапно старик расплылся, серо-бородатенький на журнальной странице, и на мгновение стал похож на моего отца, которого я также не успел узнать в этой жизни, даже не успел понять, кто он, мой папа. У нас никогда не было времени поговорить, мы только смертельно обижались друг на друга за совсем неважные в жизни вещи и ни разу не сели вместе, не поговорили как смертный со смертным. Так я и живу с наспех сочинённой мной самим версией моего отца, несомненно далёкой от истинной. Оставалось выяснить, не замешана ли «Светоносная» в самоубийстве Давида по кличке Хемингуэй, и если да, то насколько. В журнале её имя упомянуто не было.
С этим пришлось подождать. «Светоносная» появилась в Париже только весной следующего года. Сидя в подземном баре отеля «Плаза д'Атэнэ», я спросил её об этом.
— А, Давидка!— оживилась она.— Покончил с собой?.. Да-да, мне кто-то говорил, что он покончил с собой, припоминаю… Что тебе сказать? Мне, конечно, было бы очень лестно, если бы писатель покончил с собой из-за меня. Но… между нами говоря…— она допила свой coup de champagne3 и по-мужски твёрдо взглянула на меня,— я не думаю, что старик застрелился из-за меня. Скорее он влепил в себя пулю из-за совокупности причин. Из-за укорачивающейся жизни, из-за того, что стал несносно скучным, а может быть, и был… Из-за того, что, затащив женщину в постель, уже ничего не мог с ней сделать, возился только…— «Светоносная» улыбнулась мне безжалостной улыбкой женщины, которая прошла через всё и не сохранила никаких иллюзий.
— Посмотри, какой красивый мальчик за соседним столом, какие брови, какой рот. Галчонок…
Её самая красивая в мире рука с чуть уже взбухшими тонкими венами внезапно хищно прыгнула вперёд, выдернула из сосуда на столе красную крупную розу и рывком поднесла её к лицу. И зарыла нос в мягкую внутренность. Фарфоровые, хмуро-серые глаза хищно обвели зал и, остановившись на широкоротом юноше за соседним столом, сузились.
1 Obsession (англ.) — одержимость.
2 Cool (англ.) — невозмутимый.
3 Coup de champagne (франц.) — бокал шампанского.
из сборника рассказов
«Коньяк «Наполеон»» • 1987 год
Coca-Cola generation and unemployed leader1
Мы договорились встретиться с Рыжим у кладбища. Не решившись купить ни десять билетов метро за 26,50, ни один билет за четыре франка, я пришёл к Симэтьер дэ Пасси из Марэ пешком. Перестраховавшись, я пришёл на полчаса раньше. Чтобы убить время — сидеть на скамье на асфальтовом квадрате против входа в симетьэр2 было холодно,— я зашёл внутрь. Могилу-часовню девушки Башкирцевой ремонтировали. Позавидовав праху девушки Башкирцевой, лежавшему в самом центре Парижа, по соседству с фешенебельными кварталами, дорогими ресторанами и музеями, рядом с Эйфелевой башней, я вышел с кладбища и, прикрываясь от ветра воротником плаща посмотрел на часы. Оставалось ещё десять минут. Я пересёк авеню Поль Думэр, размышляя, тот ли это Думэр, изобретший знаменитые разрывные пули «дум-дум», искалечившие такое множество народу, или не тот? И вдруг вспомнил, что этого Думэра убил в 1932 году наш русский поэт Горгулов.
Архитектурная фирма гостеприимно предлагала в десятке ярко освещённых витрин свои проекты по строительству, внутреннему оборудованию и переоборудованию жилищ, снабдив их изумительными образчиками уже выполненных работ. Колонны и статуи украшали круглый зал на особенно восхитившей меня цветной, во всю витрину фотографии.
«Где, бля, можно найти круглый зал?— размышлял я.— Разве сейчас строят круглые залы?..» Я вынул руки из карманов плаща и потёр их, чтобы согреться.
— Кайфуешь, старичок?— Рыжий тронул меня за плечо.— Выбираешь стиль для будущего шато?
— Скажи, Рыжий, кто же может себе позволить удовольствие иметь такой вот круглый обеденный зал с колоннами и статуями? Или такую гостиную…— Я подтолкнул Рыжего к соседнему окну.
— Во Франции до хуя богатых людей, старичок. Вот мы сейчас идём именно к таким людям. Войдёшь и сразу чувствуешь — могуче воняет деньгами!
При упоминании о деньгах глаза Рыжего вспыхнули. Может быть, пачки зелёных долларов виделись Рыжему в момент, когда он протискивался сквозь иллюминатор советского траулера, дабы прыгнуть в канадские воды. Может быть, по запаху денег, как по следу, шёл Рыжий через Канаду, Соединённые Штаты и, наконец, пришёл в Париж…
— Пойдёмте, мсье Ван-Гог?
— Тронемся не спеша,— согласился Рыжий и поглядел на часы.— Очень не спеша, прогулочным шагом. В богатые дома нехорошо являться первыми.
Я не хуже его знал, что нехорошо. Однако мне хотелось выпить. И поесть. Стакан виски и сэндвич с ветчиной представлялись мне крупными и яркими в серой перспективе ноябрьской авеню Думэр. Мочевого цвета виски, ярко-розовая ветчина с белым вкраплением сала и лист салата, придавленный мятой плотью багета, висели, в тысячу раз увеличенные, над скучной бензиновой колонкой. От возбуждения я проглотил слюну. Дома у меня был только суп в закопчённой кастрюле… Рыжий вёл меня к богатым людям на парти. К женщине из мира haute couture3. К изобретательнице и производительнице духов и бижутерии.
Несмотря на то, что мы затратили минут десять на отыскание места, где бы мы могли пописать (являться в богатые дома и тотчас же бежать в туалет — нехорошо), мы всё же пришли первыми. Маленькая толстушка горничная, по виду испанка или португалка, впустила нас в тёмное и тёплое помещение. Снимая плащ и оглядываясь вокруг, я понял, что стены прихожей окрашены в почти чёрный цвет переспевших украинских вишен. Украинских вишен я не видел уже четверть века, но исключительно редкий цвет их ностальгически помню. Высокие тяжёлые шкафы украшали прихожую. В шкафах была видна посуда и ящички с бижутерией.
— Игорь!
Из колена коридора появилась низкорослая девушка в чёрных тряпочках. Большеносая, с аккуратно окрашенным белым клоком волос у лба, она вошла в раскрытые руки Рыжего. На меня пахнуло резкими духами. Поцеловавшись, они расклеили объятья.
— Познакомься, Дороти… Это мой мэйор ами, Эдвард… Трэ гранд экриван…4
Я не выношу манеру Рыжего представлять друзей, как «трэ гранд» художников или писателей. Я его предупреждал несколько раз не употреблять по отношению ко мне пышные и глупо звучащие эпитеты. Дороти подала мне руку и, поколебавшись мгновение, подставила щеку. Затем вторую. Судя по выражению её лица, она слышала моё имя впервые.
— Вы публикуетесь по-французски?— спросила она.
— Да. У меня вышли три книги во Франции.
Девичье лицо подобрело. Выпустив три книги, можно всё равно оставаться таким же подлецом, вором или убийцей, как и до выпуска трёх книг, но почему-то всех всегда радует, что я их выпустил. Почувствовав, как мой вес увеличился, я втиснул третий поцелуй в уголок рта Дороти.
— Мне сегодня исполнилось двадцать лет!— сказала Дороти, отступив на полшага от меня и схватив Рыжего за рукав.
— Кэль оррор!5— вскричал Рыжий и выпучил глаза.— Кэль оррор! Почему твоя мама не сказала мне, что сегодняшнее парти — твой день рождения? Я пришёл без подарка. Я бы принёс тебе картинку в подарок. Кэль оррор!
— Прекрасно. Принесёшь картинку в следующий раз, когда придёшь к нам опять,— нашлась расторопная Дороти.
Рыжий стал художником недавно. Может быть, повинуясь незримому влиянию сходства своей физиономии с Ван-Роговской, Рыжий взялся вначале за карандаш, потом за кисть. В настоящее время он изготовляет яркие, красивые, бьющие в глаза работы. Следует, по-видимому, относить его «картинки», как они их называет, к полунаивному искусству, но как бы там ни было, обширные социальные связи Рыжего способствуют распространению его творчества в среде богатых кутюрье, и, о чудо, в последнее время его картины покупают всё чаще и чаще.
Дороти потащила нас в глубь квартиры, дабы снабдить дринками, по пути горделиво сообщив, что пригласила на деньрожденческое парти семьдесят три человека.
— Придёт, разумеется, куда больше… Получится за сотню… Маман очень хотела тебя видеть, Игорь, но она появится не раньше одиннадцати. У неё срочная деловая встреча.
Получив из рук Дороти «Блади-Мэри» (безалкогольный Рыжий с наслаждением цедил несолёный томатный сок через пластиковый корешок), я позволил себе рассмотреть бар. Увы, мираж над авеню Думэр обманул меня. Ветчины, розовой, с белым салом, на столе, служащем баром, не оказалось. Было множество типов орешков и разнообразно печёной картошки (проклятых чипсов, ненавидимых мной ещё в Америке!), были маслины и оливы, ещё какие-то сушёные солёности в вазах и вазочках, но никаких сэндвичей. Не было даже вина! Водка, томатный сок, одна бутылка виски и очень много кока-колы. Поддёв ногою спускающуюся низко скатерть, я обнаружил ещё несколько ящиков её же, проклятой.
— Жрать хочешь?— спросил Рыжий участливо, заметив мой ищущий взгляд.
— Сэндвич бы.— Я загрёб горсть орешков и с отвращением зажевал солёные, запивая их «Блади-Мэри».
— В прошлый раз, после десяти, подали горячее.— Рыжий, позвавший меня, чтобы я пожрал и выпил, был смущён.
Я потянул носом воздух:
— Кухней не пахнет. Сомневаюсь, чтобы они стали готовить горячее на сто человек. Новое поколение, Рыжий. Они живы одной кока-колой и орешками.
Они были живы ещё и музыкой. В большой гостиной у камина (нам было видно сквозь распахнутые двери маленькой гостиной, где мы стояли, нависая над столом-баром) обширный угол был занят электронной аппаратурой, декорированной приборами с дрожащими стрелками и живо мигающими разных цветов лампочками. Среди аппаратуры уже возились три молодых человека, пробуя на наших с Рыжим барабанных перепонках свои усилители и смесители. Оторвавшись от Рыжего, я прошёл в центр большой гостиной и сделал несколько движений бёдрами. (Не выпуская бокал из рук.) Юноши среди аппаратуры одобрительно, как мне показалось, хмыкнули. Из глубин квартиры появилась Дороти с двумя девушками, такого же типа, как и она. Из категории не интересующих меня девушек. Прошли, скрипя старым паркетом, к бару. Хихикая, на всех шести ногах чёрные чулки, затоптались вокруг Рыжего, как пони в Люксембургском саду вокруг единственного осла. Я пошёл к ним, по пути завершив опустошение бокала.
— Эдуард?— Дороти ждала, что я продолжу за неё, прибавлю забытую ею русскую фамилию.
Я, вежливый, прибавил.
Девушки звались Сильви и Моник. Сильви была бы вовсе ничего — блонд с мягкими большими губами, в которые — я тотчас же представил (как ранее предвкушал сэндвич) — я вкладываю член. Но у Сильви были короткие ноги, а я не терплю коротких ног. И вообще, я явился не для того, чтобы заклеить девушку, но чтобы пожрать и выпить бесплатно. Я сделал себе ещё «Блади-Мэри». Сказав каждому пару добрых фраз, гостеприимная хозяйка убежала в прихожую, заслышав звонок в дверь. Девушки со стаканами кока-колы стояли рядом, смущённо переглядываясь. Нужно было говорить с девушками.
— Спроси их о чём-нибудь, Рыжий?— предложил я.
Нахально улыбнувшись, Рыжий заметил, что девушки не его возраста. Замечание соответствовало истине. Рыжему 32, но он решительно предпочитает женщин сорока-пятидесяти лет. Ему не нужно за ними ухаживать. Они сами ухаживают за Рыжим, водят в рестораны, покупают его картины, приобретают ему костюмы и спят с ним. Все же он снизошёл к моей просьбе.
— Что ты делаешь в жизни?— спросил он Моник.
Моник, тяжёлой комплекции, тёмная, как и Сильви, коротконогая, обещающая вырасти в неприятную даму, сказала, что собирается стать актрисой.
— Наглая, как танк! Актрисой она хочет быть!— сказал мне Рыжий по-русски.— Посмотри на её фигуру, Эдик… Хамбургер! Да мы с тобой красавцы по сравнению с ней.
Классическими красавцами нас с Рыжим назвать трудно. Но многочисленные женщины Рыжего свидетельствуют о том, что Рыжий не урод. Женщины моей жизни также были многочисленны и порой высокого качества. Назвать Моник уродливой было бы однако несправедливо.
— А что. И такие актрисы нужны. Будет играть домашних хозяек. Посмотри, какие они все ординарные в современном кино. Нарочно невыразительные, похожие на любую девушку из толпы. Что ты возьмёшь крепенькую деревенскую Валери Каприски, что Марушку Дитмерс или эту пизду, как её, самая новая…
— Софи Марсо,— подсказал Рыжий.
— Или эта, которая в фильме «Без закона и крыши»… ну беспризорница, подзаборная девочка…
Тут Рыжий не смог мне помочь. Он лишь улыбался, схватив Моник за руку, и кажется, собирался куда-то эту руку пристроить. Если бы я не знал, что Рыжего молодые девушки не интересуют, я бы решил, что рука Моник будет водружена Рыжим на хуй. Моник вырвала руку и отошла, сердитая.
*
Народ прибывал. Появилось несколько высоких и по-настоящему красивых девушек, к сожалению, явившихся с юношами.
— Мы с тобой выглядим как два влюблённых пэдэ,— сказал я Рыжему.— Ходи, общайся, давай разбежимся на некоторое время…
Я решительно отделился от Рыжего и вышел в гостиную не то с пятым, не то с шестым «Блади-Мэри» в руке.
Рыжий привёл меня на школьное парти. Ошибся. Хотя девки были здоровые и жопатые, у некоторых юношей были совсем младенческие лица молочных поросят. Меня школьное парти нисколько не смущало, а вот Рыжий… Я поискал Рыжего взглядом. Он скучал на диванчике один со стаканом томатного сока. Физиономия у него была грустная. Не было вокруг ни единой женщины нашего возраста, не говоря уже о трогательных пятидесятилетках, решительно предпочитаемых Рыжим. И он даже не может расслабиться, поддав, потому что не выносит алкоголя. Бедняга.
Мне стало жаль Рыжего и я вернулся к диванчику.
— Кажется, мы старше всех,— сказал я.— И намного.
— Да, старичок. Одни дети, хотя и с толстыми ляжками. Извини. Я виноват. Ты любишь запах молока? От девок несёт материнским молоком.
— Терпеть не могу любое молоко, а уж материнское… Гадость, очевидно, ужасная. Что будем делать?
— Я подожду мамашу Дороти до одиннадцати. Она обещала купить у меня картинку. Если она задержится, я слиняю. Завтра мне рано утром нужно валить в префектуру. А ты, если хочешь, оставайся. Можешь уволочь одну из тёлок к себе.
Мне некуда было торопиться. В розовой мансарде под крышей было очень холодно. В склепе девушки Башкирцевой, думаю, было теплее. Я экономил электроэнергию и не пользовался шоф-фажем. И никто меня не ждал. Однако ебаться я не хотел, так как только в середине дня от меня ушла девушка, пробывшая в моей постели два дня. Я был даже рад, что она наконец ушла. Я хотел жрать. Я пришёл к бару и стал поедать маслины, чипсы и всё, что попадалось под руку. Даже печенье. Мы не буржуа салонов, как сказал Жан-Мари Ле Пен. Я собирался завтра утром сесть писать рассказ, заказанный мне журналом «Гэй пьед»6. Нужно было сделать так, чтобы желудок до половины дня меня не беспокоил. Вокруг чирикали девушки. Никакой сентиментальности по поводу девических голосков я не чувствовал. Мы не Марсели Прусты. Во всех девушках я прозревал уже будущих морщинистых владелиц бутиков или упитанных, разбухших к пьедесталу мамаш семейств. Заносчивых инженерш паблисити и жриц бухгалтерии, называемой моими современниками глупо и пышно ИНФОРМАТИК. Я огляделся… Хотя бы одна будущая Мата Хари или Марлен Дитрих. Последняя романтическая девушка Бета Волина ушла из моей жизни, когда мне исполнилось 17 лет. Вышла замуж за футболиста, каковой избивал её после каждого проигрыша своей команды.
— У вас, должно быть, прекрасный желудок, Эдвард,— Дороти появилась из-за моей спины.— Я хочу вас представить… Беттин…
Дороти позволила вдвинуться между собой и мной большой блондинке, лишь несколько более атлетического телосложения, чем принято быть женщине. Руки мои заняты были «Блади-Мэри» и орешками, потому я, вытянув голову, поцеловал Беттин в подставленную щеку. Промелькнули большие, чуть треснувшие в нескольких местах губы.
— …И Рита. Они тоже иностранки. Из Берлина.
У Риты были волосы цвета скорлупы каштана, и в крыле носа торчала головка золотой булавки. Я подумал, интересно, как держится булавка? И почему она не выскакивает, если Рита вдруг сморщит нос…
— Очень рад…— сказал я.
— Эдвард — писатель. Вы можете говорить с ним по-английски.
Сбыв девушек с рук, Дороти бросилась обниматься с молодым человеком, похожим на юного Алена Делона.
Высоко поднятые ярко-красным корсетом платья, удобно помещались передо мной большие белые груди Беттин. Возьми я её сейчас за эти груди, какой будет крик! А ведь именно этого мне и хочется. Не ебаться, но потрогать. Тряхнув головой, я отбросил глупые мысли и сказал:
— Рита! Ваша золотая булавка не выскакивает, когда вы морщите нос?
Берлинские девушки переглянулись, и Рита сказала что-то Беттин на языке германского племени.
— Нет, не вываливается. А вы откуда, из какой страны?
— Из Франции.
— Нет, я имею в виду до Франции.
— Из Соединённых Штатов.
— Так вы американец?
— Нет. Я родился в России.
Далее состоялась беседа из категории наиболее неприятных мне бесед. Труднее всего бывает выбраться за пределы вопроса: «А разве нееврей может уехать из СССР?» Однако с помощью опыта прошлых боёв и напористости мне удалось вырваться из немецкого окружения довольно быстро. Прорвавшись, злой, я в свою очередь задал им трудный вопросик.
— Ну как там «Фронт Лайн» и «Красная Армия»?
— О, это уже в прошлом. Политика никого не интересует. Слава Богу, мы живём не в 60-е годы,— сказала Рита.
— Разумеется,— съехидничал я.— Мир счастливо перебрался в пищеварительный период своей истории. Что же в моде? Секс?
— Сексом никого не удивишь,— сказала Беттин, тряхнув грудьми.— Все делают карьеру.
Я хотел сказать ей, что она могла бы сделать хорошую карьеру с такими грудьми и жопой, если бы похудела, но не сказал.
— Ваше правительство шлёпнуло в 70-е годы троих безоружных в тюремных камерах, уже после суда. Понятно, что теперь молодые люди нового поколения, перепугавшись, делают карьеры в паблисити и информатик. Вне всякого сомнения, хуесосы убили Баадэра и Распэ и раньше их — подвесили Ульрику Мэйнхоф… Ведь невероятно же, чтобы двое заключённых застрелились в хай-секьюрити тюрьме, если даже допустить, что такая крепкая дама, как Ульрика, повесилась?
— Мы не знаем, мы были маленькие,— сказала за обеих коров Беттин.
— Сколько же вам было лет, малышки?
Они даже не знали, когда произошли эти «самоубийства». Я спросил, сколько им лет, и подсчитал за них. Рите было двенадцать, Беттин — одиннадцать.
— А вы что, защищаете террористов?— спросили крошки, пошептавшись.
Споксмэном выступила Бетаин.
— Вы считаете, что можно убивать женщин и детей?
— Нет,— сказал я.— Убивать женщин и детей — последнее дело, если женщины и дети не вооружены Калашниковыми и гранатами и не могут себя защитить.
— А если вооружены, тогда их можно убивать?
— Тогда можно.
— Вы ненавидите людей, да?— сказала Беттин. Щеки её пылали.
— Эй, легче…— сказал я.— Я тоже могу, если захочу, произносить благородные речи… Ладно, оставим это. Секс, конечно, не в моде, «аут оф фэшэн», но могу вас пригласить обеих в постель после парти…
Я произнёс эту фразу несерьёзно, как bad boy7 в американском фильме, и лишь затем подумал, что после двух суток в постели с одной французской девушкой мне наверняка не справиться сразу с двумя немецкими девушками. Да ещё такими здоровенькими. На одних маслинах и орешках?
— Спасибо. Мы уж как-нибудь сами, в своей постели…
Резко дёрнув жопами, они ушли. Протолкались в большую гостиную и стали у камина, притопывая в такт музыке и всё же иногда исподволь поглядывая на меня. «Группа Биль Бакстэр» пела бодрую детсадовскую песню «Амбрасс муа, идиот!» (Обними меня, идиот).
Исключительно из чувства хулиганства я решил добить их. Сделав себе ещё «Блади-Мэри», увы, впереди «Блади-Мэри» не предвиделось, бутылка была почти на исходе, я пробрался к ним.
— Вы видели, конечно, знаменитый фильм «Гитлер»? О нём сейчас много пишут во французской прессе. Я не помню имени режиссёра, но это документальный фильм. Он идёт целых восемь часов. Говорят, сейчас в Германии оживился интерес к Гитлеру. Как вы относитесь к фюреру?
— Мне стыдно, что моя страна дала миру этого монстра! Моя бедная несчастная страна!— Беттин включила щёки.
— Вам совершенно незачем стыдиться Гитлера. Это неразумно. С точки зрения истории мосье Гитлер несравнимо интереснее всех благонамеренных юношей и девушек благонамеренной новой Германии. Если ему и его эпохе будет посвящён целый том даже в краткой истории нашего века, то пищеварительному периоду, в который мы с вами живём, будет посвящена одна страничка. И та уйдёт на описание действий группы Баадера и Исламик Джихад…
Они взлетели, как два больших жирных голубя в Люксембургском саду, вспугнутые сапогом проходящего солдата. Мирные жопы мирной Германии. Я допил «Блади-Мэри» и поставил стакан на камин. Огляделся. Большая часть молодого поколения танцевала, неровно колыхаясь и мирно подпрыгивая. Танцующие дружески беседовали и перекрикивались. Юноша в очках, с вихром русых волос надо лбом, «умный студент», как мысленно назвал я его, пытался тащить за руку высокую горбоносенькую девушку в белой блузке и в чём-то убеждал её, но в чём — не было слышно, хотя они помещались рядом, за моим плечом. От девушки время от времени подлетало ко мне сладкое облако запахов, состоящее из её мэйкапа, духов, сладкой губной помады и, может быть, запаха конфет-карамелек. Такими карамельками я хрустел в детстве… Что-то похожее на раскаянье шевельнулось во мне. Зачем я приебался к двум здоровым, упитанным спокойным животным с Гитлером, с героями и психопатами. Вот к ним (я мог видеть, что они стоят у бара, на диванчике за их жопами угадывался разговаривающий с девушкой с рыжим шиньоном Рыжий) подошли два высоких парня. Оба в джинсах и пиджаках. Каждый на голову выше меня. Сейчас они сговорятся и к ночи устроят в квартире одного из них здоровое спаривание немецких девушек с французскими юношами… Я подошёл к девушке с простым лицом деревенской бляди и пригласил её танцевать. Мне показалось, что она смотрит на меня приветливо. Мы сделали несколько пробных движений, и я немедленно почувствовал себя голым, видимым всем до самой отдалённой складки кожи. Мой агрессивно-трагический стиль никак не вязался с манерой танца не только этой девушки в частности, но и всей этой толпы мирных молодых людей. Вокруг меня и моей партнёрши тотчас же образовался пояс отчуждённости. Нас сторонились другие танцующие. Я двигался гротескно, метался, жил то в мелких дробных прыжках, то вдруг поворотах, они же танцевали, переговариваясь между делом… Моей партнёрше было трудно со мной, я видел, как ей трудно и как ей стыдно. Потому что я увлёк её в мой абсурдный стиль, а она этого не хотела, ей было неудобно перед толпой. Она стеснялась вместе со мною быть другой. Я увидел, как она обрадовалась, когда вдруг кусок музыки закончился. Спиной, вымученно улыбаясь, она отпятилась в толпу, и толпа сомкнулась. Я хорошо танцую, посему дело было не в смущении за мои неуклюжие или неуместные движения, нет, я твёрдо знал, что я хорошо танцую. В лучшие времена мне удавалось срывать аплодисменты зрителей. Ей было стыдно быть, как я. Заодно со мной. Танцующей не дискоритм, но Шекспира!
Я прощался с уходящим Рыжим, так и не дождавшимся мадам мамаши, когда над нами навис красивый, вежливый молодой человек. Очень красивый и очень вежливый.
— Дороти сказала мне, что вы писатель,— обратился он ко мне.
— Да,— охотно подтвердил я и подумал, что, может быть, он читал мои книги.
Нет, он не читал. Та же Дороти сказала ему, что Рыжий — художник. Он приблизился, чтобы сообщить нам, что он заканчивает профессиональное учебное заведение, специализирующееся в изготовлении мастеров паблисити. Он сказал, что считает свою профессию исключительной и рад представиться представителям столь же исключительных, хотя и более традиционных, профессий. На лице юноши крепко сидела маска значительности. Мы с Рыжим тоже сделали серьёзные выражения лиц.
— В начале этого учебного года я перешёл на отделение «видео-паблисити», так как считаю, что видеопаблисити быстро становится всё более перспективной профессией. В этой области я смогу делать куда больше денег, чем я мог бы делать, закончив отделение, на котором я учился в прошлом учебном году…
— Да,— сказал Рыжий,— видео-паблисити — это келькэ-шоз!— Рыжий причмокнул губами.
Я знал, что Рыжий мечтает купить видеокамеру, чтобы снимать голых баб.
— Угу,— поддержал я Рыжего,— вы выбрали себе прекрасную профессию. Я желаю вам сделать много денег.
Юноша снисходительно улыбнулся.
— Не волнуйтесь. Я сделаю мои деньги. Я ещё очень молод. Мне только девятнадцать лет.— И он поглядел на нас с Рыжим покровительственно, очевидно жалея нас за то, что мы не учимся на таком прогрессивном отделении, и за то, что нам не девятнадцать лет. Вежливый и самодовольный, он отошёл от нас.
— Ну и мудак!— сказал Рыжий.— Редкий мудак. Такой молодой, а уже мудак.
— Да,— сказал я,— глуп, как пробка. К нам он ещё снизошёл, даже подошёл представиться, как равный к равным, генерал к генералам… Можешь себе представить, Рыжий, как он ведёт себя с простыми смертными?
— Жуткий мудак!— резюмировал Рыжий.— Ну, я пойду, старичок. А ты оставайся и обязательно возьми себе пизду!
Я остался. Я решил ещё понаблюдать их, чтобы унести с собой абсолютно нужные писателю сведения. Я уже не сомневался в том, что сформулировал для себя эту несложную мысль по-английски, что «I don't like them». Но я хотел знать подробности. Почему я не люблю их. Сжимая в руке бокал с виски (водку я прикончил), чувствуя, что неумолимо пьянею, я разглядывал танцующих и размышлял. Прежде всего, я разрешил себе безграничную критику новых людей, двигающихся передо мной. Какого хуя, сказал я себе, почему я обязан любить новых людей, их поколение? Откуда это рабское преклонение перед всякой новизной, Эдвард? Ты имеешь право не любить их, и никаких скидок на юность! Ребёнок тоже человек, и пятилетний гражданин может зажечь спичку. Все ответственны, и никто не исключён… Они глупы и бескрылы. Столкнувшись с несколькими из них, ты выяснил себе, что они неинтересны. Что они ужасающе лимитированы: немки не пожелали говорить о Гитлере. Им известно лишь одно измерение, упрощённо-дикарское и примитивное, Гитлер для них монстр. Может быть, он был монстр с точки зрения общечеловеческой морали, но человек, так попотрошивший старую Европу, заслуживает интереса… А эти глупые курицы!.. А самодовольный будущий жрец паблисити…
— What do you want from life?— спросил я жующую маслину за маслиной, беря их из вазы на камине, девушку с белым клоком над лбом, как у Дороти. Основная масса волос была чёрной.
— Что?!— прокричала она сквозь музыку.
— Чего ты хочешь от жизни?!— прокричал я, подавшись к уху девушки.
Запудренные крупные поры кожи надвинулись на меня, как гравюрное клише, травленное на цинке,— вдруг.
— Ты что, работаешь для статистической организации?
— Нет. Для себя…
— Ты пьян!— поморщившись, белоклоковая отодвинулась.
— Ну и что?— сказал я.— Я никого не трогаю…— И я снял, очевидно в знак протеста, куртку с попугаями и положил её на доску камина. Разорванная тишорт с «Killers world tourne» на груди задиристо обнажила себя толпе.
— О-ооо! Какой шик!— насмешливо простонала белоклоковая.
— Подарок,— пояснил я гордо.— Дуг — мой приятель.
— Дуг? Какой Дуг?
— Ну да, Дуг, Дуглас, барабанщик Киллерс, бывший барабанщик Ричарда Хэлла….
— Я не знаю, о ком вы говорите, и вообще, чего вы ко мне привязались…— Она демонстративно отодвинулась ещё. Отодвинуться далеко она не могла, толпа была плотной.
— Привязался? Я не привязался, я думал, вы хотя бы знаете музыку. А вы не знаете. Вас ничто не интересует…
— Ça va pas?8— спросила она, покачала головой и, боком протиснувшись в толпу, постепенно исчезла в ней. Последним скрылось напудренное лицо и ярко-красные губы, извивающиеся в процессе жевания маслины. Вынув косточку, она показала мне издалека язык.
«Их ничто не интересует. Они даже не знают своей собственной музыки. Они знают бесполого Майкла Джексона или Принца, потому что не знать их невозможно, их насильно вбивают в сознание. Откуда им знать Ричарда Хэлла? Я вспомнил, что мой первый перевод с английского на русский был текстов Лу Рида. Я перевёл их из журнала «Хай Таймс». Тогда меня интересовала новая музыка. Меня всё интересует… Пизда с белым клоком!» Разговаривая таким образом сам с собой, я отправился сквозь качающуюся толпу за новой порцией виски.
Уровень виски в бутылке почти не понизился со времени моего последнего визита к бару. Зато множество пустых бутылок из-под кока-колы были рассеяны по столу, и пара пластиковых синих ящиков с пустой кока-коловой стеклотарой высовывалась из-под стола. Благоразумные, они остерегаются разрушать свои организмы алкоголем… Кока-кола — их напиток. Я понял, что меня злит их порядочность, безалкогольность, их нездоровая здоровость. Могучие тётки с большими жопами и ляжками и мужичищи со щетиной на щеках грызут орешки и пьют сладкую водичку, как питомцы детского сада. В их возрасте во времена войн и революций ребята бросали бомбы в тиранов, командовали дивизиями, ходили в конные атаки с клинками наперевес, а эти… Э-эх, какое пагубное падение…
Решив, что виски им всё равно не понадобится, я налил себе бокал до края.
— Ça va9, Эдуард?— насмешливо спросила меня на ходу Дороти и, не дожидаясь ответа, втиснулась в толпу.
— Ça va,— сказал я, отвечая себе на её вопрос.— Эдуард всегда ça va… Он, кажется, надирается, но в этом факте ничего страшного нет… Эдуард промарширует через весь Париж и за полтора часа отрезвеет. Ну, если не совсем отрезвеет, то хотя бы наполовину.
— Что ты думаешь о Кадафи? Do you like him?— прошипел я в ухо немки Беттин, так как обнаружил себя продирающимся мимо её крупнокалиберной жопы.
Немка даже подпрыгнула от неожиданности и, отпихнув меня бедром, прокричала:
— Оставь меня в покое!
— Да, я оставлю тебя в покое, корова!— сказал я и, бережно прижимая к груди бокал с виски, полез в месиво торсов, задниц, шей и локтей.
— Sick man!10— пришло мне вдогонку.
«Больной» меня обидело. Я включил задний ход и, оттолкнув обладателя серого пиджака с галстуком, головы я не увидел, она помещалась где-то надо мной, оказался вновь у могучей задницы.
— Я прекрасно здоров,— сказал я и поглядел на немку с презрением.— Всё дело в том, что я real man. Ты же, корова, никогда не поймёшь, что такое настоящий мужчина и всю жизнь будешь спариваться с себе подобными домашними животными мужского пола. В вас нет страстей! Вы как старики, избегаете опасных имён и опасных тем для разговора. Так же, как опасных напитков. Вы — fucking vegetables!11
— Я вижу, Эдвард, что вы, в противоположность нам, не избегали весь вечер опасных напитков,— строго сказала явившаяся неизвестно откуда Дороти.— Пожалуйста, не устраивайте скандал в моем доме!
Музыка вдруг исчезла, оборвав металлическую бесхарактерную диско-мелодию, и отчётливо были услышаны всеми последние слова Дороти.
— Я думаю, тебе… Вам…— поправилась она,— лучше уйти, Эдвард. Оставьте нас, пожалуйста, в нашем растительном покое!
— Stupid маленькие люди,— сказал я,— fucking глупые домашние животные. Вы отдали наслаждение борьбой — главное удовольствие жизни — в обмен на безмятежную участь кастрированных домашних животных… Вспомните Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них вступает в бой…» Вы — не достойны жизни и свободы. Souffarance! Douleur12…— передразнил я, сам не зная кого.— Вы так боитесь суффранс и дулер, вы хотите испытывать только позитивные пищеварительные эмоции. Digestive generation!13 Кокаколя сэ са-ааа!14 — пропел я, упирая на «Коля».
— Ху ду ю тсынк ю арь?!— на визгливом английском закричал самый худосочный из них, прилизанный, небольшого роста очкарик.— Ты что, панк? Ты думаешь, мы боимся твоих мускулов?
Я вспомнил, что у прикрытого только Киллерс-тишоткой у меня, да, есть и видны мускулы.
— Не is Russian!15— возмущённо сказала Беттин.
— Эдуар, я прошу вас уйти!— уже истерически вскрикнула Дороти.
— Я если я не уйду, что будет?
— Мне придётся вызвать полицию…
— Нам не нужна полиция. Мы справимся сами…— Упитанный, чистый юноша, разводя руками толпу, пробирался к нам. Несомненно, университетский атлет. Блондин, странно напоминающий Джеймса Дина, но раздувшегося от инсулинового лечения.
— Иди, иди сюда, прелестное дитя!— сказал я, перефразируя забытого мною русского поэта.— Приближайся!— Я поманил его пальцем.
От моей гостеприимности пыл его, кажется, поохладел. Во всяком случае, Джеймс Распухший Дин приближался медленнее, рассчитывая, может быть, что девушки успеют схватить его за бицепсы с криками: «Не надо, Саня!» Впрочем, я сразу же вспомнил, что действие происходит во Франции, в Париже, а не на Салтовском посёлке — окраине Харькова. Я же, разумеется, блефовал, то есть у меня не было ни ножей, ни револьверов, плюс я знал, что я очень пьян и достаточно просто разогнаться и толкнуть меня, чтобы я свалился. Я угрожающе сунул руку в карман брюк…
Позже выяснилось, что это была в корне неверная тактика. Нужно было не упорствовать и уйти. На что я надеялся? Собирался драться с толпой юношей? Что вообще может сделать один пьяный тип в толпе, окружённый со всех сторон? Ничего. Но они не желали рисковать. Нечто тупое и холодное ударило меня по затылку сзади, и белые кляксы мгновенного бенгальского огня закрыли от меня лица представителей digestive generation. Так Энди Уорхол заляпывает портреты знаменитых людей брызгами краски. Кляксы сменились наплывающими с тошнотворной медленностью друг на друга белыми же пятнами, а затем темнотой. Как дом, умело взорванный американскими специалистами, я аккуратно опустился этаж за этажом вниз. Вначале колени, потом бедра, туловище, руки, и, наконец, накрыла всё крыша.
Когда я открыл глаза, оказалось, что я таки накрыт. Моей же курткой с попугаями. Я лежал в холодной старой траве, и вокруг меня столпились растения, чтобы разглядеть идиота. Может быть, это был Ботанический сад. В стороне, сквозь листву, разбрызгивал свет, несомненно, фонарь. Голова весила в несколько раз больше, чем обычно… Человек бывалый, я потрогал голову. С физиономией и ушами было всё в порядке. Рот, десны и язык функционировали нормально. Все зубы, я прошёлся по ним языком, были на месте. Правая рука в локте побаливала, но не очень. Беспокоила меня задняя часть черепа. Я повозился, сел и только тогда ощупал затылок. Он увеличился в размерах. Мне даже показалось, что у меня два затылка. Несомненно также, судя по густо, в комок, слипшимся волосам, на затылке запеклась в корку кровь. Однако я снова легко прошёлся пальцами по корке, разлома скорлупы головы не нащупывалось. И это было самое главное. Дёшево отделался.
Встав на четыре конечности, я попытался принять вертикальное положение. Голова перевешивала, и посему на поднимание у меня ушло несколько минут. Скорее даже не на сам процесс поднимания, мышцы ног действовали исправно, но на то, чтобы освоиться с держанием новой, много более тяжёлой головы. Я встал и, держась за ствол дерева неизвестной мне породы, огляделся… Заросли простирались, насколько позволял видеть глаз. «Большая дорога начинается с обыкновенного первого шага, Эдвард»,— сказал я себе по-русски и совершил этот первый шаг. Денег оплатить такси у меня не было, мысли о существовании метро мне даже в голову не пришли, в этот час ночи они были бы абсурдны, посему нужно было шагать. Плаща своего в окрестностях я не обнаружил. После десятка шагов сквозь заросли меня неожиданно вырвало. Так как меня уже лет десять не рвало, исключая те редкие случаи, когда я по собственному желанию засовывал два пальца глубоко в рот, желая избавиться от проглоченных гадостей, то струя вонючей жидкости, вдруг брызнувшая из меня на невинные старые травы, меня ошеломила.
— Ни хуя себе!— пробормотал я и, сорвав поздний большой лист, вытер листом рот. Застегнул молнию на куртке до самого горла и побрёл к фонарю…
Выяснилось, что я нахожусь в парке, спускающемся от Трокадеро к мосту Йены и Эйфелевой башне. Я думаю, что, испугавшись содеянного, папины детки, добрые души, привезли меня в автомобиле и оставили в парке, накрыв даже курткой. Очевидно, им было ясно, что я жив, посему они лишь хотели свалить от ответственности. От суффранс и дулер, которые вызовет у них беседа с полицейскими, ибо представители законности несомненно попытаются узнать причину появления мужчины с разбитой головой и без сознания в апартменте Дороти… Я недооценил их способности. За что и получил. Однако я справедливо винил себя и только себя. Если ты сам нарываешься на драку, не жалуйся потом, если тебя побьют. А они тебя побили, Эдвард…
Я пошёл, держась Сены, ориентира, который всегда на месте, и даже пьяный человек с разбитой головой не сумеет выпустить из виду такой выразительный ориентир.
Приближаясь к пляс де ля Конкорд, я сочинил себе рок-песню на английском языке. Чтобы веселее было идти. Потирая руки, я шёл и распевал:
Не looks James Dean
At least what people said
He's nice and sweat
But he is slightly fat…16
Далее я исполнял арию аккомпанирующего музыкального инструмента, может быть, пьяно или гитары с одной струной, и прокрикивал припев:
I'm an unemployed leader!
An unemployed leader!
An unemployed leader!17
Под «безработным лидером» я, очевидно, имел в виду себя. Не инсулинового же блондина…
Возле моста Арколь меня застал рассвет. Было холодно, но красиво.
1 Coca-Cola generation and unemployed leader (англ.) — поколение кока-колы и безработный лидер.
2 Cimetière (франц.) — кладбище.
3 Haute couture (франц.) — высокая мода.
4 Это мой мэйор ами, Эдвард… Трэ гранд экриван… (сказано на эмигрантском французском) — Мой друг Эдвард. Очень большой писатель…
5 Quel horreur! (франц.) — Какой ужас!
6 «Gai pied» (франц.) — журнал для геев.
7 Bad boy (англ.) — плохой мальчик.
8 Ça va pas (франц.) — Ты что, не в себе? Не в порядке?
9 Ça va (франц.) — Всё в порядке?
10 Sick man! (англ.) — Больной!
11 Fucking vegetables! (англ.) — Ёбаные овощи!
12 Souffarance! Douleur… (франц.) — Страдание! Боль…
13 Digestive generation! (англ.) — Пищепереваривающее поколение!
14 Coca-Cola c'est ça-a-a! (франц.) — французская реклама кока-колы.
15 Не is Russian! (англ.) — Он русский!
16
Не looks James Dean
At least what people said
He's nice and sweat
But he is slightly fat… (англ.) —
Он смотрится Джеймсом Дином,
По крайней мере, так говорят люди.
Он хороший и сладкий,
Но он немного жирноват…
17
I'm an unemployed leader!
An unemployed leader!
An unemployed leader! (англ.) —
Я безработный лидер!
Безработный лидер!
Безработный лидер!
из сборника рассказов
«Обыкновенные инциденты» • 1987 год
Мутант
В те времена Жигулин был работорговцем. Торговал молодыми, красивыми и хорошо сложенными девушками. Выискивал их в диско, ресторанах и барах Нью-Йорка и переправлял в Париж, где продавал модельным агентствам. Прибыв в Париж, они останавливались в моём апартменте. Нет, я не получал проценты за моё гостеприимство, я уступал часть моей территории из любопытства и в надежде на бесплатный секс…
Она появилась в моих дверях, одетая в глупейшие широкие восточные шаровары из набивного ситца в выцветших подсолнухах, на больших ступнях — растрескавшиеся белые туфли на каблуках. На плечах — блуджинсовая куртка. Бесформенная масса волос цвета старой мебели. От неё пахло пылью и солдатом. Из-за её плеча выглядывала маленькая красная физиономия парня, державшего в обеих руках её багаж.
— Я — Салли,— сказала она. Улыбнулась и облизала губы.— А ты — Эдвард?
— Ох, это я… Куда же ты исчезла, Салли? Ты должна была появиться четыре часа назад? Мне есть что делать помимо ожидания Салли из аэропорта…
Она радостно улыбнулась.
— Я ездила смотреть апартмент Хьюго.— Она обернулась к парню.
— Да. Мы ездили смотреть мой апартмент.
В глазах Хьюго я увидел страх. Может быть, она сказала ему, что я её отец.
— Спасибо, Хьюго, за то, что ты привёз её,— сказал я сухо.— Гуд бай, Хьюго. Салли идёт принимать ванну.
Он ушёл, как осуждённый уходит в газовую камеру. Я закрыл дверь и поглядел в её лицо более внимательно. Она опять широко улыбнулась и гостеприимно показала мне зрачки цвета шоколада без молока. Я не нашёл никакой воли в них. Её глаза были глазами коровы. За месяц до приезда Салли я достаточно насмотрелся на коров в Нормандии. Я понимал теперь, почему четыре часа прошло между телефонным звонком из аэропорта и появлением Салли в моем апартменте.
— Я хочу, чтобы ты приняла ванну,— сказал я.— Сними с себя немедленно эти ужасные тряпки.
Она сняла.
— А Саша придёт повидать меня?— спросила она, когда я вышел из моей крошечной ванной, где приготовлял её омовение.
Она стояла совсем голая и большим пальцем одной ноги потирала щиколотку другой. Вокруг на полу валялись её одежды. Сняв, она лишь уронила их на пол.
— Нет. Саша не придёт. Он звонил сегодня трижды. Мы волновались, куда ты могла исчезнуть из Шарль-де-Голль… Он очень зол на тебя. Ты сделала любовь с Хьюго?
— Он хороший парень, этот Хьюго,— сказала она.— Нет, я не делала. У него очень маленькая комната на последнем этаже.— Она задумалась на некоторое время.— Вид из окна, однако, приятный… Нет, я не делала,— повторила она и потёрла ещё раз ступню о ступню.
— Если бы оказалось, что у него большой апартмент, а не маленькая комната, ты сделала бы с ним любовь?— спросил я серьёзно.
— Я не знаю. Может быть,— она вздохнула.— Я устала, Эдвард.
— ОК. Иди в ванну.
Она, послушная, пошла. Я стал собирать её одежды с пола.
*
5 футов 11 дюймов, 125 паундов. Она сидит в кухне на стуле, кроме тишорт, на ней нет одежды, и монотонно рассказывает мне свою историю. Рассказывая, она похлопывает себя по холмику между ног и машинально закапывает пальцы в волосы на холмике.
— …Потом я встретила Оливье. Он был француз. Он был очень богатый, несмотря на молодость, ему было только 19… Оливье водил меня в дорогие рестораны и хотел меня ебать, но я не хотела, потому что он мне не нравился. В то время я опять жила в Нью-Йорке и искала работу… Однажды Оливье сказал мне, что его друг Стив ищет секретаршу на несколько дней. Я сказала, что я была бы счастлива работать для Стива, но что я не умею печатать на пишущей машине… Стив оглядел меня и сказал, что мне не нужно будет печатать, что единственной моей обязанностью будет отвечать на телефонные звонки… На второй день работы у Стива в офисе я подслушала разговор между Стивом и его другом… Они говорили о драгс… оказалось, что Стив недавно получил откуда-то кучу всяких драгс. Среди других Стив упоминал и квайлюды. Я спросила: — «Стив, могу я иметь несколько квайлюдов?» — «Без сомнения, моя сладкая!— сказал Стив.— Ты хочешь принять их сейчас?» — «Да!» — сказала я. Потом они оба выебли меня…
— Ты хотела с ними е… делать с ними любовь?
— Нет. Стив хороший парень, но он уродец.
— А его друг?
— Он старый. Тридцать семь, я думаю.
— Тогда зачем ты согласилась?
— Квайлюды обычно делают меня очень слабой, Эдвард. К тому же я хотела сохранить за собой работу.
— Даже если только на несколько дней, Салли?
— Стив держал меня три недели. И он платил мне 200 в неделю. И билетами, не чеком, Эдвард!
— И держу пари, они ебали тебя каждый день оба, Салли… Да?
— Не совсем так… Почти.
— Вот настоящая эксплуатация. Они наняли тебя ебаться с ними за 200 долларов в неделю. Дешёвая проститутка стоит 50 долларов за раз, колл-гёрл — сто долларов в час. Ты что, глупая, Салли?
— Я не очень сообразительная, Эдвард,— соглашается она неожиданно.
*
Она не очень сообразительная, это ясно. Но почему она так притягивает к себе мужчин, мне совсем неясно. А она притягивает их. Десятки мужских голосов в день спрашивали Салли. После всего нескольких дней в Париже она сделалась более популярна, чем я после нескольких лет…
В тот первый день я приказал ей после ванны идти в постель, и когда я явился в спальню вслед за нею и лёг на неё, она ничуть не удивилась и не запротестовала. Я лёг на неё, я сжимал её неестественно маленькие, твёрдые груди… Странная улыбка не удовольствия, но удовлетворения была на её потрескавшихся губах — единственный знак участия в сексуальном акте. Её волосы пахли пылью и после ванной. Большие ноги возвышались в молчаливом величии по обе стороны моего торса. Её дыхание было ритмическим и спокойным. Было ясно, что она ничего не чувствует.
Впоследствии мы так и продолжали спать в одной постели, хотя я больше никогда не пытался делать с ней любовь опять. В ливинг-рум находилась другая кровать, но Салли никогда не спросила меня, может ли она спать отдельно от меня. Как хорошая большая маленькая девочка, она безропотно подчиняется желаниям мужчины. С ней хорошо спать. Она не ворочается во сне, не храпит.
По утрам, без мэйкапа, она — крестьянская девочка. Я думаю, она составила бы прекрасную пару Тарзану. Её прошлые приключения, однако, были много опаснее невинных прогулок Тарзана по джунглям.
— …и я вернулась к родителям, Эдвард. В вечер Кристмаса я и Мэрианн поехали в местный бар. Бар был полон, и все были пьяные в баре…
— Эй, какого хуя вы отправились в бар вечером Кристмаса? Искать на свою жопу приключений?
— Мэрианн хотела увидеть своего экс-бой-френда, Эдвард. Она думала, что он может быть в баре в этот вечер… Его там не оказалось, но мы заказали пиво. За одним из столов сидела банда пьяных парней. Завидев двух одиноких девочек, они стали кричать нам всякие глупости и гадости… О, мы не обращали на них внимания. Потом Мэрианн пошла в туалет. Когда она возвращалась, один из парней схватил её за задницу… Моя сестра, о, Эдвард, она очень специальная девушка! Она не уступит парню! Она по-настоящему дикая, Эдвард… Мэрианн схватила с бара две бутылки пива, разбила их друг о друга и воткнула один осколок в плечо обидчика. К несчастью, она глубоко распорола себе руку другой бутылкой. Боже, Эдвард, все стали драться! Я швырнула мой бокал в рожу парню, бросившемуся на меня, и сильно поранила его. Вся физиономия в крови, он заорал: «Fucking bitch!» — и бросил в меня стул. Стул попал в бар…— Лицо Салли сделалось оживлённым более, чем обычно при воспоминании о её героическом прошлом…— В конце концов бармен закричал нам: «Бегите, девушки! Бегите!» Мы выскочили из бара, прыгнули в машину и отвалили… Я облегчённо вздохнул и порадовался тому, что отважные сестры счастливо сбежали от банды негодяев. Happy end.
— …но хуесосы тоже прыгнули в их автомобиль и рванули за нами. Через десять минут они стукнули нас сзади. Хуесосы хотели сбить нас с хайвэя в канаву… Два часа, Эдвард, мы мчались между жизнью и смертью. Я была за рулём. О, это было нелегко. В конце концов мы сбили их в канаву, и их автомобиль перевернулся! Мы поехали на парти. Через полчаса Мэрианн упала, лишившись сознания во время танцев… Она потеряла много крови.
— Почему вы такие дикие там у себя? Вы что, пещерные люди?
Салли счастливо улыбнулась.
— Сказать по правде, Эдвард, я сбежала в Париж от одного сумасшедшего парня. Моего экс-бойфренда. Он только что вышел из тюрьмы. Он убил бойфренда своей сестры за то, что тот сделал сестру беременной и бросил её.
— Звучит, как история из семнадцатого века. Я и не предполагал, что люди в Новой Англии до сих пор ещё ведут себя как дикари.
Салли улыбается моей невинности.
— Он больной — этот парень. Он, бывало, ловил меня на улице, бросал в машину, привозил к себе, насиловал меня, выпивал весь алкоголь, сколько бы его ни было в доме… Иногда он ломал мебель и потом, устав, засыпал. Тогда я убегала. Утром он ничего не помнил.
— Надеюсь, он не знает, где ты живёшь в Париже? Пожалуйста, Салли, не давай ему мой адрес! Ни в коем случае…
Она начала сексуальную жизнь в 13 лет. В 15 она забеременела в первый раз. Аборт. Она утверждает, что сделала любовь с сотнями мужчин. Её наивысшее достижение — несколько месяцев она была герл-френд знаменитого теннисиста Джи.
— О, какая у меня была прекрасная жизнь, Эдвард! Он давал мне деньги и каждый день… он выдавал мне два грамма кокаина!
Салли гордо поглядела в моё зеркало на длинной ручке. У Салли нет своего зеркала. Странная модель, не правда ли? Модель без зеркала.
— И что ты должна была делать за эти два грамма кокаина?— спросил я скептически.
— Ничего. На самом деле ничего. Только делать с ним любовь, когда он хотел делать любовь.— Она положила одну большую ногу на другую.— У меня была действительно прекрасная жизнь. Он уезжал тренироваться каждый день, а я отправлялась покупать себе одежду или оставалась дома, нюхала кокаин и слушала музыку. У меня было пятьсот кассет в моей коллекции, Эдвард! О, что за жизнь у меня была!.. Хорошая жизнь.— Она вздохнула.
— Почему же ты не осталась с ним? Он тебя бросил?
— Нет. Я потеряла его.
Если бы другая девушка сказала мне это, я бы не поверил ей. Но Салли я поверил.
— Я поехала к родителям, я уже говорила тебе. За то, что я вернулась, они подарили мне новый автомобиль. Спортивный. Потом я разбила этот мой пятый автомобиль и приземлилась в госпитале с несколькими переломами… Когда через несколько месяцев я вернулась в Нью-Йорк, оказалось, что он сменил апартмент.— Лицо Салли внезапно стало грустным, и она задумалась: — Ты не знаешь, Эдвард, где я могу найти его?
— Неужели у него нет постоянного адреса? Он должен иметь дом или квартиру. И у такого известного и крупного теннисиста, как он, несомненно, есть агент… Попытайся найти его через агента или же через спортивные организации, Салли.
— Ты мог бы найти мне богатого мужчину, Эдвард?— спросила она меланхолически, без всякого энтузиазма.
— Неужели я выгляжу как человек, который имеет богатых друзей, Салли?
— Да, Эдвард,— сказала она убеждённо.
Ошеломлённый, я поразмышлял некоторое время и в конце концов вспомнил, что у меня, да, есть богатые друзья. Увы, все мои богатые друзья-мужчины — гомосексуалисты.
*
Жигулин-работорговец утверждает, что Салли — женщина будущего. Что она более развита, чем мы, Жигулин и я.
— Сашка, Джизус Крайст, однажды она написала мне записку. В одном только слове «tonight» она сделала несколько ошибок! Я ёбаный русский, но я знаю, как правильно написать «tonight».
— О, вне сомнения, она безграмотна,— согласился Жигулин.— Однако же она cool как Будда. И она живёт в мире с самой собой. Её интеллигентность отлична от твоей и моей, Эдвард. Мы — невротические дети старомодной цивилизации. Она — новая женщина. Мы, с нашей почерпнутой из книг искусственной интеллигентностью, должны исчезнуть, чтобы уступить дорогу новым людям. Тысячам и миллионам Салли.
Он не шутил, работорговец. Он серьёзно верил в то, что она превосходит нас.
— Между прочим,— сказал он.— Я нашёл для неё апартмент. Она может переселиться туда даже завтра, если ты хочешь.
— Нет,— сказал я.— Пусть поживёт ещё некоторое время у меня. Я должен провести некоторые дополнительные исследования. Я хочу проверить, действительно ли она такая свеженовая женщина, как ты утверждаешь.
И она была! В этот период я часто ел куриный суп. Дешёвая, здоровая быстроготовящаяся пища. Вы кладёте половину курицы в кастрюлю с кипящей водой. Лавровый лист, небольшую луковицу и несколько морковок туда же. Через пятнадцать минут после закипания бросьте туда полчашки риса и ещё через десять минут — нарезанный картофель. Я сказал Салли:
— Ешь суп, если ты хочешь. Когда ты хочешь. О'кэй?
— Спасибо, Эдвард!
Однажды я пришёл домой поздно. Салли спала. Я вынул кастрюлю из рефриджерейтера и поставил её на электроплитку. Через несколько минут налил себе в чашку суп. Голые куриные кости плавали в супе.
Я сказал ей на следующее утро:
— Кто научил тебя бросать обглоданные кости обратно в суп? Или ты собака, Салли? Ради Бога, ешь хоть всю курицу. Но бросай кости в ведро для мусора.
Единственной реакцией на моё замечание была улыбка Будды. Сотни смыслов скрывались в этой улыбке.
Салли двадцать лет. Она участвовала в шестнадцати судебных процессах! Судили не её, нет. Салли судила. Её милый седой папочка-адвокат использует дочерей тарзаних для выколачивания денег из мира. За все семь автокатастроф дочурки Салли папа сумел отсудить мани не только у страховых компаний, но и у автомобильных фирм, произведших на свет железные ящики, в которых сломя голову мчалась по американским дорогам женщина нового типа. Незлая девушка Салли иной раз пытается скрыть от папочки место, где произошёл очередной дебош, жалея владельцев бара или ресторана. Но безжалостный папай неукоснительно узнает правду и изымает причитающуюся ему компенсацию.
Кровь и несколько сотен мужских членов — вот что значится в жизни двадцатилетней крошки в графе кредит. Члены все были её возраста или чуть старше. Иногда — чуть младше. Со старыми мужчинами она ебалась только за деньги, и ей было противно,— говорит она. Всегда практично, заранее договаривалась о цене.
— Он сказал, что хочет, чтоб я у него отсосала. Я посмотрела на него… Ему сорок пять, он старый. Я спросила, сколько он может заплатить. Он сказал — двести. Я согласилась. Потом пожалела, что мало. Ведь он старый.
По её стандартам я тоже старый мужчина.
— Салли, я для тебя старый?
— Ты ОК, Эдвард.— По физиономии её видно, что врёт.
Под подбородком у неё слой детского пухлого жира. Подбородок и попка — самые мягкие её части. Всё тело необычайно твёрдое. Недоразвитые, недораспустившиеся почему-то груди не исключение. От шеи, с холки, треугольником на спину спускается серовато-чёрный пушок. Все эти сотни юношей, 500 или 600, или 1.000, не оставили никакого следа на её теле. Оно холодное, как мёртвое дерево.
Я полагаю, что из фильмов, из ТиВи, из металлических диско-песенок она знает, что настоящая женщина должна ебаться, и чем больше, тем лучше. Она делает любовь как социальную обязанность. Пару поколений назад её новоанглийские бабушки точно также считали своей обязанностью производство детей и ведение хозяйства.
Новая женщина вряд ли знает, где именно находится Франция. Я уверен, что если бы кто-нибудь решил подшутить над ней и посадил бы её в самолёт TWA, летящий в Индию, в Дели, и по приземлении пилот объявил бы, что это Париж, она так и жила бы в Дели, считая, что это — Париж. И никогда бы не засомневалась. Даже завидев слона, бредущего по улице. Как-то мы проходили с ней мимо Нотр-Дам.
— Вот Нотр-Дам!— сказал я.
— Что?— переспросила она.
— Знаменитая церковь.
— А-аа! Я думала это…— она задумалась, вспоминая,— как её… башня.
Она думала, что это Эйфелева башня.
Когда, продолжая её исследовать, я устроил ей примитивный экзамен, оказалось, что она никогда не слышала имён Энди Уорхола или Рудольфа Нуриева. Зато, как вы помните, у неё было пятьсот кассет с современной музыкой.
Ей необходимо шумовое оформление. Встав с постели, она первым делом движется к моему радио, полусонная, и ловит какой-нибудь музыкальный шум… Она безжалостно минует станции, где звучит человеческая речь… Выставив большие ноги, сидит и рассеянно слушает, разглядывая в моём зеркале своё лицо. Если музыка вдруг сменяется речью, она немедленно меняет станцию. Застав меня слушающим ВВС, она была очень удивлена тем, что я понимаю английский. Она, о чудо, английского языка ВВС не понимает!
Каким-то чудесным образом одна ветвь цивилизации вдруг проросла стремительнее других ветвей в будущее, и вот по моей квартире расхаживает в большой тишотке агентства «Элит» женщина из двадцать первого века. Тишотка не прикрывает треугольника волос между ног, но пришелица из будущего вовсе не выглядит непристойно. Потому что она уже не совсем «она». Я понял, что Жигулин прав, Салли мутировала, видоизменилась за пределы женщины. Мутант-Салли и ещё женщина, и уже нет. Мутанты, да, выглядят как люди, но они уже нелюди.
Через неделю Салли сделала первые деньги. Я подсчитал, что за всего лишь несколько дней участия в шоу Салли заработала сумму большую, чем издательство «Рамзэй» заплатило мне за третью книгу. Эта арифметика навела меня на грустные мысли о том, что интеллект и талант всё менее ценятся в нашем мире. Что каркас и крестьянская физиономия мутанта с успехом заменяют ей и знания, и талант, и чувства.
Она притопывала большой босой ступней в такт музыкальным шумам, изливающимся из радио, а я думал, что вот он передо мной — может быть, конечный продукт нашей цивилизации. Вот она пользуется радио. Что она знает о радио? Она пользуется всем, ни на что не имея права. Неужели для таких, как она, для ходячих желудков с коровьими глазами свершалась трагическая история человечества. Страдали, умирали от голода лучшие люди: философы, изобретатели, мудрецы, писатели, наконец… Получилось, что для неё, да, Джордано Бруно горел на костре, Галилея осудили, расщепили атом, сконструировали автомобиль, изобрели тайприкордер, радио и ТиВи. Чтобы мутанты разбивали свои автомобили на дорогах Новой Англии, с трудом соображая, где они находятся.
Это для них предлагают урегулировать бюджет, чтобы ещё улучшить их жизненный комфорт, правительства мира. Чтоб отец мутанта купил мутанту новый автомобиль.
Только один раз буддийское спокойствие мутанта Салли было нарушено. О нет, не мной. Представитель исчезающего старого Мира не может возмутить спокойствие Мутанта. Некто Джерри позвонил ей из Новой Англии и сообщил, что умерла её собака.
Мутант издала звук, похожий на короткий всхлип, шмыгнула носом и, обращаясь ко мне, сказала:
— Умер мой дог.
Следующая фраза была уже обращена к Джерри в Новой Англии:
— Как твой автомобиль?
Жигулин прав. Для людей будущего, для мутантов, автомобиль такое же существо, как и собака. И может быть, более близкое и понятное, чем человек…
*
Я бы ещё, может быть, понаблюдал за мутантом некоторое время, если бы однажды, заметив, что она не моет волосы, не спросил её:
— Почему ты не моешь голову, Салли?
— Я не могу Эдвард. Доктор сказал, чтобы я мыла голову как можно реже. У меня экзема скальпа.— Мутант светло и невинно улыбался.
Всмотревшись в её голову, я обнаружил в волосах омертвелые кусочки кожи, покрытые струпьями. На следующий день я попросил её очистить помещение.
из сборника рассказов
«Обыкновенные инциденты» • 1987 год
Салат нисуаз
Какого хуя они решили меня пригласить, я и по сей день не имею понятия. Однако, когда мне позвонила дама из организационного комитета и сообщила, что они меня приглашают, могу ли я приехать в Ниццу за четыре дня, вы думаете, я стал спрашивать, кто ей дал телефон и чем я заслужил такое доверие? Ошибаетесь. Я только спросил:
— Вы оплачиваете и алле-ретур авион и крышу над головой?
— Разумеется,— обиженно всхрапнула дама в трубку.
— Когда нужно там быть? Даты?— лаконично востребовал я.
Даты мне подходили любые, мне совершенно нечего было делать, я даже ничего не писал в ту осень, но для важности я спросил. Она назвала даты.
— Подходит,— подтвердил я.
Они моментально прислали мне пачку бумаг толщиной в палец. Методически перечитав бумаги с помощью словаря, мне удалось выяснить, что специальный самолёт отбудет из аэропорта Шарль-де-Голль, но если я желаю, я могу выбрать любой другой способ передвижения в Ниццу, и они обещают позже выплатить стоимость билета. Мне очень хотелось отправиться на юг в поезде, поглядеть на прекрасную Францию из вагонного окна, воспользоваться случаем, но я побоялся, что хуй с них получишь потом деньги за билет. Доверия к людям у меня нет. К неизвестным организациям, базирующимся в Ницце, тоже.
Я взял в путешествие синюю сумку, заключающую в себе предметы туалета, пару опубликованных мной книг и смокинг в пластиковом чехле, ибо среди других развлечений в программе значилось несколько обедов, имеющих состояться во дворцах и отелях. Ярким солнечным октябрьским утром, страдая похмельем, я явился в аэропорт на автобусе Эр-Франс. «Почему я всегда напиваюсь накануне вечером, если утром мне необходимо быть в аэропорту?— философски размышлял я, входя в стеклянный шатёр Эр-Франс в аэропорту.— Нужно бы давно отказаться от нескольких юношеских привычек, весьма неудобных в размеренной, трудовой жизни писателя…» Я с наслаждением опустился в первое же попавшееся пластиковое кресло и только после этого оглядел внутренности шатра. Прилавки, кассы, группы пластиковых стульев, как деревья и кусты в оазисе, сосредоточились вокруг раблезианского размера пепельниц, оформленных в хром. Потом я увидел бар. Увидев его и обрадовавшись ему, я вспомнил о своём смокинге и, не доверяя залу, встал, взял и сумку, и чехол, и потащил их к бару. Живые существа в зале показались мне бандой профессиональных жуликов, одевших очки, наманикюривших ногти и притворно читающих газеты, а на деле намеревающихся спиздить мой чехол со смокингом.
Я пил «Пельфор», размышляя о том, в какую же сторону мне следует податься, где именно происходит ёбаная регистрация писателей — участников Дней мировой литературы, как вдруг меня обняли за талию. Из-за меня вышел мой приятель Пьер, хорошо пахнущий набором не менее чем трёх крепких и живых одеколонов.
— Эдуард…— начал он драматическим голосом и вдруг встал на пуанты (в дни своей красивой юности Пьер собирался стать балетным танцором)…— и ты тоже, Брут?
— И я…— сознался я, с удовольствием оглядывая моего Пьера, обещающего быть моим единственным знакомым в обещающей быть большой толпе писателей.
— С утра уже пиво, дарлинг?— крупное лицо критика повело носом.
— Где происходит эта ёбаная регистрация, Пьер?— спросил я, не обращая внимания на его родительские манеры. По-моему, он успел уже опохмелиться и потому мог позволить себе снисходительное отношение к менее расторопному собрату.
— Бедный потерявшийся ребёнок! Пойдём, я покажу тебе французскую литературу!— сжалился Пьер.
Я поднял с полу сумку и чехол.
— Эдуар, я вижу, ты собираешься покорить сердце Пьера Комбеско и потому везёшь в Ниццу весь свой гардероб?
— Только смокинг. В Париже я никуда не хожу, хоть в Ницце одену смокинг.
Мы пошли: он — походкой истерика, то вырываясь вперёд, то возвращаясь ко мне, я — упрямым размеренным шагом русского солдата. Солдат, правда, был одет в чёрные узкие брюки, остроносые сапоги и чёрную куртку с плечами, розовый какаду вышит на спине — в свою лучшую гражданскую одежду.
Картавою и быстрой птицею Пьер подлетал ко всё чаще встречаемым нами его знакомым, так или иначе деформированные тела которых изобличали их принадлежность к сословию писателей. Подлетал, как яростный скворец, наклевавшийся только что винных ягод, прокрикивал, широко открывая рот, шутки и опять отлетал ко мне. Вывернув из коридора налево, мы вдруг вышли в открытое пространство, где несколько сотен пожилых мужчин и женщин шевелились, гудели и стояли в нестройных интеллигентских очередях к двум или трём прилавкам. Интеллигентные люди крайне неорганизованны, неорганизованнее их могут быть только маленькие дети или отряд душевнобольных на прогулке. Платки, очки, авторучки, лысины, седые, выкрашенные в цвет красного дерева или пшеничного поля волосяные покровы женщин, глубокие и неглубокие вертикальные и горизонтальные морщины французской литературы окружили меня, и я пристроился к одной очереди, неуместно чётко-силуэтный среди расслабленных пончо, плащей, накидок, твида и трубочных дымков.
Пьер покинул меня, отпрыгнув в сторону, и я, чтобы убить время, мысленно попытался вычислить средний возраст личного состава Дней мировой литературы. На глаз мне показалось, что возраст колеблется между 60 и 65 годами. «Бумагу живым!» — вспомнил я циничный лозунг Маяковского, который возражал против издания произведений классиков. Похоже было, что во Франции бумага принадлежит если не мёртвым, то очень старым. Тотчас же всплыли в памяти и несколько доказательств. Мой приятель Пьер-Франсуа Моро, принёсший в одно издательство роман, был встречен следующим замечанием:
— Куда вы торопитесь, молодой человек, вам только двадцать семь лет!
— Рембо в двадцать бросил писать, а Лотреамон умер в двадцать четыре,— заметил тихий Пьер-Франсуа.
Цивилизации, идеал которой сытый и чистый человек — кот, одомашненный и духовно кастрированный, нужны именно старички на должности толкователей снов. И такие вот дамы вороньего типа со свисающими с цепей очками.
«Ты тоже будешь старичком, бэби»,— сказал мне вдруг проснувшийся во мне мой вечный оппонент Эдуард-2.
«Я? Спокойно делающий пятьдесят пуш-апс и двести приседаний со штангой?»
«Ага. Ты»,— хмыкнуло моё второе я.
«Никогда не изменюсь. Селин умер злым и так и не сделался кастрированным старичком…»
«Поглядим»,— уклончиво заметил Эдуард-2, и мы, воссоединившись опять, дружно забеспокоились о том, что две наглые бокастые бабы, облобызавшись с толстожопым мужиком в плаще и с вонючей сигарой, пристроились впереди нас. «Куда прёте, пёзды?» — хотели мы им сказать, но так как не знали этой фразы по-французски и не посмели разрушить благопристойный гул этого слаженного коллективного хозяйства своим заиканием, промолчали и только ещё раз подумали по-русски: «Куда прёте, пёзды?»
В самолёте со мною уселся не писатель, но хромой фотограф Жерард, насмешливый молодой парень, единожды приходивший ко мне домой снимать меня для не помню какого журнала.
— Как твой французский?— спросил он меня на неустойчивом, как лай комнатной собачонки, английском.
— Точно так же, как твой английский.
— Мы с Жерардом друг друга подъёбываем.
— Почему столько стариков? У Франции, что, нет молодых писателей?— спросил я.
Старческий дом вокруг нас оживлённо двигался, смеялся, садился, кряхтел, кашлял и разворачивал «Ле Монд» и «Фигаро». Жерард, которому 23, засмеялся.
— В вашем бизнесе, насколько я знаю, добиваются успеха небыстро.
Несмотря на то, что Жерард часто снимает писателей, или, может быть, благодаря этому, мне показалось, что он относится с презрительной покровительственностью и к нашему бизнесу, и к писателям. Жерард повесил на шею тяжёлую пушку-камеру с объективом диаметром в кулак хорошего дяди и встал.
— Отправляешься пахать и сеять?
— Угу,— хмыкнул он, уже нацелившись в изборождённого глубокими морщинами дядьку с длинными грязными волосами.
Мы взлетели. Кодло, затихшее было, чтобы выслушать капитана, пожелавшего нам необыкновенных удовольствий в Ницце и сообщившего, что нас в самолёте двести писателей, опять расшумелось.
— Представляете, если самолёт разобьётся,— засвистел женский голос сзади меня,— какой страшный удар для французской литературы!
— Да, лучшая часть французской литературы будет уничтожена!— восторженно подхватил мужской голос.
И они заговорили ещё быстрее о деталях беды, которая постигнет «лё литтератюр франсэ», но я уже не в силах был различить их быстрое интеллектуальное щебетание, к тому же и корпус нашего аэр-бюса задрожал и загудел.
«Разобьётся, освободятся места… Пьер-Франсуа напечатает роман и Тьерри — сборник полицейских историй»,— подумал я.
«Ты тоже гробанёшься, не радуйся!» — прошипел Эдуард-2.
Они во множестве бродили по салону, менялись местами, стояли, наклонившись над собеседниками, а я разглядывал всех двести и размышлял. Милейшие дяди и тёти были удивительно похожи на членов Союза писателей, скажем, города Ленинграда, в полном составе отправившихся на четырёхдневный пикник к Чёрному морю. Дело в том, что у меня, большую часть жизни прорезвившегося в одиночестве, все ещё дикого, неодомашненного зверя, чудом, но сохранилось свежее, социальное воображение, без церемоний связывающее похожести.
«Хуля ты их судишь,— вступился за них Эдуард-2,— ты даже не читал, что они пишут. Разводишь в авионе крутую физиономистику. Тебя что, зовут Ломброзо? Ты что, по типу черепа, по ушам и очкам можешь выяснить степень верноподданности и конформизма?» — «Могу. Разве не ясно, что все они эстаблишмент? А все эстаблишмент мира похожи».— «Тогда и ты эстаблишмент, тебя ведь тоже пригласили»,— объявил Эдуард-2.— «Меня пригласили по недоразумению, потому что я иностранный писатель, живущий в Париже. Или чтобы удешевить расходы. Чем приглашать, скажем, Апдайка из Америки и платить ему туда и обратно первый класс, можно пригласить Лимонова из Парижа…» — «Ты не Апдайк…» — радостно возразил Эдуард-2.— «Я талантливее и Апдайка, и сотен других, но пока это видно немногим!— разозлённо бросил я оппоненту. И добавил: — Ты что целку из себя строишь? Мы же отлично знаем, что писателя начинают по-настоящему читать только после того, как в сознании критиков и читателей осядет его имя. Через годы. Только тогда…»
Встречали нас, как Сталина в его родной Грузии. У выхода из самолёта стояли дети — прелестные девочки, одетые в нечто похожее на национальные костюмы, и раздавали гвоздики. Я прикрепил свою к чёрной куртке. Репродукторы играли весёлую патриотическую ниццеанскую музыку. Высокие пальмы качались в солнечном ветре, подымающем подолы пионерок Ниццы и обнажающем их юные ножки-спичечки и иной раз трусики. «О этот юг, о эта Ницца, о как их блеск меня тревожит…» — вспомнил я строчки поэта Тютчева. В морозной Москве конца шестидесятых годов любила их повторять моя жена Анна. «Вот и в Ниццу сподобились попасть, Эдуард Вениаминович!» — сказал я себе радостно. «Выпить бы сейчас… Стакан красного вина или лучше шампанского…» — предложил Эдуард-2, которому Ницца тоже понравилась.
Верный своей привычке обращаться к помощи местных населений только в исключительных случаях, я сам уверенно вышел к автобусам и, найдя на одном из них надпись «Отель «Меридиан»», влез в его жаркое брюхо. Через несколько минут, однако, мне пришлось вылезти. Нашу литературную толпу, оказывается, должны были показать по ниццеанскому телевидению и запечатлеть на фотографиях. Старухи, старики и дотла загорелые дамы с тоскующими глазами давно неёбанных красавиц, я и другие столпились у автобусов. Несмотря на моё скептическое и скучающее лицо, меня тотчас вытащили из толпы на передний план телевизионные люди и облизали меня камерой. Даже заставили меня повернуться спиной и показать людям города какаду. В Соединённых Штатах Эдуард Лимонов подцепил несколько паблисити-трюков, и главный из них — острый, крутой стиль одежды, необходимый каждому, кто хочет добиться успеха. Я повертелся, скорчил две-три рожи, но убедившись, что интервью не предвидится, решил, что незачем стараться бесплатно, ускользнул в толпу и взобрался в автобус.
В вестибюле отеля «Меридиан», услышав мою фамилию, меня не послали к такой-то матери, не сказали, чтоб я убирался из их города в 24 часа, но выдали пластиковую карту — сверхсовременный ключ. Однажды мне пришлось обитать несколько дней в отеле «Хилтон» в Лос-Анджелесе, но даже там дверь не открывалась при помощи пластиковой карты, которую полагалось совать в щель. Как совать, я не знал. Я остановил чёрную горничную, катившую мимо тележку с бельём, и та приобщила меня к ещё одному благу цивилизации в несколько секунд. Я бросил сумку и чехол на кровать, включил ТВ, открыл мини-бар и выпил вначале бутылку пива «Бэк», потом четверть литра красного вина. Умывшись и пригладив волосы, я покинул своё новое жилище, в холле должно было состояться мероприятие под названием «аперитиф «Добро пожаловать»». У лифта я с любопытством сунул ботинок в щель машины для чистки туфель, и забава эта мне так понравилась, что я провозился с машиной добрых минут десять.
В том, что тебя никто не знает и ты никого не знаешь, есть известные преимущества. Можно в подробностях обозреть спектакль вместо того, чтобы в нём участвовать. Я обозревал и пил красное вино, заедая его чёрными маслинами. Когда вино показалось мне пресным, я перешёл на шампанское. Чтобы не выглядеть алкоголиком, я попеременно обращался к услугам двух баров, но подозреваю, что мои появления перед обоими барменами всё же были неприлично частыми.
Только после первой дюжины бокалов шампанского (впрочем, всегда недолитых, хочу заметить) я перестал стесняться. Вероятнее всего, на лице моём появилась улыбка спокойного высокомерия, отражающая маниакальность одинокого Байрона, романтически стоящего на скале над бушующим морем. Холодно, брызги, а он стоит. Такое выражение появляется у меня всякий раз на коктейлях, если я одинок и пьян.
А я оказался так одинок. Много раз пересёкши толпу и постояв у многих колонн и стен, я только на несколько минут задержался, чтобы перекинуться парой слов с новым шефом издательства «Рамзэй» и один раз с Жерардом. Мне хотелось общения, но, увы, босс «Рамзэя» приехал в Ниццу с женщиной и был занят ею, а Жерард усиленно обслуживал свой аппарат. Мой критик Пьер на коктейль не явился по неизвестной мне причине. Можно было присоединиться к одной из летучих, собирающихся и тут же рассыпающихся групп, но мешало недостаточное знание языка.
Между тем четверых упитанных стариков посадили в угол, поставив за их спинами ширмы, залили стариков ослепительным светом, и несколько телевизионных камер сразу занялись стариками. Пару десятков фотографов, и Жерард среди них, снимали неизвестных мне типов или группы неизвестных мне типов. Я, несмотря на байроновскую улыбочку превосходства, не отказался бы ни от телевизионных камер, ни от фотообъективов, но никто не бежал ко мне с микрофонами в руках. Всё внимание доставалось старым актёрам, уже десятилетиями находившимся на сцене. Я был новый актёр, приехавший только что из другого театра. Блядь!
Я мужественно проработал статистом и пустым местом до самого конца коктейля. Когда обнажились залитые вином скатерти баров и раздавленные маслины на полу, я, совсем пьяный, поднялся к себе на шестой этаж. У лифта я опять остановился, чтобы поиграться с машиной для чистки обуви. Войдя в комнату, я задёрнул штору, включил телевизор, убрал звук и лёг спать.
Проснувшись, заглянув в программу и сверившись с часами, я понял, что проспал три мероприятия. Оставалось надеть смокинг и отправиться на последнее мероприятие дня — на приём во дворце Массены, в резиденцию местного мэра. Я тщательно вымылся под горячим душем, натёрся духами и, высушив голову привезённым с собою феном, оделся. Укрепив под горлом бабочку и подтянув шёлковые чёрные носки, взволнованный, я спустился в холл, где сидели, постепенно стекаясь в компании, как маленькие капли стекаются в лужи, наши литераторы. Я высокомерно обвёл их взглядом и уверенно, не задерживаясь в холле, ступил на эскалатор, повлёкший меня вниз, к выходу из отеля.
Излишняя самоуверенность человека-бродяги, вдоволь повидавшего мир, сверхпрофессионализм и фамильярность в обращении с незнакомыми городами — опасны. Невидное, мощно шевелилось в стороне Средиземное, низкое море. Было душно, собирался дождь. В голове моей было ещё душнее, чем в Ницце. Я уверенно пошёл в Старый город, в сторону, где, я думал, находится дворец наполеоновского маршала. По звонким и глухим тротуарам, мимо харчевен на открытом воздухе, мимо бряцающих гитарами исправившихся жуликов и изобретательных алкоголиков, терзающих аккордеоны, мимо наглых средиземноморских официантов с кривыми носами, мимо американских туристов и итальянских нищих шёл человек в смокинге. Шёл, поворачивал, вглядывался в название улицы на угловом доме, опять поворачивал. Щёлкали хорошей кожи лаковые туфли. И только когда обнаружил себя окружённым подозрительными складскими строениями в кривом переулке, освещённом только луной, смокинг понял, что заблудился.
Не будь я в смокинге, моё положение было бы куда лучше. В моей жизни я попадал сплошь и рядом в куда более дурные места. Однако человеку, которого пригласил на приём сам мэр — хозяин города — очень обидно взамен блистающего огнями зала найти себя стоящим у воняющих тухлой рыбой ящиков в окружении облезлых старых стен. Где этот ёбаный дворец! Вокруг даже не было прохожих.
Я вырвался оттуда, и даже без потерь, если не считать потери психологические. Но когда, пройдя через тёмный сад, я наконец протянул свой пригласительный билет группе толстомордых стражей в клубных пиджаках, встретивших меня в дверях ёбаного дворца, была уже половина двенадцатого. Мне с трудом удалось раздобыть в закрывающемся баре пару стаканов скотча и слить их в один. Ещё я успел увидеть, как мой пьяный критик Пьер швырнул через плечо пустой бокал, и бокал раскололся на прекрасных старых плитах террасы, выходящей в сад. Строгие бульдоги в клубных пиджаках тотчас прибежали и занялись расследованием. Я успел позволить Жерарду, нашедшему меня в смокинге сногсшибательным, снять меня в нескольких жеманных позах у рояля, на фоне старых картин, очевидно награбленных маршалом в походах. Я был так зол на себя и подавлен своим двухчасовым путешествием в никуда по переулкам незнакомого города, что согласился сидеть и стоять в неестественных мне позах перед Жерардом, вызывая улыбки всей этой старой рухляди. Я вернулся в отель, идя за двумя нашими старичками, и, выпив всё содержимое мини-бара, лёг спать.
Утром я встал очень рано, с твёрдым желанием начать новую жизнь. Придерживаясь Средиземного моря как ориентира, я отыскал магазин, торгующий спортивными одеждами, и приобрёл у похожей на кусок старого дерева дамы олимпийские купальные трусики. Самые маленькие взрослые купальные трусики, какие у неё были. Из магазина, по начинающейся утренней октябрьской жаре, я вышел опять к берегу и спустился на низкий бледный пляж, где группами и индивидуумами лежали человеческие существа, напоминая редкое стадо тюленей. Повернувшись к лежбищу задницей, я освободился от одежд и натянул оказавшиеся мне тесными трусики. «Переоценил миниатюрность своей жопы»,— фыркнул Эдуард-2. Я достал из кармана пиджака «Надю» Бретона, маленький франко-английский словарик и, растянувшись на тотчас же впившемся в меня галечном ложе, стал читать.
Прошло четыре часа. Я разительно загорел, так как моя татаро-монгольская кожа обладает удивительной способностью моментально темнеть даже от самого слабого и кратковременного соприкосновения с солнечными лучами. В пять тридцать я должен был быть в шапито в сквере против отеля «Меридиан», дабы подписывать свои книги, если окажется, что кто-либо из ожидающей толпы читателей захочет их купить. Вынув часы из ботинка, я справился со временем. Следовало собираться. Перевернувшись на спину, я увидел, что надо мной стоит смуглая крепкая девочка с обнажённой грудью.
— Бонжур!— сказала она.— Можно я сяду?
— Пожалуйста.
Я подумал, что сейчас она попросит у меня денег. «Уличная девочка. Местная. Хулиганка. Вымогательница»,— решил я.
— Мне скучно. Я никого здесь не знаю.— Она порылась рукою в мелкой гальке.
— Угу,— философски промычал я.
Я был уверен, что она попросит у меня денег, но вначале сообщит, что она только что освободилась из тюрьмы или из госпиталя. Её французский язык был чуть лучше моего, но мой ведь был ужасен.
— Ты не француз?
— Нет.
Я не желал углубляться в беседу. Мы помолчали. Я закрыл книгу.
— Вы тоже не француженка конечно?— наконец промычал я, потому что она сидела и не уходила, поглядывая на меня смущённо.
— Какой, вы думаете, я национальности?— обрадовалась она.
— Испанка?
Я был уверен, что она уличная цыганка, но постеснялся сказать ей об этом.
— Нет, я из Бразилии!— обиделась она, как будто между бразильянкой и испанкой такая уж гигантская разница.
— А я русский,— объявил я только для того, чтобы она не очень гордилась своей редкой национальностью.
— Правда? Первый раз вижу живого русского.
Я был уверен, что в Рио найдётся несколько тысяч русских, мы обитаем повсюду.
— Меня зовут Люсия,— она протянула мне руку. Я взял.
— Меня — Эдвард.
Рука её была маленькой и твёрдой, рука девочки, занимающейся физическим трудом. Пальцы — я воровски скосился на руку из-под очков — короткие, и небольшие ногти глубоко вросли в мясо. Простушка.
— Что ты делаешь в жизни, Люсия?
— Я?— Пауза.— Фотограф.
Я тотчас не поверил, что она фотограф.
— А ты, Эдвард?
— Приехал на Дни мировой литературы,— я кивнул головой на видимые с пляжа флаги, развевающиеся над шапито и моим отелем. Незаконно развевающиеся, по сути дела.
Иностранных писателей на Днях оказалось только двое: Эрскин Колдуэлл и я. Опустившаяся на полотенце рядом с нами блондинка сняла тишорт, обнажив две нежные белые груди с розовыми сосками. У меня встал член и больно впился в олимпийские купальные трусы.
— Дни литературы?
— Ну да, я писатель…
Мне казалось, что вся Ницца должна быть занята нами, писателями, но вот сидел передо мною экземпляр, который понятия не имел о том, какие важные события происходят в Ницце.
— Первый раз встречаю живого писателя.
Если бы она была профессиональным фотографом, она встретила бы десятки живых писателей и несколько живых русских. Врёт, сочиняет себе интересную биографию. Я открыто оглядел цыганку Люсию из Бразилии. Всю… Она была катастрофически не моего типа. Я любитель больших белых женщин, маленькие и смуглые меня не привлекают. Но у неё были широкие бедра и небольшие груди ещё несъебавшейся девочки с почти чёрными сосками.
— Я подошла к тебе потому, что ты показался мне…— она подыскивала слово,— живым. Все другие мёртвые.
Получив комплимент, я подобрел. Смущённо опустив руку в мелкий гравий, переходящий в песок, как плешь на старческой голове переходит в лысину, она провертела в пляже небольшой кратер. «Кто её знает,— подумал я,— может, она бразильский трансвестай и влюбилась в меня с первого взгляда».
— Что ты делаешь в Ницце?— я сел в позу лотоса и наконец оставил «Надю» в покое.
— Я приехала сюда отдыхать.
— В каком отеле ты остановилась?
— Недалеко отсюда.— Она показала в сторону моего отеля.
— Там живу я,— уточнил я географию Ниццы.— В отеле «Меридиан».
— Черт, ты богатый,— она улыбнулась.— Я живу дальше, за бульваром, в Старом городе. Не в отеле…— Она расширила воронку кратера.— Вначале я жила с подругой в маленьком отеле, а теперь снимаю комнату.
На запястье руки её, всё ещё создающей Попокатепетль в Ницце, я увидел свежие шрамы. Попытка самоубийства? У многих моих женщин были резаные шрамы на запястье.
— Вовсе не богатый. Бедный. За меня платят мэр и город Ницца.
— Всё равно хорошо… За меня никто не платит.— Я был уверен, что у неё нет денег и она в затруднительном положении. Нужно было уходить.
Я не люблю бедных. Я никогда не даю денег нищим, они меня раздражают и злят. Я стараюсь на них не смотреть. Я сам бедный, и бедняки наводят на меня тоску. Мне их жалко, а я вовсе не хочу испытывать жалость. Я предпочитаю, чтобы мои партнёры и приятели были богатыми, держались бы нагло и я бы за них не беспокоился. Одевая брюки, я, поглядев на склонённую ещё ниже чёрную голову Люсии, решил, что, вне всякого сомнения, она голодна, что не может совсем простая девочка или трансвестай из бедной Бразилии явиться отдыхать в Ниццу, и её история или проще, или сложнее. Если её история проще — она бродяжка-португалка из… ну, скажем, Лиссабона, одна из тех девочек, которые путешествуют с бродячими гитаристами или фокусниками и носят после исполнения номера шляпу или коробочку, собирая монеты. Сейчас гитарист или фокусник её бросил. Если её история сложнее — она наводчица воровской или террористической банды, выбравшей своей мишенью человека в очках. Девочка из ETA, например. Кто-то из членов банды похож на меня, и им нужны мои документы, которых (этого они не знают) у меня нет. Я апатрид. Вариант: банда разгромлена, все её друзья арестованы, и девчонка судорожно ищет спасения. «Может, это интересно?» — вдруг высказал своё мнение Эдуард-2.
Я присел на корточки.
— Люсия, я должен идти. Мне необходимо быть в 5:30 в шапито, у меня есть обязанности.
— Да,— согласилась она грустно.
— Но если ты хочешь,— продолжил я,— я могу тебя пригласить пообедать. У меня свободный вечер.
— Хочу.
— Тогда приходи в восемь часов в холл отеля «Меридиан».— И, приминая песок, я отправился мимо белогрудой, намазавшей груди маслом, пересёк пляж и поднялся по лестнице.
Я просидел в шапито два часа. Под деревянным шестом с моей фамилией. Я расписался несколько десятков раз под своей плохой фотографией в «Книге посвящений», которую устроители имели глупость выпустить. Хитрые читатели, купив дешёвую «Книгу посвящений», имели возможность получить автографы всех двух сотен писателей, не покупая их книг, что они и сделали с удовольствием, обойдя нас всех от А до ЗЭД. Я выпил шесть бутылок пива и наблюдал трагическое происшествие. Старичок-читатель неуклюже задел ногою за шест с моей фамилией, и шест упал, ударив «Эдуардом Лимоновым» по голове женщину-читательницу. Ахающую пострадавшую увели под руки санитары…
Ровно в восемь, одетый в куртку с попугаем, я спустился в холл. Участники «Дней» находились в процессе отхождения в рестораны. Мой первый издатель Жан-Жак Повэр, похожий на бравого кота, стоял у входа в бар. В баре за крайним столом Жан-Эдерн Аллиер (развязанный галстук по моде американских бизнесменов на груди) профессионально разговаривал с протянутым ему членом микрофона. Член держала в руке нервная полинялая блондинка, представительница женского журнала. Приличия требовали, чтобы я сказал несколько слов Жан-Жаку Повэру. Я сказал и быстро удалился, воспользовавшись появлением седого мужчины в сером, одного из ещё нескольких дюжин седых мужчин в сером, присутствовавших на Днях литературы,— все они были похожи, как японцы. Некто в сером ещё облобызовывал последнюю щеку Повэра, а я, уже сделав петлю в баре, из-за спины сердитого генеральского сына Жан-Эдерна вышел опять в холл. Именно в этот момент я увидел плывущую вверх на эскалаторе Люсию. Она явилась на свидание в серых спортивных брюках-трико, в сникерсах, в сером свитере с красно-белой эмблемой «Кока-Колы» на груди. Из-под свитера выглядывало колечко белой тишортки, ещё более утемняя физиономию моей цыганочки. Возможно, она и вправду бразильянка, похоже было на то, что подмешана в её кровь и капля негритянской,— засомневался я.
В одежде цыганочка выглядела ещё меньше. Вид у неё был растерянный, по-видимому, она стеснялась дорогого отеля. В холле нашего «Меридиана» пахло хорошими сигарами, кожей новых диванов, духами. Горели ёлками разноцветные витрины бутиков — короче говоря, совершался праздник жизни.
— Пойдём отсюда, Люсия.
На улице я взял её за руку, мы обогнули отель и вышли на Английский Променад, пошли на запад. От моря нас отделяла только автомобильная двухсторонняя дорога. Через один блок от отеля я заметил гостеприимно освещённое заведение под названием «Ле бистро де Променад», и люди, сидящие на террасе, показались мне вполне симпатичными. Не туристами, и в то же время о них нельзя было сказать, что они исключительно богаты. Туда мы и зашли. Я заказал себе виски и, спросив её, что она будет пить, получил ответ, что она тоже будет пить виски.
— Вовсе не обязательно, чтобы ты заказывала то же, что и я,— объяснил я ей.— У меня такое чувство, что ты не любишь виски.
Действительно, она любила бурбон. Блондин официант с лицом танцовщика Александра Годунова терпеливо дождался, пока мы объяснились друг с другом на очень плохом французском. Потом мы глядели в меню.
Явилась большая компания и разместилась за двумя столами, рядом с нашим. К неудовольствию своему, я узнал нескольких наиболее молодых участников «старческих» Дней мировой литературы. Усевшись, они заспорили, стали снимать и одевать очки, дамы подкрашивали губы и даже пудрили щёки и одновременно жевали хлеб. «Почему я не сижу с ними за одним столом?» — спросил я себя.— «Потому что ты лопочешь на курином французском, совершенно непригодном для интеллигентной беседы»,— ехидно объяснил Эдуард-2. «Не столько зачаточный французский язык тому виной, сколько моя воинствующая анти-эстаблишмэнт позиция. Точно также я терпеть не мог советских писателей»,— возразил я. Я выбрал себе салат нисуаз и бараньи котлеты. Подняв глаза, я увидел, что моя цыганочка безнадёжно запуталась в сетях меню, и посоветовал ей взять стэйк о пуавр. Цыганка согласилась, благодарно взглянув на меня. Хотя место и называлось почему-то «бистро», цены были впечатляющие.
— Твоё здоровье, Люсия!— я поднял мой сосуд с виски.
Она подняла свой, почти пустой.
«Я не сижу за соседним столом ещё и потому, что дикари привлекают меня куда более цивилизованных людей,— решил я.— Цивилизованные люди всё более или менее одинаковы, разные племена дикарей куда более оригинальны, не говоря уже об индивидуальных представителях».
Нам принесли ниццеанские салаты. Люсия принялась с энергией уничтожать свой, а я, неторопливо деля ножом анчоус и отправляя его в рот в сопровождении ниццеанских салатных листьев, этаким папашей любовался аппетитом дитяти. Выпив пару бокалов вина, я почувствовал, что обожжённое солнцем парижское лицо моё пылает. Горячее лицо мне очень понравилось. Мне всегда доставляло удовольствия сочетание вина с солнцем.
— Тебе не кажется, что французы плохо относятся к иностранцам?— сказала Люсия громко и грубо и вызывающе оглянулась.
Мне не понравилось, что она громко тянет на наших хозяев. В конце концов, границы ещё не отменили и это их страна.
— Ничего не могу сказать о массах иностранцев. Ко мне лично они относятся с вниманием. Печатают мои книги, и уже одно это обстоятельство заставляет меня быть признательным. С простыми людьми я мало сталкиваюсь. На араба я не похож, посему полиция ко мне не приёбывается на улицах и в метро. Живу я в Париже в еврейском гетто…
— Хозяин отеля, где я раньше жила с подругой, когда у нас кончились деньги, сказал, что мы должны спать с ним вдвоём. Что если мы откажемся, он вызовет полицию!— Люсия говорила всё громче, и я понял, что она мгновенно опьянела, очевидно потому, что была голодна.
— Любой народ,— начал я нравоучительно,— состоит из индивидуумов. Некоторые из индивидуумов — отвратительное дерьмо. Эскимосы и папуасы не исключение. Французы тоже.
— Он избил мою подругу. И он, и его приятели изнасиловали нас!— продолжала Люсия. За соседним столом прислушивались, заметил я.— Он отобрал у нас вещи и запер дверь, и нам пришлось бежать через окно…
Она налила себе вина и, задев бутылкой о тарелку, с яростью опустила её на стол. Я знаю, что такие истории происходят с девочками каждый день, но цыганочка могла и сочинить злого владельца отеля, дабы разжалобить меня. «Нет,— заметил Эдуард-2,— девчонка не врёт, видишь, как разнервничалась».
— Мир далёк от совершенства,— начал я, и поняв, что говорю банальности, попытался выкрутиться: — Главное — выбрать позицию в мире. Следует или не прощать ничего, и тогда тебе следовало перерезать горло владельцу отеля и попасть за это в тюрьму, или…— я помолчал.— Или получать удовольствие от насилия, как учит американская этика.
Она не поняла. Она обидчиво замолчала и допила вино. Блондин принёс нам мясо и развязно предложил вторую бутылку. От бутылки я не отказался, подумав однако, что люди, как животные чувствуют, с кем можно и с кем нельзя фамильярничать. Со мною официанты никогда не ведут себя развязно. Размахивающая руками цыганочка, громко кричащая на исковерканном французском,— мишень для фамильярности. Фамильярность сменяется презрением, презрение легко переходит в насилие. Неудивительно, что хозяин отеля на неё набросился.
Мы занялись мясом. Девочка ела с аппетитом жертвы эфиопского голода. Очевидно, цепь не очень интересных бытовых приключений привела её к встрече со мной на пляже. Теперь я уже был уверен в том, что она не террористка и даже не воровка.
Мне стало скучно, ибо обыкновенные проявления человеческой природы меня мало интересуют. Обед с работницей лиссабонской швейной фабрики имени Мигеля Диаса так же скучен, как обед с женой президента и генерального директора парижской фирмы канцелярских товаров.
— Они нас не любят,— икнув, сказала девчонка.
— Ну не любят и не надо. Ограничимся тем, что будем любить друг друга.
Я наколол на вилку одну из трёх бараньих котлет и опустил котлету на освободившуюся от стэйка её тарелку.
— Спасибо.— Она воткнула свою вилку в баранину. Остановилась.— Но ты ешь мало, Эдуардо. Почему?
— Питайся и не спрашивай. Меня несколько раз в день кормят бесплатно ниццеанские налогоплательщики.
Я подумал, что нужно будет её выебать. Не потому, что мне этого хочется, вовсе нет. Она обидится, если я её не выебу. В мачо-стране, какой Бразилия, несомненно, является, женщина должна быть выебана мужчиной. Таков неписаный закон. Ещё я хотел проверить, не трансвестай ли она. Судя по величине бёдер, не должна бы. Но кто знает. «Плюс,— вмешался Эдуард-2,— мы выебли трёх бразильских женщин в нашей жизни, хотя никогда не были в Бразилии. Выебав четвёртую, мы, возможно, обнаружим в бразильских женщинах только им присущую особенность».
Люсия, держа вилку в кулаке, распяла кусок бараньей котлеты на краю тарелки и резала его ножом, как спиливают ветку с дерева. Было видно, что девчонка не имеет опыта в этом занятии. Тарелка и нож лязгали друг о друга, тарелка стучала о стол. Насмешливые физиономии участников Дня литераторов время от времени обращались к нам — источнику шума. Я сохранял невозмутимое лицо. Я знал, что сам я непогрешим, «пэрфект» с головы до ног, похож на рок-стар, а не на писателя, в куртке с попугаями, в узких брюках, с причёской в два слоя. О том, что я как рок-стар,— писали критики. Ебал я писателей за соседним столом. У них у самих были внешние недостатки, которых не видела Люсия, но видел я. Их мужчинам не хватало выправки — сказывалось отсутствие физических упражнений. У них были неряшливые старомодные длинные волосы, какие носили нелюбимые мной неряхи-хиппи. А их женщины… о, они были вежливо буржуазны. Я нежно поглядел на мою дикарку. Может быть, она и работает на лиссабонской швейной фабрике имени Мигеля Диаса или на сан-паульском цементном заводе, но в её глазах, похожих на те чёрные, тугие, вымоченные в маринаде оливы, которые я так люблю, всплёскивает настоящая дикость. Такую дикость следует ценить.
Мы съели по куску пирога каждый. Мы выпили, я — три пальца фрамбуаза, которые мне налил наглый блондин Александр Годунов, очевидно, желая мне зла, она — половину большущей рюмки коньяка. Я заплатил, и, игнорируя насмешливые взгляды остававшихся без зрелища посетителей, мы вышли, качаясь, на Английский Променад. Она держала меня за талию и прижималась ко мне не как к обладателю хуя, я это чувствовал, а как к более мудрому, к опоре, к защите, к представителю хотя и великой, но такой же окраинной, как и Бразилия, страны, как к старшему брату, может быть. От неё пахло алкоголем, а от её тряпочек исходил свежий запах стирального порошка, очевидно, перед свиданием со мной она посетила «ландромат». За весь обед на её лице ни разу не появилось даже мельком довольство цивилизованной женщины, расколовшей мужика на хороший ресторан. Пьяное бравое наплевательство, веселье заводской девочки, надравшейся вдребезги с приятелем,— вот что выражала рожица Люсии. Лет двадцать назад у меня были такие девочки.
Мы решили пойти танцевать. Мы обнаружили диско там же, на Английском Променаде, неожиданно быстро. Я заплатил 140 франков и получил в обмен два ярко-синих билета, дающих нам право каждому на один бесплатный дринк. Внутри было красно-жёлто и жарко. Вокруг высокого круглого бара сидели и стояли пьющие. В стороне, на небольшом кругу-арене в затемнении танцевали буржуазного вида пары: женщины в платьях и с причёсками леди Ди (принцессы Уэльской) и юноши с усиками — типа сэйлсмэнов или полицейских. Мы вошли на круг и стали друг против друга. Белые зубы моей цыганочки оскалились в удовольствии. Мы задвигались.
Мне показалось, что я танцую лучшее её. Возможно, из-за того, что она совсем небольшая и мои движения более заметны. Мы прыгали в тесноте, время от времени натыкаясь на слаженные, стилистически двигающиеся пары. Я всякий раз говорил: «Пардон!», но не думаю, чтобы мы кого-нибудь серьёзно повредили. После восторга нескольких танцев я понял, что музыка у них такая же незначительная, как лица танцоров. Невнятная. Иногда попадался, правда, рок-энд-ролл с чистым ритмом в их репертуаре, но в основном преобладали диско-ритмы семидесятых годов, устаревшие и мутные по звучанию. Мы пошли к бару.
В обмен на наши синие билеты мы получили: я — виски, она — пиво.
— Ты хорошо танцуешь,— по лицу цыганочки лился пот.
— Куда мне до бразильцев,— я вытер свой пот со лба рукою и, сняв очки, вытер лицо подкладкой куртки.
— Правда хорошо… Ты учился танцевать?
— Нет, Люсия. Даже на курс французского в альянс Франсэз я никак не найду денег, какие танцы… Однако я хотел бы научиться танцевать танго…
— Ты не умеешь танцевать танго?
— Умею, как все, но хочу научиться классическому танго, по правилам.
— Са ва?— спросил меня стоящий рядом с бокалом пива загорелый молодой тип с рыжеватыми подстриженными усиками, в джинсах и клетчатой рубашке.
— Са ва,— подтвердил я.
Приятель типа, тоже с бокалом пива, толстый молодой человек, захохотал, глядя в нашу с Люсией сторону.
— Танцуем?— продолжил рыжеватый.
— Да,— Люсия приветливо улыбнулась, обнажив все зубы.
— Вы кто?— спросил толстый, почему-то очень бледный, не ниццеанского типа,— американцы?
— Нет!— возмутилась Люсия,— я не люблю американцев! Он — русский,— она гордо положила руку на моё предплечье,— а я — бразильянка!
Оба типа переглянулись и, толкнув друг друга локтями, расхохотались. Потом обменялись несколькими фразами, смысл которых я не понял, да и не расслышал в нечистом шуме диско-ритмов.
— Ты — русский, и ты — бразильянка, вы — «кошонс!»,— сказал парень с подстриженными усиками, рассмеялся и, сделав полуоборот, смеясь и скалясь, ушёл в толпу танцующих.
Люсия рванулась за ним, но я удержал её. Бледный толстяк с расстояния в несколько метров глядел на нас, пьяно хохоча.
— Ты понял, что он сказал?!— кричала Люсия, вырываясь из моих рук.
— Понял.
— Ты уверен, что ты понял? Он сказал, что мы свиньи!
— Ну сказал и сказал…
— Но нужно было что-то сделать — ударить его бутылкой!
— Если бы он ударил тебя или меня, Люсия, я бы ударил его. Он жалкий и глупый клерк, сэйлсмэн, один из говнюков, оперирующих компьютерами, или какая есть сейчас самая бесполезная, но модная профессия в пост-индустриальном обществе? Пусть он получит своё мизерное удовольствие…
— В Бразилии у нас за это убивают!— убеждённо сказала Люсия.
Я почувствовал, что она меня осуждает за то, что я не ударил типа.
«Правильно сделал,— одобрил Эдурад-2,— их страсти — не наши страсти».
— Выпьем ещё?— предложил я.
— Нет, идём отсюда!— глаза её метали дикость и презрение.— Мерзкое место! Я говорила тебе, Эдуард, что они ненавидят нас!
Чтобы доказать ей, что я не боюсь драки, я заставил её подождать, когда я закажу себе и выпью ещё одно виски. Потом мы вышли из диско, пересекли автостраду и спустились к морю. У моря внизу было сумеречно и влажно. Никем не считаемые волны наваливались на пляж, но, обессиленные идти побережьем, укатывались обратно. Принимая обессиленных беглецов, море урчало, как кухонная раковина. Вверху над нами были средиземноморские созвездия, но я только изредка взглядывал вверх, а Люсия и вовсе не глядела. Она переживала национальную ссору, в каковую мы только что были вовлечены. Я дал минутам истечь и, глубоко вдохнув тёплую влажность, сказал:
— Видишь, как хорошо, что мы не позволили себе ввязаться в драку. Мы не шли бы сейчас по берегу ночного моря, а находились бы в отвратительном полицейском участке, и нас обвинили бы в том, что мы затеяли драку. Тебя назвали бы несколько раз проституткой, а мне мимоходом врезали бы в живот… Выпустили бы нас только утром с помощью организационного комитета Дней литературы…
— Может быть, ты прав. Но какой подлец… Почему они нас не любят, Эдвард?
— Не они, а он. Я не знаю, много ли таких во Франции и почему они не любят иностранцев. Но тип с усиками — явное ничтожество, серийный продукт цивилизации. На нём джинсы, как на всех уродах, усы, как у всех уродов, он никто и ничто, и ему хочется сорвать на ком-нибудь злобу за свою собственную ничтожность. Ему подвернулись мы — иностранцы. Может быть, он импотент и его подружка вслух сказала ему об этом.
Люсия хмыкнула.
— Ты подумала, что я испугался?— спросил я, заглянув ей в лицо.
— Нет, я видела, что ты не испугался. Ты был спокоен. Хотела бы я быть такой спокойной, как ты.
— В твоём возрасте я тоже не был спокойным… Научился… Понимаешь, в таких случаях лучше игнорировать эмоции и уступить место интеллекту…
— Если бы все умели это, Эдвард, ты думаешь, никто не дрался бы и люди не убивали бы друг друга?
Она остановилась и прижалась вдруг ко мне, лицом в мою шею, в куртку на груди.
— Мы ведь не хуже французов, Эдвард, мы, может быть, лучше… Кому мы мешаем?
Я вдруг обнаружил, что она плачет.
— Эй,— я погладил её по жёстким волосам,— ты чего ревёшь?
— Я вспомнила хозяина отеля… Они сделали мне больно! А подружка, Эдвард…
Я не дал ей пожаловаться, я встряхнул её и повернул лицом к тёмной воде.
— Эй! В Париже у меня есть два друга — Тьерри и Пьер-Франсуа, они замечательные! Кроме этого, я знаю Жака и Катрин, и они замечательные. И в моём издательстве «Рамзэй» есть множество прекрасных французских людей. Не реви. Ты должна научиться чувствовать людей. Чувствовать способных причинить тебе зло и держаться от них подальше. И прекрати плакать! Глупо плакать у тёплого моря, в Ницце, под такими созвездиями. Где же знаменитая бразильская жизнерадостность?! Возьми платок и вытри слезы!
«Ох, женщины,— вздохнул Эдуард-2,— они ведут себя как дети и требуют от нас, чтобы после этого мы ебали их, как взрослых самок!» Люсия послушалась, вытерла слёзы и шумно высморкалась в мой большой платок. Воспользовавшись нашей занятостью, море лизнуло мои сапоги и полностью накрыло её сникерс.
— Ой, море!— вскрикнула она, и мы отбежали от воды.
У лестницы, ведущей вверх, на набережную, дикие туристы и просто бродяги сообща разожгли нелегальный костёр и теперь суетились вокруг него с кружками и бутылками красного столового.
— Пойдём ко мне? Выпьем ещё, и, если ты хочешь, будем делать любовь. Если не хочешь — не будем. Пойдём, Люсия?
Она задумалась.
— Бон суар! Идите к нам!— позвали нас от костра.
— Пойдём к тебе, Эдвард.
Мы напились. Мы выпили все содержимое минибара, который, слава Богу, вновь набили алкоголем. Люсия опять плакала, но уже от опьянения, и слезы её смешивались со смехом. Я раздел её и, разумеется, обнаружил, что она не трансвестай. Тёмная половая щель девчонки была того же возраста, как и девчонка, и была наполнена слизью. Я подумал, что она, может быть, уже несколько часов истекает желанием хуя, а я всё разговариваю с ней о мировых проблемах и рассказываю о временах, когда я был бандитом. Маленькая и большебёдрая, она доставила мне определённое, хотя и ограниченное, удовольствие своей вечнотекущей, крепкопахнущей щелью и звуками, неожиданно глубокими и густыми для такой маленькой девочки, которые она издавала. Увы, так как я был очень пьян, акт наш продолжался с переменным успехом несколько часов. И ничем не кончился. Только утром, с трудом открыв глаза, я решил, что следует оставить в темнокожей девочке мою сперму — символ покорения и освоения самки самцом. Солнце уже зияло в незадёрнутую шторой щель окна. Она молча сопела и упиралась в меня шершавыми ступнями, когда я, сжимая тёмный зад, ебал её на боку, не желая смотреть в её лицо. Почему? Может быть, в глазах-оливах оказалось бы выражение, которое помешало бы мне кончить. Я кончил в подозрительно горячую цыганочку и опять уснул с моим членом в её щели, поцеловав её в спину.
Проснулись мы в три часа дня. В четыре в отеле «Плаза» должна была состояться литературная игра. Десять авторов, и среди прочих дамы: Маша Мэриль, Людмила Перина и Режин Дефорж, должны были — каждому давалось тридцать секунд — сочинить совместную историю. На их игру мне было положить, но я должен был встретиться там с корреспондентом «Фринтэр» и обсудить возможное моё участие в какой-то передаче. Пришлось встать. Голова болела.
В следующие тридцать минут я чувствовал себя отвратительным обманщиком и подлецом, при этом ясно сознавая, что я таковым не являюсь. Ты не можешь взять в свою жизнь всех женщин, попадающихся тебе в дороге. Ты не должен этого делать, в противном случае, тебе придётся жить в толпе и для толпы. Тебя растащат по кусочкам. Нужно было отсечь только что связавшие нас нити. И я взмахнул невидимым ножом, профессиональный отсекатель нитей и уз. Я объявил ей, что сегодня — последний день конференции и назавтра очень рано я улетаю в Париж. Она грустно улыбнулась, сказала, что хочет приехать в Париж, она никогда не была в Париже, и пошла в ванную. Пока она находилась под душем, что-то пела тихое и неразличимое в струях воды, я подписал ей «Дневник Неудачника» и протянул книгу, когда она с мокрыми волосами вышла из ванной. Абсурдный подарок, поскольку она не сможет прочесть французский текст. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь переведёт ей несколько строчек.
Недоверяющий людям, каюсь, я отправился в ванную после неё, зажав в кулаке два пятисот-франковых билета. Так же как искренни были её слезы вчера по поводу того, что «они нас не любят», таким же искренним могло оказаться сегодня её непонимание принципа частной собственности, а тысяча франков были мои последние деньги и в Ницце, и в Париже. Как всегда, я ждал контракта.
Мы вышли из отеля в жёлто-синий день. Я попытался пошутить, сказал, что Ницца окрашена сегодня в цвет украинского национального флага. Жёлтый — солнце, синий — тени. Она грустно кивнула головой.
— Напиши мне твой номер телефона в Париже, Эдвард,— вдруг попросила она.— Может быть, я доберусь до Парижа.
Я взял у неё из рук «Дневник Неудачника» и уверенной рукой вывел на последней странице заведомо неправильный номер телефона, подлец. В Париже со мною жила женщина, которую я любил.
— Ты знаешь,— она посмотрела на меня снизу вверх и улыбнулась,— мне кажется, что я забеременела от тебя этим утром. Я чувствую это. Если да, я рожу ребёнка.
Она прижалась ко мне, и я поцеловал её в мокрую голову. Я не поверил ей, но мне было приятно. Постояв с минуту, мы отлепились друг от друга и ушли не оборачиваясь.
Я явился в «Плазу» аккуратно к началу игры. Зал был полон, и я с трудом отыскал себе место. Рассевшись на эстраде, они смеялись, ворошили свои листки, снимали и одевали очки. Наконец ведущий Жан-Пьер Элькабаш ударил по камертону, и некто седой и в сером начал историю так:
— Прибыв на Дни мировой литературы, я вскоре устал от следовавших одно за другим мероприятий и отправился на пляж, взяв с собой книгу. Я долгое время читал, подставив спину солнцу, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд…
Мсье Элькабаш ударил по камертону, ибо время первого писателя истекло. Режин Дефорж, подтянув шаль в цветах на плечи, продолжила:
— Я поднял голову и увидел девушку с обнажённой грудью, пристально глядящую на меня. «Бонжур мсье,— сказала незнакомка и присела рядом со мной.— Я хочу спросить у вас очень важную вещь, мсье: любите ли вы салат нисуаз?»
Зал одобрительно зашумел, засмеялся, старушка с седыми буклями рядом со мной оживлённо заёрзала на стуле, все были в полном восторге от выбранного сюжета. Улыбнулся и я выбранному писателями сюжету.
из сборника рассказов
«Обыкновенные инциденты» • 1987 год
Полицейская история
Они нагнали меня, когда я уже не ожидал их. Расслабившись, миролюбиво вдыхая острый запах зимней ночи, я достиг пересечения бульвара имени маршала Сушэ с авеню имени художника Энгра. Я предвкушал длительное, но не неприятное путешествие через весь Париж к себе на улицу Архивов. Именно тогда они вдруг заквакали мерзким фольксвагеновским гудком. Двойной очередью: «Фаф-фаф! Фа-фа-фаф!», «Фаф-фаф! Фа-фа-фаф!» И не оглядываясь, я понял, что это они. Спрятаться было некуда. Моё белое пальто выдало меня им. И горели все фонари в месте впадения авеню Энгра в бульвар Сушэ.
Я сел в «фольксваген».
— Почему ты хотел сбежать от нас, Эдуард?
Эммануэль Давидов энергично выжала на себя неизвестного мне назначения чёрный рычаг. «Фольксваген» скакнул вперёд.
— Я потерялся,— соврал я.
Мне не хотелось пускаться в длинные объяснения по поводу того, почему я не захотел ехать с ними в русский ночной клуб. Лист причин оказался бы слишком длинным. Среди прочих — финансовая проблема. У меня оставалось совсем немного денег в банке. Траты мои были разумно распланированы, и посещение русского ночного клуба казалось мне вопиюще неразумным вложением денег. Аборигены могли себе позволить хаотичную жизнь, я, пришелец, выживал лишь благодаря железной дисциплине… Плюс, неисправимый циник, я разобрался в составе компании и понял, что ни одна женщина не свободна. Если я не могу рассчитывать затащить к себе в постель тёплую пизду, то чего же зря время тратить?.. Ещё? Я устал от их отличного французского языка и от их плохого английского…
— Я отошёл отлить и потерял вас.
— Мы же тебе кричали! Ты что, не слышал?
Давидов экспансивно крутанула руль и вечнозелёные насаждения юга шестнадцатого аррондисмана исчезли из окна, сменившись серыми каменными боками зданий.
— Мы видели, как ты уходил вдоль забора.— Эжен обернулся ко мне, он сидел рядом с водительшей. Эжен улыбался.— Ты пытался сбежать от нас, Эдуард, но воля коллектива тебя настигла. Мы победили. Ты побеждён.
Коллектив, ещё два автомобиля, как бы подтверждая слова Эжена, заклаксонили сзади.
«Ну ничего,— успокоил я себя.— Бастилия находится в полукилометре от улицы Архивов. Посижу с ними для приличия и свалю…»
*
На Трокадеро мы ждали зелёного огня (Давидов нетерпеливо пригнулась и сжалась, пытаясь увидеть вспышку зелени как можно раньше. Так кошка сжимается у мышиной норы, поджидая мышь), когда эженовскую дверь «фольксвагена» вдруг рванули снаружи, и плохо-одетый и плохо-остриженный тип с револьвером в руке возник в щели. Тучный Эжен, схватившись за дверь, молча пытался ликвидировать щель. Пират же, пыхтя и упёршись ногою в бедро «фольксвагена», пытался дверь распахнуть.
— Бандиты!— вскричала вдова Давидов безо всякого испуга. Вдова, потому что к двадцати пяти годам успела похоронить любимого мужа-адвоката.
— Гони!— закричал я.— Гони! Жми на газ!
Она нажала. Тип, не отпуская двери, висел на ней. Эжен, также не выпуская двери, тянул дверь на себя. Давидов рванула чёрный рычаг. Автомобиль подпрыгнул, стряхнул с себя абордажного пирата и устремился в ярко освещённую, цветную парижскую ночь. Эжен захлопнул дверь и обернулся ко мне… И тотчас же спрятал голову вниз, за спинку сиденья.
— Стреляют!— вскричал он.
Я услышал несколько хлопков. Если бы не информация Эжена, я бы не обратил на хлопки внимания, принял бы их за фрагменты обычных уличных шумов. Но я не стал проверять, я поверил Эжену на слово. И повинуясь Бог знает откуда пришедшему, мгновенно сработавшему инстинкту, я скатился с сидения на пол «фольксвагена».
— Правильно!— прокомментировала Давидов, не оборачиваясь, очевидно, она видела мои действия в зеркало. Сама она тоже сползла ниже по сидению. Послушный её не потерявшим уверенности ногам и рукам, автомобиль уверенно прорезал ночь. Некоторое время мы молчали.
— Это КГБ,— сказал я.— Или СиАйЭй.
— Бандиты!— сказал Эжен.
— У меня множество врагов,— сказала Давидов.
— Странный способ сведения счетов,— сказал я.
— Посмотри Эдуард, они не едут за нами?— Одной рукой Давидов извлекла откуда-то сигарету.
Эжен, несколько раз промахнувшись, высек синий огонь и поднёс его к губам Давидов. Закурил и сам. Вонючий «Житан».
— Кажется, не едут… Однако у меня большая близорукость…
— Даже в очках?— спросил Эжен.
— И в очках.
Он всмотрелся в дорогу за моей спиной.
— Бандит выскочил из «4-Л», если я не ошибаюсь?
— Угу…— Давидов заставила «фольксваген» проскочить перекрёсток в самый последний момент.
Красный огонь вспыхнул тотчас за нами, лизнув нам заднее стекло.
— «4-Л» не видать. И наших тоже не видать.
— Нужно остановиться и подождать их.
— Не нужно останавливаться. Что, если бандиты едут за нами? У нас ведь даже ножа с собой нет,— сказал я.
Я очень сожалел о том, что засиделся у Давидов после обеда и не сумел убежать от компании. Теперь судьба тащит меня вместе с «фольксвагеном», с моей переводчицей и её любовником. И куда? Мне решительно не нравилось уже одно то, что меня тащат.
Они даже не обратили внимания на мою реплику. Сразу за мостом Иены Давидов заставила «фольксваген» въехать на тротуар. Выключила мотор и вышла из машины. Эжен вышел вслед за нею. Стоя у края автострады, они стали вглядываться в автомобили. Я остался сидеть в «фольксвагене», лишь откинувшись на сидении и расстегнув белое тесное пальто. Я был зол на них и на себя. Мой инстинкт, столько раз выручавший меня в Харькове, Москве и Нью-Йорке, толкал меня в желудок, заставляя волноваться кишки. Он всегда толкает меня в таких случаях в желудок, это наш условный с ним знак. «Валить надо, валить как можно скорее, а не стоять у края дороги, дожидаясь бандитов,— понимал я». «Уходи сам, если эти сумасшедшие не чувствуют, что следует свалить, раствориться в ночи, въехать в тёмные улочки и замереть там. Уходи! Нет оружия отбиться — беги! Брось их на хуй!» — сказал желудок.
Я не мог бросить их на хуй. Я боялся прослыть трусом. Автор книги «Русский поэт предпочитает больших негров» не имеет права выскочить из «фольксвагена», бросить им: «Пока!» и раствориться в ночи. Боязнь потерять социальный статус в данном случае одержала верх над биологическим инстинктом. Но именно потому, что я всегда следовал биологическому инстинкту, я и жив до сих пор, в то время как по меньшей мере целый взвод временных спутников различных этапов моей жизни давно сгнил на кладбищах мира. Shit!
На автостраде возник рыжий обмылок, и они замахали обмылку руками. Проскочив их, обмылок остановился, и, зажёгши задние огни, сгазовал назад, на них. Из обмылка вышел музыкант Жаки, и они, неслышно для меня, но энергично жестикулируя, обсудили ситуацию.
— Мы решили ехать в «Балалайку»,— сказала Давидов, когда они уселись в машину.
— Глупо,— пробормотал я.
— Глупо позволить им испортить нам вечер, Эдуард,— сказал Эжен.
Я хотел было возразить, что лучше уж испортить один вечер, ночь, чем… Я промолчал, так как понял, что не смогу представить им сколько-нибудь связных аргументов. Не могу же я сослаться на свой желудок… Сказать, что именно таким вот образом, как сейчас, сжимался он за ночь до того, как Костя Бондаренко влип в историю, за которую его приговорили к высшей мере. Или что так же сжимался он, когда Володька-боксёр слишком долго копался в этом мудацком сейфе… Я сказал:
— Пора валить, Володька! Скоро мусора будут делать обход. Жадность не одного фраера уже сгубила!
Володька не захотел, пять минут ему, сказал, нужно, чтоб до денег добраться. Я ушёл один. Володьке, не послушавшемуся моего желудка, влепили восемь лет…
Я не успел вспомнить и половины всех случаев, когда мне удавалось спасти шкуру благодаря своевременному предупреждению моего органа пищеварения, когда на бульваре Генриха Четвёртого в автомобильное зеркало со стороны Эжена вкатился автомобиль и, спустя мгновение, на большой скорости поравнялся с нами.
— Они!— закричал Эжен.— «4-Л»! Их авто!
«4-Л», промчавшись мимо, забежал вперёд и, взяв влево, резко остановился, выставив на нас левый бок, преграждая нам дорогу. Из «4-Л» выскочили трое. В коротких куртках неопределённого цвета. В руках у каждого находился предмет, не оставляющий никаких сомнений по поводу проницательности моего верного желудка: револьвер.
В жилах Эммануэль Давидов, назвавшейся так на титульном листе моей книги (из нежелания быть известной в ежедневной жизни как переводчица тома «Русский поэт предпочитает больших негров»), течёт помимо французского ещё одна горячая латинская кровь — итальянская. Давидов резко бросила «фольксваген» назад, взбежав на тротуар, обогнула автомобиль врагов и, скрипя тормозами, залакировала между стволами деревьев и запаркованными автомобилями… Сзади — в этот раз я отчётливо услышал их — работали револьверы преследователей. Буф! Буф! Баф!
— What a fucking Jesus Crist!— выругался я идиомой, заготовленной у меня на самые крайние случаи жизни.
Испугаться наш экипаж опять не успел. Страх — следствие рефлексии. Чтобы почувствовать страх, нужно успеть подумать, как бы мысленно обсудить ситуацию. У нас для этого не было времени.
— Нас хотят убить,— констатировала факт Давидов даже несколько равнодушным тоном.
Впрочем, равнодушие проистекало оттого, что всё внимание, как, очевидно, и все эмоции её, были направлены на пролетание по тротуару на скорости не менее ста километров в час. И неслась она, увлекая и меня, вопреки желанию, куда бы вы думали? К ёбаному русскому ресторану на площади Бастилия, к «Балалайке»! Впрочем, неизвестно, изменилась ли бы наша судьба, если бы Эммануэль Давидов направилась бы вместо ярко освещённой Бастилии в тёмные улочки. Может, быть история была бы печальнее…
*
— Прорвались! Ой, как я сейчас выпью!— воскликнула Давидов и поворотом ключа выключила мотор.
Именно в этот момент, когда пальцы её ещё сжимали ключ, остановленные в намерении вытащить его из щели, рядом с нами на тротуар вспрыгнул автомобиль. Я увидел тело автомобиля и одновременно услышал супернатуральный визг тормозов. Распахнулись двери, и три тёмные тени метнулись к аквариуму «фольксвагена». В следующий момент я почувствовал, что кость лба у меня болит. Подняв глаза, я увидел дуло, направленное прямо в мой лоб. Дуло принадлежало револьверу. Револьвер же продолжался нервно подрагивающими руками. За руками прыгало лицо бандита, который пытался вломиться в «фольксваген» на Трокадеро. На Бастилии было куда светлее, и я смог рассмотреть грязные волосы и показавшиеся мне арабскими черты лица. Двое других бандитов точно таким же образом, по правилам растопырив ноги и сдав чуть назад жопы, держали на прицеле Эммануэль Давидов и Эжена.
«Если тебе надоела жизнь, Эдуард,— подумал я — вот тебе хорошенький и достойненький способ распрощаться с нею. Достаточно резко двинуть рукой — сейчас руки мирно покоятся на сидении,— и пуля проткнёт тебе череп как раз между бровей, неровно взломав кость. Даже если он не блестящий стрелок. С нескольких метров невозможно промахнуться».
— Выходи!— заорал эженовский бандит Эжену. И сняв одну руку с тела револьвера, согнувшись, открыл дверь «фольксвагена».— Выходи, сало!
«Сейчас они нас перестреляют одного за другим,— подумал я.— Стрелять сквозь стекла «фольксвагена» менее удобно, вот они выведут нас на свежий январский воздух». Я не задумался тогда над тем, что место, выбранное бандитами для экзекуции, чуть более публично, чем это необходимо,— площадь Бастилии. Все показалось мне логичным тогда. «Мой» бандит — я заметил, что воротник его куртки поднят,— продолжал подрагивать револьвером. Дыру, откуда вылетает в таких случаях носительница смерти — пуля, я по близорукости не видел, но я верил, что дыра там, на месте…
Эжен без слов, что было совсем не в его манере, выдвигался ногами вперёд из двери. Руки он держал на уровне плеч. Энергичная обычно Давидов тоже молчала… Только был слышен шум ночного трафика на площади.
Звук множества полицейских сирен, накатив внезапно, залил нам уши. Лишь мгновением позже ослепляющий свет фар сразу нескольких полицейских автомобилей залил место действия. «Спасены!» — подумал я с ликованием. Оставалось лишь уцелеть в перестрелке бандитов и полиции. Однако спрятаться от шальных пуль я ещё не мог, так как на меня по-прежнему был направлен револьвер «моего» бандита. Почему он не бежит, не прячется? Почему не стреляет в полицию или в меня?
Мои сомнения мгновенно разрешились. Я увидел, что выскочившие из ближайшего к нам авто полицейские бросились обшаривать уже стоящего с поднятыми руками на тротуаре Эжена. Полиция и бандиты, оказывается, были заодно! Совсем не невинный, я, однако, жил в Париже меньше года, плохо понимал французский язык и ещё хуже местные нравы.
— Это полиция!— сообщила мне Эммануэль Давидов.— Выходи! Они кричат тебе, чтобы ты выходил!
Я почувствовал, что рад тому, что на нас напала полиция.
— Выходи!— повторила Давидов.— Они шуток не понимают!— Давидов решила, что я сознательно злю полицию.
Сказать по-правде, я не только не понимал того, что они мне кричат, но на протяжении некоторого времени и не слышал вовсе их криков. Со мной случился обыкновенный шок… Осторожно, держа руки на затылке, я выдвинулся из «фольксвагена» и встал на тротуар. Привычные руки полицейского обежали моё тело от лодыжек вверх. Междуножье, также как и подмышки, не было забыто. Только после этого «мой» бандит наконец спрятал револьвер. Вместо револьвера он извлёк из одежды наручники и, больно захватив мою левую руку, защёлкнул один наручник вокруг запястья. Другой бандит подтолкнул ко мне величественно возвышающегося над всеми Эжена, и его присоединили ко мне, защёлкнув наручник на его правой руке.
Выли невыключенные сирены, и вращались неостановленные жирофары. Кричала на полицейских Эммануэль Давидов с шубой в руке, отказываясь от, по-видимому, также полагающихся ей наручников. Пытаясь помочь ей, Эжен рванулся к подруге, дёрнув и меня. Да так сильно, что я чуть не сбил с ног двух полицейских, за что и получил хороший удар полицейским локтем в бок. Полицейских вокруг было неожиданного много. Я насчитал шесть автомобилей. Из всех раций военно-полевыми голосами глаголили дежурные.
Появились зрители. Небольшая толпа окружала уже место действия, автомобили, нас и полицейских. Я заметил в толпе нескольких мужчин и женщин в фольклорных славянских костюмах.
— Ребята из «Балалайки»!— пояснил Эжен.
— Ты видел фильм «Скованные одной цепью»?— спросил я.
Эжен не услышал. Он во все глаза смотрел на Эммануэль Давидов и прислушивался к тому, что она кричит. А она кричала, да ещё как. Полицейские орали на неё. Я понимал тогда уже некоторые бранные слова самой культурной европейской нации, но их суперразвитой словарь был мне, разумеется, недоступен. Я различал лишь привычные «сало» и «кон», перебрасывемые с невероятной скоростью обеими сторонами.
— За что вас, Эжен?— крикнула женщина в фольклорном славянском костюме.
Больно вывернув мне руку, Эжен стал отвечать ей через головы полицейских. Не привыкший к подобному обилию людей вокруг, представитель профессии тихой и одинокой, я испытал вдруг тоскливое желание остаться одному. Не обязательно оказаться в студии на улице Архивов, но даже очутиться в одиночной камере было бы очень желательно. Они так несносно и неразумно, по моему мнению, все (включая Эжена и Эммануэль Давидов) кричали, так злились и дёргались, что утомили меня. Осторожно захватив браслет наручника правой рукой, я лодочкой сложил ладонь левой и… преспокойно вынул её из наручника. У меня всегда были на удивление пластичные ладони. Высвободив руку, я не предпринял попытки к бегству, справедливо опасаясь, что буду немедленно застрелен, но поднял свободную руку вверх и показал её народу. Фокус!
Я думал, они рассмеются, будут поражены самодеятельным Гарри Гудини, зааплодируют. Увы, вольный народ не заметил моего трюка, а «мой» бандит, как я его продолжал называть, уже подозревая, что он переодетый полицейский, наградил меня несколькими ругательствами, схватил мою освобождённую руку и вновь пленил её. На сей раз натуго. Браслет впился мне в мясо. Скованный одной цепью, Эжен благородно запротестовал. Его адвокатство разозлило «моего» бандита, он затянул и эженовский браслет потуже. Я не мог видеть, клеймо какой страны выбито на наручниках, но был уверен, что если даже «Сделано во Франции», то модель, вне сомнения, американская. Весь прогресс подобного рода всегда прибывает с другой стороны Атлантики.
Появился серый фургон для перевозки заключённых, и нас сняли со сцены, убрали в фургон. Стало тише и лучше. Несмотря на то, что болела рука, сжатая железом, и вместе с нами в фургоне находился буйный пьяный.
— За что они нас? Они что, приняли нас за кого-то другого? Может быть, кто-то из нас похож на известного интернационального террориста?— спросил я.
— Ты, Эдуард, романтик!— Эммануэль Давидов хмыкнула в темноте.— Эти трое салопардов утверждают, что мы пересекли красный свет и что когда они пытались нас остановить, мы удрали как преступники.
— Неужели эти личности в грязных куртках — полиция?
— Полиция. В том-то и дело! Они утверждают, что кричали нам, что они — полиция.
— Что мы — дебилы, не остановиться на предупреждение фликов?— Эжен резко дёрнул мою руку.
— Легче, пожалуйста, Эжен!— попросил я.
Мои приятели, перебивая друг друга, взволнованно заговорили по-французски. Я же подумал, что если нас обвиняют лишь в том, что мы пересекли красный свет, то, выплеснув на нас злобу и досаду в полицейском комиссариате, удовлетворив полицейское самолюбие, помучив нас несколько часов, флики нас отпустят. Странно, однако, что полицейские стреляют в автомобиль, пересёкший улицу на красный свет. В Соединённых Штатах для открытия огня нужна всё же более весомая причина, а в Советском Союзе милиционер боится палить в граждан, даже когда это насущно необходимо. Ибо советскому флику грозит лишь чуть меньшая, чем обычному гражданину, уголовная ответственность, если он угрохает невинного… Далее я погрузился в философические рассуждения о том, что у меня никогда не возникало проблем с миром, если я представал перед ним один на один. Один я всегда принимал правильные решения. Чужая же воля, в той или иной степени навязанная мне, неуклонно приводила меня к несчастьям и проблемам. По меньшей мере, к недоразумениям. «Хуй-то я теперь сяду к кому-нибудь в машину,— решил я.— Никогда в жизни».
В комиссариате я не нашёл ничего примечательного. Во всём мире полицейские участки выглядят более или менее одинаково. Запах был отвратительный. 24 часа в сутки омываемые дымом «Житанов» и «Голуазов» стены и пуританская мебель комиссариата прокоптилась насквозь и навеки. Содержимое желудков как минимум нескольких задержанных буйных алкоголиков выплёскивалось, без сомнения, каждую ночь на линолеум комиссариата. Уже у входа едкий сквозняк донёс до меня из глубин знакомый запах полицейского туалета.
Выёбываясь, нам, разумеется, не сразу сняли наручники. Тем более что излишне энергичная Эммануэль Давидов тотчас потребовала, чтобы меня и Эжена освободили от браслетов. «Когда ты требуешь чего-то у полицейских, уважаемая Давидов,— мысленно сказал я ей,— будь уверена, что именно в этом тебе откажут. В перевёрнутом мире полицейского участка всё наоборот».
У себя дома полицейские сделались наглее, но спокойнее. Эммануэль Давидов и Эжен в доме у полицейских сделались истеричнее. Я решительно не одобрял выбранной ими манеры поведения, что и постарался объяснить Эммануэль. Отстегнув от меня Эжена, его записывали.
— Легче, пожалуйста, с ними,— попросил я.— Чем меньше мы будем качать права, тем быстрее нас выпустят.
Давидов, несмотря на то, что перевела мою книгу отлично, может быть, не знала выражения «качать права». На моё замечание она лишь пожала плечами.
За доской-прилавком, на который Эжен выложил потрёпанные документы, среди столов и телефонов сидели несколько полицейских. Главным у них был большой, горбоносый, удивительно напоминающий де Голля нагло-весёлый дядька-полицейский. На крышке его круглой кепи-кастрюли было больше белых линий… Двадцать или тридцать полицейских толпилось вокруг. Все они были заняты именно нами. Мне казалось, что мы не заслуживаем такого внимания. На мой взгляд, если не считать того, что они палили по нам в двух случаях из револьверов, ничего сверхординарного не произошло. Мы ни разу не задели ни автомобиль, ни человека, и даже об их «4-Л» ловкая Давидов ни разу не ударилась «фольксвагеном». Может быть, латинская кровь играет в них и требует, чтобы они устроили этот базар? Я очень надеялся, что они скоро успокоятся. И «наша», и полицейская сторона.
Они продолжали ораторствовать. Эжен и Давидов выступали с пылкостью народных трибунов во времена их главной революции. «Salop», «con», «salopard»1 — опять перелетали из лагеря в лагерь. Мне, убедившемуся в отсутствии в мире справедливости тридцать лет тому назад, было странно наблюдать подобные эмоции…
Записав адрес Давидов (этот эпизод я понял легко и без усилий), «де Голль» весело прокаркал комментарий. Дословно я не понял «де Годлевскую» ремарку, но перевёл её для себя на русский так: «Вот богатая блядь нам попалась, ребята! Они все там такие, в шестнадцатом, в шубах с длинным мехом!» Ребята ответили хохотом и ругательствами. Эммануэль реагировала на обидную ремарку тем, что несколько раз стукнула крепким кулаком по стойке полицейского бара.
— Авока! Мон авока!— И опять: — Авока!
«Давидов требует адвоката!» — дошло до меня.
— Авока?— переспросил «де Голль» насмешливо.
— Да, авока!— гордо сказала Эммануэль и запахнула шубу.
«В Соединённых Штатах,— подумал я,— получилось бы, что они оспаривают друг у друга фрукт авокадо». В Штатах адвокат называется lawer — то есть законник. «I wanna speak to my lower!»2 — кричит преступник в американских фильмах. Очень употребимая фраза.
«Де Голль» поднялся, прошёл к стене, нагнулся и выдернул из гнезда телефонный провод. Взял серый телефонный аппарат со стола и крепко поставил его на прилавок рядом с Эммануэль Давидов. Так, что аппарат зазвенел всеми своими внутренностями.
— Звони своему авока, силь ту плэ!
Зрители восхищённо расхохотались. Давидов закричала. Эжен рванулся к прилавку, очевидно, желая наброситься на «де Голля», и его удержал один из «бандитов» в гражданском. Я же обессиленно подумал, что мои «подельники», я употребил это русское блатное слово автоматически, ужасающе неумно себя ведут, что если они и дальше будут себя так вести, то, ой, нескоро мы выйдем из ёбаного комиссариата. Первый раз в жизни я был в руках французской полиции. Разумеется, я не знал их национальных методов, но я нисколько не сомневался в том, что психология полицейских всего мира одинакова. Нельзя взывать к справедливости, находясь у них в лапах. Нужно вести себя согласно старой китайской мудрости, как дерево, на которое обрушился ураган. Нужно пригнуться. Ломать себе хребет, пытаясь противостоять лишь временному явлению природы,— глупо и самоубийственно.
— Молчите!— дёрнул я за рукав Эжэна.
— Ты боишься?— физиономия его была красной и гневной.
— Я ничего не боюсь,— сказал я.— Но это мы у них в руках, не они у нас. Посему разумнее вести себя спокойно. Сердить их словесно, значит ещё более настроить их против себя.
— Но ты видел, что он сделал, когда Эммануэль потребовала права позвонить адвокату? Он демонстративно отключил телефон! Они издеваются над нами!— Эжен затоптался на месте, шепча проклятия.
Тут меня вдруг посетило прозрение: их западная психология разительно отличается от моей, восточной! Их больше всего заботило доказать полицейским свою правоту. Меня же вовсе не заботило, какая сторона права. Главным для меня было как можно быстрее выбраться из вонючего помещения, наполненного враждебно настроенными вооружёнными самцами.
Когда подошла моя очередь записываться и опорожнить карманы, я не заорал: «За что? Я вообще сидел на заднем сидении! Отпустите меня немедленно!» Я был спокоен и вежлив. Я отклонил попытку Давидов послужить мне переводчицей и, лишь убедившись, что никто из присутствующих не говорит по-английски, время от времени прибегал к её помощи. Решительно, однако, пресекая все её эмоциональные попытки опять накалить атмосферу. Я не оспаривал права полицейских задавать мне вопросы, не пытался акцентировать факт, что я писатель. Богатый жизненный опыт подсказывал мне, что простые люди — а полицейские, разумеется, простые люди — не любят самодовольных пиздюков-интеллигентов, чванливо хвастающихся своей исключительностью. Когда они спросили меня о профессии — я назвал профессию. И ничего плюс. Замолчал. Я не сказал им, что моя книга именно сейчас лежит в магазинах на прилавках, что обо мне уже писали «Экспресс» и «Либерасьен» и скоро выйдет статья в «Ле Монд». Я не использовал эту возможность чуть припугнуть их своей якобы значительностью, так как знал, что простые люди не любят, когда их запугивают связями в прессе или в верхах. Процедура моего оформления прошла мирно и без вскриков. Если бы я ещё был не в белом пальто! Если бы я знал, что попаду к полицейским в руки, оделся бы как можно демократичнее.
*
Увы, моя восточная спокойная манера поведения была полностью нейтрализована неспокойными манерами моих «подельников». Нас не выпустили. Нас кинули в самую невыгодную камеру. Экзотическими птицами: Давидов — птица в волосатой шубе, я — белая птица и Эжен — птица дородная, вошли мы туда. На нас с большим удивлением уставился единственный узник — парень в кожаной куртке. Я вежливо поздоровался с парнем и сел рядом. Давидов и Эжен заняли скамейку напротив. И сразу же прижались друг к другу.
Одна зарешечённая стена была обращена к полицейской раздевалке и службам. Сидеть в клетке с тремя стенами и быть открытым всякому прохожему взору — хуёвейшее удовольствие, что бы ни говорили противники ГУЛАГа и патриоты западных гуманных тюрем с телевизором, никогда в них не сидевшие. Зарешечённая стена — изобретение простое, но пытает человека ежесекундно. Я, во всяком случае, почувствовал себя собакой, которая ждёт адаптации или милосердного укола и поднимает голову на каждый человеческий силуэт и вздрагивает при каждом шаге. А шагов было достаточно. Туалет комиссариата полиции пользовался исключительной популярностью. Каждые несколько минут проходил мимо нас, застёгивая штаны, человек.
То, что скамеек, привинченных к стенам, было две, я отметил как положительный факт. Но то, что ширина скамеек не превышала пятнадцати сантиметров, моя задница самовольно тотчас же отнесла в разряд явлений отрицательных. Долго на таком шестке не усидишь. Лечь на скамеечку — невозможно. Очевидно, просвещённый отец-иезуит, духовный брат доктора Гильетена, изобрёл на досуге эту скамеечку. Я с ностальгической тоской вспомнил о широких милицейских нарах советской конструкции. «Не всё в Советском Союзе — плохо, и не всё на западе — хорошо…» — вспомнил я строку из критической статьи о моей книге.
Парня звали Жиль. Оказалось, парень говорит по-английски.
— Слушай, Жиль! Ты местный, ты всё знаешь. Скажи, будь другом, и долго они могут нас тут держать по обвинению в неуважении к красному огню?
— Fucking flics3,— сказал Жиль,— имеют право держать человека четыре дня, не предъявляя обвинения.
— В Советском Союзе — двадцать четыре часа,— сказал я.— Или сорок восемь… Я точно не помню. Но не больше сорока восьми — факт.
— Не может быть? В тоталитарной стране?
— Да,— сказал я.— В тоталитарной. Но это вы её так называете. Однако здесь меня сразу же предупредили, что я обязан всегда иметь при себе документы. А в Союзе никто не обязан таскать документы. За семь лет жизни в Москве я был остановлен милицией один раз. И то при исключительных обстоятельствах. Глубокой ночью, на Трубной площади. За две ночи до этого, рядом, на Цветном бульваре, была зверски вырезана татарская семья — мать и двое детей… Я тогда отпускал бороду и усы и был похож на Родиона Раскольникова…
— Это кто?— спросил Жиль.
— Герой Достоевского. Убийца старушек… Так что ты думаешь, Жиль? Меня продержали в милиции два часа и выпустили на хуй, поверив на слово, без единого документа, удостоверяющего мою личность.
— А как же ГУЛАГ?— спросил он.— Говорят, за ношение джинсов у вас сажают в ГУЛАГ!
— Буллшит! Пропаганда. Ещё Сталин в 1951 году подписал указ о роспуске Главного управления лагерей. На дворе у нас 1981? Тридцать лет, как ГУЛАГа не существует. Что касается джинсов, то сейчас, пишут мне приятели из Москвы, советская милиция маскируется в джинсы и сникерс, когда «работает» в гражданском. Настолько это незаметная и популярная одежда.
— Зачем же ты приехал сюда, раз там так хорошо?..
— Глупый вопрос, mon vieux4. Свободы печати там, разумеется, не существует. А для меня, с моей профессией, как ты понимаешь, наличие свободы печати важнее всего.
Я решил быть с ним поосторожнее. Он показался мне вдруг подозрительным. Может быть, его подсадили к нам? Пришьют ещё антифранцузскую пропаганду и выгонят на хуй из страны.
— Слушай, а за что тебя сюда кинули, если не секрет?
— Нет,— сказал Жиль.— Не секрет. Я влез вместе с приятелем в квартиру сестры. Доминик уехала с мужем в Альпы кататься на лыжах. Я выбил стекло и влез в окно. Блядские соседи видели и настучали. Полиция ворвалась с «пушками»: НЕ ДВИГАТЬСЯ! А мы в постели голые с этим парнем…— Он помолчал.— Я, видишь ли,— гей.
Английский Жиля был неплохого качества, однако вместо «гей» он произнёс «гай». Я понял.
— Что же, они не разобрались, что ты — брат владелицы квартиры?
— Брат. Но взлом есть взлом. Плюс этот мудак, я его совсем не знаю, подцепил в баре в Марэ, оказался драг-пушером. В карманах куртки флики нашли у него несколько пластин гашиша.
— Понятно. Хуёво.
— Он в соседней камере.
Мы замолчали. Давидов и Эжен закутались в полицейское одеяло, всего одеял было два, и, обнявшись, закрыли глаза.
— Возьми себе одеяло,— сказал Жиль.— У меня тёплая куртка.
Последовав его совету, я взял одеяло, свернул его множество раз и, бросив на пол, уселся на него, упёршись спиною в стену. У моего плеча красовалась надпись, которую я без труда понял: «Здесь сидел Ахмед — король Бастилии!» Над нею, продолжив исследование настенной живописи, я обнаружил надпись по-английски: «Kill the cops!»5. Местный ли знаток английского, вроде Жиля, или же заезжий английский хулиган оставил эту надпись,— объяснено не было. Целый лозунг на арабском был подписан по-французски и датирован — «Саид — 10/12, 1980». Мне тоже захотелось оставить мой скромный след в эфемерных анналах истории камеры. Я вынул из заднего кармана брюк плоский ключ, его не сумели обнаружить при обыске эмоциональные полицейские, жаждущие оружия и мешочков с героином, и выцарапал по-русски: «Здесь был Эдвард Лимонов, СССР». Почему я избрал страну, к которой давно уже не имею никакого отношения? Для экзотики? Из желания противопоставить полицейской силе — силу, источаемую этими четырьмя буквами — «СССР»?
Ночь получилась хуёвейшая. Кого-то долго втаскивали в комиссариат, и втаскиваемый сопровождал сей процесс неуместно громкими криками. Эжен попросился в туалет. Эммануэль Давидов попросила воды и, получив её и попросив ещё чашку воды, была названа пиздой. В самый разгар ночи, часов около четырёх, рыжий полицейский, возвращавшийся из туалета, заинтересовался нами и, приблизившись к решётке, взялся руками за прутья. Словесно осудив шубу Давидов, он назвал хозяйку шубы блядью и затем одарил вниманием моё blanc manteau6, по поводу которого он произнёс небольшую речь, употребив несколько раз одни и те же эпитеты. Эпитетов я не понял, но судя по тону, это были крайне отрицательные эпитеты. Когда рыжий ушёл, Эммануэль Давидов сказала мне, что рыжий пьян, что многие полицейские — социалисты, что её шуба и адрес на юге шестнадцатого аррондисмана для них как красная тряпка для быка.
— И твоё «блан манто» тоже, Эдуард! Большинство полицейских — провинциалы, деревенщина и ненавидят нас, парижан! Они антиинтеллектуальны! Если бы ты знал французский лучше, Эдвард, ты бы понял, как ужасно они говорят по-французски!
Жиль, приоткрыв глаза, присоединился к мнению Давидов.
— Она права!— сказал Жиль.— Флики не любят reach peuple and intellectual7.
Я подумал, что если разобраться, белое пальто — свидетельство не богатства, но эстетизма. Выходило, что я отношусь к «интэллекшуалс». Пальто я приобрёл за 218 долларов в Нью-Йорке, будучи слугой мультимиллионера.
Мои подельники ворочались, но кажется, спали. Сумел заснуть или лишь не двигался упрямо прилепившийся худенькой задницей к скамейке Жиль. Я, самый спокойный, так и не сомкнул глаз. Ночные полицейские явились с дежурства и стали переодеваться, возясь в шкафах. Новая команда усатых парней явилась в джинсах и куртках и на моих глазах перевоплощалась во фликов. Так и не оправившийся от классовой ненависти к шубе Давидов и моему «блан манто», явился рыжий. Он уже успел переодеться и привёл с собой троих туристов: кажется, вовсе чужих полицейских, может быть, из другого комиссариата? Рыжий тыкал в нас сквозь решётку указательным пальцем и давал объяснения. Ноготь на пальце был чёрен. Я предположил, что какой-нибудь правонарушитель, раздражённый направленным на него пальцем рыжего, укусил его за палец. Наискось от меня, явившись с пишущей машиной, устроились два молодых флика, и один стал медленно диктовать другому текст, где часто упоминалось слово «malfaiteur». Подобно Шампильену — знаменитому расшифровщику египетских иероглифов, Шампильен начал расшифровку с имён главных действующих лиц египетской истории — с фараонов, я задал себе вопрос. Кто главная движущая сила всей полицейской индустрии? Разумеется, преступник. Следовательно, чаще всего встречающееся в рапорте слово malfaiteur означает — преступник.
*
Выяснилось, что нас будут судить. Новость эта вызвала страшнейшее оживление со стороны Давидов и Эжена, и почти равнодушно была встречена мною. «Ну и хуй с ним!» — подумал я. И в тюрьме живут люди. Через час или два откроются по всей Франции двери книжных магазинов, и народ войдёт, чтобы приобрести мою книгу. И полиция народ не остановит. И это — главное. А где находится автор в этот момент, ну что же, его персональная судьба, может быть, привела его в тюрьму. В конечном счёте в тюрьме автор «Русского поэта, любящего крупных негров» будет более на месте, чем он же, в окружении пяти детей и толстой жены, поедающий суп в буржуазной квартире на бульваре Сен-Жермен. Хорошо бы, однако, суметь предупредить атташе дэ пресс, что я не смогу прибыть сегодня в 12:30 обедать вместе с нею и журналистом из «Лэ Нувэлль Литтэрэр». Может быть, после суда нам дадут возможность позвонить? Необходимо было дать знать читателям, что автор оказался достоин книги и сидит в тюрьме. Ещё я дорожил своей репутацией пунктуального человека. За последние десять лет я не опоздал ни на одно свидание.
«Подельники» сообщили мне поступившее из-за решётки уточнение. Да, нас будут судить, но сейчас нас повезут в большой комиссариат. Меня опять приковали к мясистой руке Эжена и прямо со ступенек комиссариата ввели в полицейский фургон. Однако я успел увидеть кусок неизвестной мне площади и свободных людей, хуячащих по своих делам. Я вспомнил, что в книгах Солженицына они называются «вольняшки». На улице было холодно, и я счастлив был, что дверь фургона тотчас же закрыли.
Преимущества передвижения по Парижу в полицейском фургоне очевидны. Ни хуя не нужно ждать в потоке машин. Включив сирену, шофёр мгновенно домчал нас куда надо. Давидов первая, затем мы с Эженом неравными сиамскими близнецами спрыгнули на тротуар. Полдюжины фликс, окружив нас, повели к двери. Мимо, очевидно в лицей, шла группа девочек-подростков. Их группа остановилась, чтобы дать пройти нашей группе. Они улыбнулись мне — преступнику в белом пальто с белым фуляром на шее, и я улыбнулся им в ответ. «Ах, полиция арестовала важного преступника, мафиози в белом пальто. Мафиози и его подручных»,— может быть, подумали лицеистки. Мне вдруг сделалось очень стыдно перед юными пиздами за то, что я не мафиози, а всего лишь… смирно сидел на заднем сидении «фольксвагена» в прошлую ночь. Мне стало стыдно, что я не заслуживаю почестей, мне оказываемых,— катания с сиреной по городу Парижу и эскорта из полдюжины сильных зверей в мундирах и кепи. Мне отчаянно захотелось быть большим преступником…
В новой камере было тепло. Даже слишком. Камера была в три раза меньше предыдущей и напоминала лифт среднего размера. В ней уже находился один «зэка» — мальчишка лет пятнадцати. Впоследствии выяснилось, что несовершеннолетний удрал из дома. Сидеть имел возможность только один человек — в амбразуре зарешечённого окна. Остальные должны были стоять. Стена нового места заключения была необыкновенно толста. Возможно, за подобными могучими стенами сидел в Бастилии де Сад. Однако же, о счастье и о удовольствие, в камере были четыре стены. И была дверь! Нас запирали! Отгораживали от мира.
К несчастью, они все тотчас же закурили. Мальчишка-узник выпросил у Эжена житанину и, прислонясь к стене, блаженно наполнившись дымом, закрыл глаза. Я не запротестовал против дыма, не желая наживать себе врагов. Психологически я всегда готов к бессрочной отсидке и даже, может быть, к пожизненному заключению. Мой жизненный опыт научил меня, что ничего хорошего от властей ожидать не следует. И от народов тоже… В сущности, я также профессионально подозрителен, как и полицейские. Однако основанием для полицейской подозрительности служит то обстоятельство, что они меня не знают, для меня же то, что я их полицейскую натуру изучил во многих её вариантах.
Я снял «блан манто», аккуратненько сложил его много раз и, вытерев пол носовым платком, уселся в углу у двери. Пальто, уменьшившееся до размеров хорошо сложенного пледа, я положил на колени. «Не следует опускаться,— сказал я себе.— Следует следить за собой…» Эммануэль Давидов вдруг стала кричать на покрасневшего Эжена. Я же, мимоходом отметив, что их ссора — известный исследователям тюрем и лагерей феномен «перенесения раздражения на другой объект», с сожалением констатировал, что отжимания от пола в такой миниатюрной камере будет делать невозможно. Придётся ограничиться приседаниями, наклонами, верчением шеи и поворотами корпуса.
Они вскоре сами ограничили потребление сигарет, убедившись, что воздух исчез из камеры. Мальчишку забрали двое следователей. Один — пузатый, в волосатом пиджаке цвета скорлупы грецкого ореха, другой — этакий симпатяга-чиновник. Я решил, что лучше попасть к грубияну с пузом, в пиджаке грецкого ореха. Грубиян может тебе врезать пару раз в живот, но миляга-чиновник подготовит тебя, вежливый, к самому большому сроку.
Только к одиннадцати часам вызвали из камеры Эммануэль Давидов. Раз уж ты у них в лапах, они спокойно «берут своё время». И в Москве, и в Лос-Анджелесе, и в Париже. Шубу Давидов оставила Эжену. Моё испорченное личным опытом и американскими фильмами воображение предвкушало трагическое возвращение Давидов в камеру. Избитая, лицо в крови, она обвисает меж двух полицейских. Флики вталкивают её и захлопывают дверь, скрежещут замками, запирая, а мы бросаемся к телу Давидов, и Эжен кладёт ей под голову шубу. Садится на пол и плачет. Его толстая спина колышется…
Давидов переступила порог камеры сама и очень злая.
— Ёбаные флики! Они действительно решили судить нас!
— Но за что, Боже мой!— воскликнул Эжен и стал ломать руки.
Я уже замечал эту странную в большом, дородном мсье привычку. Теперь, в горячей крошечной камере, он ломал руки беспрерывно. Может быть, руки у него чесались, может быть, ему очень хотелось поиграть на рояле? В дневное время Эжен был причастен каким-то образом к науке химии. Вечерами он был причастен к Эммануэль Давидов, к алкоголю и игре на рояле. Отчасти из-за этого его пристрастия мы и мчались сквозь ночь в «Балалайку». Чтобы Эжен и профессионал Жаки играли бы вдвоём на рояле и пели.
— Они обвиняют нас…— Давидов закурила и, держа сигарету в руке, стала загибать пальцы: — Первое. В провоцировании инцидента. В том, что я резко затормозила перед «4-Л». Второе. В отказе подчиниться полиции. Они утверждают, что первый мэк, остановивший нас на Трокадеро, был спокоен и в полицейской форме… И третье. Мы обвиняемся в бегстве от полиции.
— Но мы-то думали, что это бандиты! Как отличить размахивающего револьвером полицейского в гражданском от бандита?— Эжен ещё энергичнее захрустел руками и зашагал на месте.
— Комиссар утверждает, что среди них был один полицейский в униформе. Шофёр.
— Ложь! И первый мэк, ломившийся к нам в «фольксваген», был в гражданском! Никто из нас не видел ни клочка полицейской формы!..
Меня вывели на допрос после вернувшегося мокрым и красным Эжена. Преодолев несколько колен коридора, я вошёл в комнату, так же густо наполненную дымом, как и наша камера. Лысый, мускулистый человек в синей рубашке с закатанными до локтей рукавами сидел за серым металлическим столом. Рядом развалился, нога на ногу, персонаж в полицейской форме. Какой из них комиссар? Я выбрал в комиссары мускулистого, с закатанными рукавами. Из-под рубашки под самое горло выползала белая тишорт. Я сказал:
— Бонжур, мсье!— и скромно примостил задницу на край стула, на который мне указал мускулистый.
— Вы — советский русский, мсье?— с осторожной ласковостью спросил меня тот, кого я сам назначил комиссаром.
— Нет,— сказал я. И больше ничего не сказал. Комиссар поскучнел. Может быть, он лелеял надежду, что я окажусь крупным советским шпионом и он, комиссар, раскроет мой террористический заговор?
— Если вам трудно объясняться по-французски, инспектор немного говорит по-английски, он переведёт.— Инспектор утвердительно качнул ногой в полицейском ботинке.— К трём часам приедет переводчица с русского, и тогда мы сможем зарегистрировать ваши показания.
— Мадам Давидов прекрасно владеет русским. Она могла бы перевести мои показания,— сказал я по-английски, глядя на инспектора.
— Мы не можем воспользоваться услугами мадам Давидов по техническим причинам. Она обвиняется в том же преступлении, что и вы.— Инспектор употребил слово crime.
«Ну уж так прямо и crime!— подумал я.— Разве если расценивать как crime пребывание в «фольксвагене». Это они совершали крайм, ваши полицейские. Пытались меня угрохать». Однако, разумный, я не стал их оспаривать.
— Мсье комиссар?!— сказал я.— Могу ли я позвонить моему издателю? У меня с ним свидание в 12:30?
Они обменялись несколькими фразами.
— Давай номер!— сказал комиссар.
Я, не умея произнести, написал на куске бумаги номер. Комиссар сам, какой почёт, набрал мне его. Калипсо в издательстве сняла трубку и, очевидно, сказала, как обычно, скороговоркой:
— Издательство «Рамзэй». Бонжур!..— Комиссар передал трубку мне.
— Калипсо, бонжур. Это Эдуард Лимонов. Могу я говорить с Коринн, пожалуйста?
Атташе дэ пресс, слава Богу, была на месте.
— Бонжур, Коринн. Я не смогу быть в 12:30 в ресторане «Сибарит».
Атташе дэ пресс не задают лишних вопросов. Коринн не спросила меня: «Почему?» Она спросила:
— Когда ты сможешь? Какой день тебе удобен?
— Не знаю. Я звоню тебе из полиции. Я арестован.— Я говорил по-английски. Инспектор старательно вслушивался. Комиссар, не понимающий английского, заскучал. Я решил не раздражать начальство без нужды.
— Орэвуар, Коринн.
— Надеюсь, что с помощью такого бесподобного паблисити-трюка твоя книга будет хорошо продаваться. Не падай духом.
«Бесподобный паблисити-трюк!— размышлял я на обратном пути в камеру.— Хуй его знает, что у них на уме? Может быть, им не хватает одного осуждения до выполнения их полицейского месячного плана? Как раз конец января. Врежут пару лет… Откуда я знаю, какие у них тут порядки…— Однако моя научившаяся не унывать ни при каких обстоятельствах натура тотчас же нашла в предстоящем тюремном заключении массу достоинств.— Выучу в совершенстве французский язык. И выучу тюремное арго! Стану писать по-французски. А сколько материала для книг в тюрьмах прямо под ногами валяется. Достоевский стал Достоевским, лишь пройдя через каторгу. И Жан Женэ вряд ли стал бы Женэ без тюрьмы… Да и кто тебя ждёт на свободе? Никто тебя не ждёт. Эммануэль Давидов ждёт ребёнок. У неё есть холёный отец и мать-аристократка. У химика-пианиста Эжена есть нелюбимая им, но семья, а кто ждёт тебя на улице Архивов? Никто, и это хорошо. Ты — компактная, независимая единица. Всё твоё с тобой. Сиди себе. Может быть, позволят иметь карандаш».
Их было четверо в камере, когда я вошёл. Вернулся с допроса мальчишка, глаза были красные, очевидно, плакал, и стоял, прилипнув к стене необыкновенно грустный, дистрофического сложения человек в джинсовом костюме. Было ясно, что он молод, но совершенно безволосая голова и преждевременные глубокие складки на лице заставляли думать, что тяжёлая болезнь поселилась в джинсовом человеке. Я решил, что у него рак и его подвергают хемотерапии.
— И я хочу позвонить!— вскричала Давидов, узнав о том, что мне позволили позвонить в издательство.— Я должна позвонить моему мальчику и моему адвокату!
Эжен застучал в дверь, требуя внимания. После переговоров с недовольным полицейским Давидов увели.
Вернулась она нескоро, но заметно повеселевшая.
— Есть надежда, что мы сможем выбраться отсюда, избежав суда. Адвоката не оказалось в бюро, и мне в голову пришла прекрасная идея. Я позвонила приятелю Франсуа, моего покойного мужа. Он комиссар полиции и тоже пьед-нуар8. Он сказал, что приедет говорить с нашим комиссаром…
— Когда?— Эжен возобновил ломание рук.— Жрать хочется.
— Сказал, что выезжает.
Ракового больного увели. Я смог опуститься на пол и принял ту же позу, в какой находился до вызова на допрос.
— Странный ты, Эдуард…— сказала Давидов, примостившись в нише окна.— Почему ты молчишь? Ты что, их боишься?
— Да,— сказал я.— Я им не доверяю. И я их боюсь. И что я должен, по-твоему, делать? Биться головой о стенку?
— Но ты не проявляешь эмоций, Эдуард,— осторожно заметил Эжен.— Нужно выбираться отсюда. Нельзя вести себя пассивно. Ты сказал им, что ты писатель, что у тебя как раз сейчас вышла книга?
— Что писатель — сказал. Что вышла книга — нет. Спросят — скажу. Я не хочу выглядеть как глупый хвастун.
— Нужно было сразу же заявить: «Я — писатель! Если вы сейчас же не выпустите нас, я устрою скандал во всех газетах!» — Давидов стукнула себя по колену кулаком.
— Вот этого-то они и не любят больше всего. Когда их запугивают связями и положением.
— Откуда ты можешь знать французскую полицию! Они боятся паблисити! Если они поймут, что схватили известного писателя, они постараются замять нашу историю. А я им сказала: «Этот парень в белом пальто — известный русский писатель! И если вы не хотите неприятностей — оставьте нас в покое! Выпустите нас!» — Давидов сердито перебросила волосы с правой груди на спину.
— Я буду известным писателем. Но я ещё не известный писатель,— твёрдо сказал я.
И они оставили меня в покое, поняв, что меня не исправишь. В основном, я так понимаю, им было неприятно моё молчаливое спокойствие. Я себе сидел на корточках, как китаец, накурившийся опиума, и старался размышлять о приятных вещах. Они же, прилепившись друг к другу, замерли на некоторое время в нише окна. Но так как беспокойство разрывало их изнутри, они вскочили и стали ругаться.
*
Около трёх часов, в это время у «вольняшек» кончается ленч, или дэжэнэр, явился уже знакомый мне инспектор, увёл Давидов и почти мгновенно возвратил. Давидов улыбалась.
— Мой приятель комиссар обедал с нашим комиссаром. Сейчас нам принесут сэндвичи и пиво. Зарегистрируют наши показания и показания бригады бандитов. Бандиты прибудут в четыре. Все утро они, оказывается, отсыпались… Комиссар должен надавить на них, чтобы они сняли обвинения против нас. Я видела свой «фольксваген». Он стоит во дворе. Нам всем очень повезло, вы знаете… В «фольксвагене» две пулевые дыры. Кстати говоря, в задней части автомобиля. Там, где сидел ты, Эдуард…
Давидов продолжала выдачу информации, я же подумал, что если я действительно выйду отсюда через несколько часов, то в ближайшие несколько лет с головы моей не упадёт и волос. Мне можно будет преспокойненько расхаживать вблизи всяческих опасностей. Пролетевшие прошлой ночью мимо пули дали мне достаточно долгий и прочный иммунитет от посягательств мадам Судьбы на мою жизнь.
*
Усталая женщина русского происхождения, в глупой меховой шапке, призналась и мне, и комиссару, что она никогда не слышала о писателе Лимонове. Я скромно сказал, что в декабре вышел мой первый роман, но что она ещё услышит обо мне. Комиссар подкатил к себе стол с грубой пишущей машиной и почему-то сам, двумя пальцами, стал выстукивать мои показания, переводимые женщиной в меховой шапке.
— Много ли вы выпили за обедом?— спросил он меня в самом начале.
Я сказал, что лично я, да, выпил много.
— А Эммануэль Давидов?— спросил комиссар.
— Сколько выпила Эммануэль Давидов, мсье комиссар, я не знаю.— сказал я.— Она не моя подружка, я за ней не следил.
Комиссар курил житан за жиганом, женщина в меховой шапке курила длинные сигареты, и постепенно предметы в комнате сделались трудно-рассмотримыми. Я думал о том, что уже где-то видел и комнату, и крепкие руки комиссара с большей, чем это необходимо, силой ударяющие по клавишам. И дама в шапке, с присущими всем дамам этого типа ужасно приличным выражением лица и такими же приличными, старомодными, благонадёжными манерами, была мне знакома. Комиссар гнул свою нехитрую линию, пытаясь на всякий случай (всё равно ведь полицейское товарищество уже аннулировало наше нехитрое и обыденное преступление) отделить меня от Эммануэль Давидов и Эжена. Только профессиональной привычкой возможно было объяснить в данном случае его бесцельные замечания о том, что Давидов — безответственная, не думающая о своих пассажирах водительница.
Единственное, что отличало комиссара от виденных мною в многочисленных фильмах комиссаров,— под мышкой его не было револьвера в кобуре. Я, рассмотрев его, решил, что он симпатяга. Крупные черты лица выражали уверенность, крепкость и надёжность. Может быть, благодаря чертам лица он и выслужился в комиссары. Движения его были целенаправленными и определёнными. Лысину его я отнёс к категории сильных. Лысины, как я давно заметил, бывают хрупкими, подлыми, хитрыми, множество категорий лысин существует в наличии. Эта была сильна, как броня лёгкого танка… Интересно, подражают ли полицейские комиссары фильмам о полицейских комиссарах? В конечном счёте я решил, что даже перед писателем, выпустившим один роман, полицейский комиссар должен вести себя чуть иначе, чем перед простым смертным.
Оказалось, что моя версия происшедшего отличается от версии Давидов и Эжена.
— Вы, по-видимому, находились в шоковом состоянии?— подсказала мне меховая шапка.
— Да!— охотно согласился я.— Да-да. В шоковом состоянии.
В моей версии не хватало одного эпизода, на котором настаивали мои «подельники».
Вскоре все действующие лица несостоявшейся трагедии заполнили комиссарский кабинет. Не присутствовал лишь шофёр «4-Л». Версия отоспавшихся «ковбоев», как их стала называть Давидов прямо в глаза, разительно отличалась и от моей, и от версии Давидов — Эжена. Ковбои, тихие и даже стеснительные в присутствии комиссара, всё же продолжали утверждать, что они кричали нам: «Полис!» и что шофёр «4-Л» был в полицейской форме. Я заметил, что «мой» ковбой, державший мой лоб на мушке прошлой ночью, был самый нервный. Я бы предпочёл, если бы мне предоставили право выбора, оказаться на мушке или у полного ленивца-блондина, или же у главы их ковбойской команды, тоже нервного, но в меньшей степени.
Эммануэль Давидов, подкрасившая губы и расчесавшая волосы, заявила, что неправдоподобно предполагать, что водитель, или в данном случае водительница автомобиля, не остановилась на паблисити крик: «Полис!» Ведь «Либерасьён» едва ли не каждую неделю публикует похожие как капли воды истории о том, как полиция поливает свинцом не остановившихся на её предупреждение водителей.
— Трупы французов отмечают ковбойские приключения французской полиции!— вскричала она.
Комиссар заметил, что если бы Эммануэль Давидов и ей подобные реже читали «Либерасьён», было бы лучше для всех. «Ковбои» заулыбались.
Последовала словесная битва по поводу роли «Либерасьён» в жизни Франции. Полицейская сторона явно не жаловала газету. Эммануэль Давидов заявила, что «Либерасьён» — оплот, во всяком случае, одна из опор демократии во Франции. Я сидел, качал ногой (только я и комиссар остались сидеть, все они стояли и размахивали руками) и думал, что если бы Давидов не ввязывалась постоянно в мелкие ссоры, мы бы сейчас уже пили алкоголи в ближайшем к комиссариату кафе. Потребность доказать свою правоту была в Давидов, очевидно, сильнее здравого смысла, велящего заткнуться и дать возможность полицейским почувствовать себя правыми.
Они поделили правду пополам. Сошлись на том, что водитель, да, был в полицейской форме, но в момент, когда они пытались взять нас на абордаж, он снял кепи, и мы не могли видеть, что он в форме. Поняв, что нас отпустят, три «ковбоя» горько усмехнулись и поджали губы. Им, разумеется, было обидно, что у «мальфетерс» оказался где-то в верхах «пистон» (так, смеясь, назвала Давидов своего приятеля комиссара) и их ночная ковбойская работа не была увенчана торжеством правосудия. С разрешения комиссара они надели головные уборы, развернулись и покинули помещение.
— Их можно понять,— сказал комиссар, обращаясь почему-то ко мне. Может быть, как к иностранцу. Может быть, его вдруг встревожило, какой имидж французской полиции может сложиться у иностранного писателя в результате подобного опыта.— У старшего жена умирает от рака. Три месяца тому назад они потеряли товарища. Остановили автомобиль, показавшийся им подозрительным. Водитель выхватил револьвер и уложил парня наповал. Так-то…
— Сколько же им нужно уложить автомобилистов, чтобы успокоиться?— не выдержал, съязвил Эжен.
Комиссар внезапно рассердился.
— Подписывайте показания и уваливайте отсюда. 18:30. Уже полчаса, как меня здесь быть не должно. Мне за вас лишних денег не заплатят.
Он раздавил последнюю житанину о пепельницу, наполненную скорчившимися, как креветки, окурками. Стал отворачивать рукава синей рубашки. По очереди мы наклонились над столом и подписали бумагу в нескольких экземплярах. Отвернувшись от нас, комиссар надевал спортивный пиджак.
— Орэвуар, мсье комиссар!— сказал я ему в спину.
— Гуд бай, мсье.
Комиссаровское «гуд бай» прозвучало насмешливо. Эммануэль Давидов и Эжен вышли не прощаясь.
— Напишите мне, пожалуйста, название вашей книги!— русская меховая шапка протянула мне блокнот и ручку.
Я написал.
1 Salope, con, salopard (франц.) — французские ругательства.
2 I wanna speak to my lower! (англ.) — Я хочу говорить с моим адвокатом!
3 Fucking flics (англ., франц.) — Ёбаные флики (полицейские).
4 Mon vieux (франц.) — старик.
5 Kill the cops! (англ.) — Убивайте полицейских!
6 Blanc manteau (франц.) — белое пальто.
7 …reach peuple and intellectual (англ.) — …богатых и интеллектуалов.
8 Pied-noir (франц.) — французы, репатриированные из Алжира.
из сборника рассказов
«Обыкновенные инциденты» • 1987 год
Спина мадам Шатэн
Муж её отправился в Бейрут. Ясно, что нормальный артист не полетит к богу на рога — в Бейрут с медикаментами и одеялами для якобы не имеющих оных бейрутских детей. Дело это — развозка мешков — впору скромным служащим «Красного креста». Вдохновенному Анакреону, каким её муж всегда себя представлял, что же мешки-то таскать? Если исключить дипломатов (эти вынуждены жить в некомфортабельной стране поневоле, служба…), отправляющиеся в гиблые для западного человека широты индивидуумы обыкновенно ищут прибыли. Нет-нет, не какой-нибудь вульгарной, денежной, ту следует искать в здании Биржи, но особой. Отвозя аборигенам ненужный в Париже хлам, как-то: состарившиеся медикаменты, старые одеяла, свитера, куртки, полотенца или мясо, пролежавшее год в морозильниках, отважные сорвиголовы возвращаются в CRN.
Что такое CRN? О, CRN стоит всех сокровищ мира, камрады! О CRN грезят, за него дерутся в муках, среди страстей и крови лучшие люди планеты. Его невозможно потрогать руками или лизнуть языком, но на нашей планете тот, кто имеет CRN даже лишь только десять процентов, может сделать миллионы щелчком пальцев. Небрежно. Он может добиться любой должности. Любой женщины. CRN — изобретено, разумеется, американцами и расшифровывается как Coefficient of Recognition of the Name — степень известности имени. Вы думаете, Президент Соединённых Штатов Америки имеет 100% CRN? Ну нет! Даже Джизус Крайст не имеет ста. Никто не имеет ста. У Президента Картера был CRN 33%. У Фараона Рейгана — 46%. Голливудские супер-актёры и супер-актрисы обходятся кто двадцатью двумя, кто семнадцатью.
У её мужа Жана Шатэна коэффициента вообще не было. Ну, может быть, легчайший, местный, только в пределах Франции, какие-нибудь жидкие франко-проценты. Потому, найдя себя в опасной близости к пятидесяти годам, певец Жан Шатэн полетел в неудобном транспортном самолёте — в спину ему врезались ящики с аспирином, по ногам били сумки с телеоборудованием — на Восток, добывать себе CRN. Его агент сумел договориться с другом лицейских лет — Президентом Антэнн-В1, и тот послал в Бейрут экип из трёх человек (все трое алжирские арабы), снимать подвиги Жана Шатэна на бейрутской земле, где CRN валяется под ногами и пропитывает воздух.
Вначале всё шло хорошо. Люди его агента подсуетились, собрали в аэропорту небольшую кучку детей. Дети femmes de ménages2 из нескольких неэвакуировавшихся посольств арабских стран, дети горничных из отеля — набралось с полсотни душ. (Вообще-то умный телеэкип3 может представить пятерых как толпу в пять тысяч, если он умный телеэкип.) Жан Шатэн, вдохновенный, измождённое лицо, седая шевелюра, кожаная куртка, платок вокруг горла, раздал детям комплекты — каждому коробочку с аспирином и одеяло. Мы увидели его в Париже, в Новостях Антэнн-В в течение пяти минут. (Президент Антэнн-В не только сидел в одном классе с агентом Жана Шатэна, его дочь была замужем за сыном брата Жана Шатэна.) Комментарий, трогательный и красивый, однако, уступал визуальному имиджу. Певец Жан Шатэн, вложив одеяло в руки маленькой крошки с серьгами в виде полумесяца, прижал ребёнка к щеке, и из глаза певца выкатилась слеза. В его краткой, взволнованной речи, хорошо отрепетированной — до того, как стать исполнителем хрипловатых монотонных баллад, Жан Шатэн был актёром,— прозвучали «solidarity», «care», «aid»4 — все трогательные слова, что звучат обыкновенно в таких случаях. Закончив речь, Жан Шатэн взял гитару. Гитара его звучала в Бейруте (увы, я должен это констатировать) так же бездарно, как и в Париже. В нескольких вечерних газетах появились фотографии: «Певец Жан Шатэн раздаёт детям Бейрута…» — плечо кожаной куртки Шатэна, нос, пятно глаза…
Неизвестно, насколько повысился CRN её мужа за эти пять минут в восемь часов вечера на Антэнн-В, пять минут, наполненные раздачей аспирина с одеялами и дёрганьем струн. На мой взгляд, вся их затея удалась бы эффективнее, если бы они выбрали другую группу детей. Те, которых мы увидели, были слишком пухлощёкие и весёлые. Измождённость Жана Шатэна, его средиземноморская мрачная уксусность кожи и взгляда (maigre-vinaigre5… Я предполагаю, что мрачная брюнетистость большинства французских мужчин объясняется многолетним воздействием красного вина на их внутренности) резко контрастировала с откормленными щёчками и двойными подбородками девочек и гаврошей Бейрута. Впечатление было такое, что эти дети принесли Жану Шатэну одеяла и аспирин, дабы он согрелся, бедняга maigrichon6, и остановил лихорадку аспирином… Трудно судить, что бы случилось с CRN Жана Шатэна, каких цифр он достиг бы, если бы поездка развивалась нормальным образом. Однако она неожиданно развилась ненормальным. Через сутки, в восемь вечера следующего дня, Антэнн-В объявила, что Жан Шатэн исчез из отеля. Сознаюсь, вначале я подумал, что это подстроенный паблисити трюк. «Га-га-га,— смеялись мы с моим соседом по лестничной площадке, старым прокуренным коммунистом Аленом Ратье, и вышучивали исчезновение.— Кому на хуй нужен бездарный певец… Вернётся, загулял с девочками». Жена коллеги Алена по РТТ7 убирает у Шатэнов квартиру, так что мы с Аленом знаем: игнорируя жену, любит Жан Шатэн молоденьких пёзд. У оставшихся в Ливане немногих иностранцев у всех тонкие нервы. Сколько раз уже подымали там панику из-за ничего. Из-за того, что майор войск ООН задержался в постели горячей «ханум» и не явился спать в свой режимент. Из-за того, что журналист запил в горах с командиром христианской милиции, а другой журналист накурился гашиша до полусмерти с командиром шиитской милиции в тех же горах, но в соседней долине… «Долины у них там, как у нас улицы. Мы с тобой, представь, Эдуар, предположим, христиане, держим нашу долину — рю де Тюренн, а шииты держат рю Вьель дю Тампль»,— объяснил мне Ален. Похохотав, мы разошлись. Он, надвинув кепочку на брови, стал спускаться с нашей горы в нашу долину. Четыре пустые бутылки «Бьен Веню»8 в корзинке.
Однако Жан Шатэн не появился в отеле и через сутки. И ещё через сутки не появился. Прибывший вместе с ним в Бейрут телеэкип «Антэнн-В» ввиду исчезновения объекта передал в Париж несколько пейзажных зарисовок бейрутских развалин со следами пуль, дал нам рассмотреть подробно, что лежит на лотках уличных торговцев, продемонстрировал несколько плачущих неизвестно по какому поводу женщин. Но «зиро» Жана Шатэна. Как и не было певца.
Потом пришла эта кассета. Жан Шатэн на фоне портрета имама Хомейни, знамя исламской организации «Фу дё Дьё»9 по правую руку. «Франса, франсэз, мсье ле Президент, мсье Премьер-министр…» Голос певца звучал глухо, потерял привычную хриплость. Не то его лишили любимых сигарет «Житан», не то любимого аперитива, но голос был неузнаваемым.
«Хм,— Ален Ратье вынул из угла рта окурок, что бывает с ним крайне редко.— Мэк похудел, но выглядит свежее». И высказал предположение, что «Фу дё Дьё», как и подобает исламской организации, алкоголя у себя не держат. Потому впервые за полстолетия Жан Шатэн не проглотил и капли алкоголя в целую неделю.
После показа кассеты впервые предстала перед нами она. Его жена. Никто до этого во всей Франции, я думаю, даже и не подозревал, что у него есть жена. Да и вообще — что, людям делать больше нечего, интересоваться плохоизвестным певцом. Мы с Аленом знали его жизнь лучше других, изнутри, благодаря коллеге из РТТ. Случайно.
Жена его, обещающая стать вдовой («Фу дё Дьё», сказал Жан Шатэн, угрохают его, если Франция немедленно не прекратит поставлять оружие Ираку), оказалась маленькой некрасивой мадам с испуганным лицом и двумя резкими, спускающимися от носа ко рту морщинами. Грязные или просто-напросто жиденькие волосы собраны сзади в пучок. «Большое горе,— сказала она,— постигло нашу семью. (Показали семью — двух жопастых подростков, мальчика и девочку, и собаку.) Мои дети остались без отца. Я обращаюсь к Правительству и Президенту лично с просьбой матери и жены. Сделайте всё возможное, мсье, чтобы муж и отец вернулся в семью…» Голос её задрожал.
«Как вы себе представляете вмешательство Правительства в освобождение вашего мужа?» — спросил комментатор. «Франция должна прекратить поставку оружия Ираку»,— сказала она просто. Комментатор, тронутый её простотой, заметил, однако: «Вы, безусловно, знаете, мадам Шатэн, что Францию связывает с Ираком многолетнее сотрудничество и союзничество. Разорвать дружбу с государством ради…» — он замялся. «…Ради того, чтобы вернуть детям отца»,— подсказала она так скорбно, и выигрышно, и красиво, без фальши, что я понял — вот женщина на моих глазах сейчас выдула одним махом отличный CRN. Так вздымают высоко к лимиту могучие лёгкие ковбоев уровень аппарата для измерения объёма грудной клетки на американских сельскохозяйственных выставках. Она сделала себе мгновенно CRN, какого её муж не смог добиться за двадцать с лишним лет дёрганья струн. «Star is born»10. Алена Ратье, увы, не было рядом, и некому было засвидетельствовать, что я отметил новую телезвезду в первое же её появление на экране.
Не только я заметил рождение звезды. Назавтра все утренние газеты опубликовали её фото. Скорбное, треугольником личико размером с кулачок, пучочек волос, покатые плечи под кожаной курткой. «Ради того, чтобы вернуть детям отца!» — кричали заголовки «Фигаро» и «Ле Монд». Обыкновенно расходящиеся во взглядах и правые и левые газеты одинаково влюбились в мадам Шатэн с её обезоруживающей новой формулой французской внешней политики. «Мяч находится на поле Правительства. Мы ждём от Правительства ответа»,— заключили эдиториалисты. Ни одна газета не обвинила её муженька Жана Шатэна в детской безответственности. Ни один журналист не задумался над вопросом, зачем Шатэн попёрся в Бейрут, где в своё время погибли десятки французских солдат и откуда благоразумно убралось французское посольство. В Бейрут, где никто не знает, какой CRN у Жана Шатэна. «Фу дё Дьё», скорее всего по наводке людей, отмечающих паспорта в аэропорту, захватила Шатэна, думая, что захватывают большого человека, Элвиса Пресли французской песни, что французское правительство не устоит, сломается под напором общественного мнения.
Скептики, мы с Аленом Ратье, всовывая ключи в замочные скважины дверей, обернулись, посовещались и пришли к выводу, что абсурдно ожидать, чтобы французское правительство сменило свою внешнюю политику ради освобождения от «бесплатного курса лечения алкоголизма», как ехидно выразился Ален, шевеля окурком, третьестепенного певца. Звезды телевидения ярко вспыхивают, но мгновенно угасают. Мы решили, что супруги Шатэн, их дети и собака скоро исчезнут, убитые ещё более свежими звёздами.
Поначалу так и случилось. Мадам Шатэн продолжали ещё приглашать на мелкие каналы, где она неизменно произносила фразу: «Ради того, чтобы вернуть детям отца». Однако новая вспышка активности «Фу дё Дьё» отвлекла нас от семьи Шатэн. «Фу» украли сразу же двух французских граждан, один был назван «дипломатом», другой — «исследователем SNRS», засняли их, подобно Шатэну, на фоне имама, и их видео-упражнения были продемонстрированы по Антэнн-В. Мы с Аленом отметили, что «Фу» научились обращаться с камерой. Внимание прессы, естественно, переместилось на свежие, сразу две свежие жертвы. У «дипломата» и «исследователя» тоже были жены и собаки, но мы с Аленом пришли к выводу, что они уступают мадам Шатэн во всём. Очевидно, у неё был специальный талант — выглядеть жертвой.
Одновременно «Фу дё Дьё», очевидно имевшие какие-то просьбы к советскому правительству, захватили в том же Бейруте четверых русских. Может быть, потому, что русские отказались просить что-либо у своего правительства глядя в видеокамеру, или же по причине того, что «Фу» терпели французов, но не выносили русских, «Фу» застрелили одного русского для примера. КГБ равнодушно украло родственника лидера «Фу дё Дьё» в горах. Отрезав родственнику секс, люди КГБ затолкали секс ему в рот, и родственник был застрелен пулей в лоб. Труп был выброшен на бейрутской улице. (То есть на мужской вопрос последовал мужской ответ.) На следующий день трое советских были доставлены на то место, откуда их взяли. Чистенькие и живые. «Русские ещё более «Фу», чем «Фу дё Дьё»»,— заметил Ален. Но был вынужден согласиться, что подобное нецивилизованное поведение эффективно в условиях Бейрута. «Надеюсь, что русские вначале убили его, а уж потом занялись его сексом»,— добавил Ален.
Франция стала забывать мадам Шатэн. Однажды, включив теле, я остолбенел. Мадам Шатэн в окружении бородатых разбойников с автоматами давала интервью в лобби разрушенного отеля в Бейруте. Она сидела в своей кожанке, бесплечая, постное личико, никакого мэйкапа, только платочек прибавился, на диване вместе со зверюгами в хаки-куртках, и к ней тянули микрофоны все оказавшиеся в этот момент в Бейруте журналисты. Она сказала (голос грустный и вдовий), что ищет прямых контактов с «Фу дё Дьё», у которых у самих наверняка есть дети, и они не могут, как ей кажется, остаться равнодушными к плачу детей, ожидающих отца. Что она отчаялась дождаться конкретных мер от Правительства и потому вот, одев мусульманский платочек, прилетела в Бейрут. Средства её выражения были намеренно скудны, как рацион питания рядового гражданина в период войны, но эта кажущаяся бедность образов: дети, жена, отец Дьё, «Фу дё Дьё» — действовала безотказно. «Фу дё Дьё» в этот раз выглядели гуманнее нашего правительства, раз они согласились встретиться с нею через посредников и даже согласились передать Шатэну письма от детей. У телезрителей, у меня сладко заныло сердце в момент, когда камера отклонилась как бы случайно от цели — лица мадам Шатэн, и в кадр попал автомат Калашникова, его держал на колене, дулом вверх, сосед мадам Шатэн. Покончив с автоматом, камера облизала большой нос и шоколадные очи шиита из организации «Амаль» — «амалевцы» взялись охранять мадам Шатэн во время пребывания её в Бейруте. У нашего правительства — его средства понимания мира и работы с миром — секретарши, циркуляры, письма, ординаторы, заседания, а у этих ребят из «Амаль» — инстинкт, и только… Потому они раньше поняли, кто такая Шанталь Шатэн. И решили к ней примкнуть. Потому что когда ты примыкаешь к сильному человеку раньше других, то тебе достаются всякие выгоды. Какие? Я уверен, что они понятия не имели какие, но как мудрые восточные люди, следуя инстинкту, перешли на сторону некрасивой женщины в платочке и кожанке. Многие люди занимают в этом мире не свои места. Только случайно выяснились способности мадам Шатэн. В нормальных обстоятельствах у мадам не было доступа на теле.
Как сочно выразился Ален Ратье — я вызвал его на площадку обменяться мнениями,— «она крепко врезала правительству по яйцам». И мы оба сошлись во мнениях — старый коммунист и я,— мадам Шатэн наслаждается телевниманием. Не так, знаете, глупо хихикает от удовольствия, но наслаждается, как привыкшая к суровой сдержанной жизни монахиня наслаждается оргией. В интервью из Бейрута нам впервые сообщили профессию мадам Шатэн. Она оказалась инспектором Министерства финансов. Стало ясно, что постность физиономии у неё — профессиональная привычка. Вы видели буйно-красивых и рвущих поводья женщин-кобылиц в бухгалтериях или в министерствах финансов? Мы с Аленом Ратье не видели.
Пятьдесят пять миллионов следили теперь за историей Шатэнов. И время от времени подключались пятьдесят шесть в United Kingdom и ещё шестьдесят в Republique Federal Allemagne. He считая всяких мелких стран — где пять, где шесть миллионов,— так что сотни две миллионов знали о проблемах Шатэнов. Вот это CRN: Ален и я, мы выпили три бутылки «Божоле», оспаривая цифры. Ален считал, что мадам Шатэн достигла всех 70%, я, куда более осторожный, предположил, что она добралась до 40%.
На «Часе Правды»11 — четыре вопроса Премьер-министру прямо или косвенно касались «французского заложника», так его теперь всё чаще стали называть,— Жана Шатэна. Перед каждым выпуском «Новостей» Антэнн-В появлялся теперь большой портрет певца с цифрой под ним. Цифра указывала количество дней, проведённых им в плену, 149… 187… Шанталь Шатэн появлялась теперь во всех без исключения программах. Истина, интуитивно постигнутая шиитами «Амаля» раньше всех, наконец была постигнута и лидерами политических партий во Франции — эта женщина обладала способностью вызывать всеобщее универсальное сочувствие. Ей не нужно было притворяться miserable12, она всегда была miserable, и, может быть, ещё более miserable была она, когда Жан Шатэн пел свои козлиные мелодии на земле Франции, а не сидел на строгой безалкогольной диете в бейрутском подвале.
«Ты понимаешь, Эдуар,— сказал Ален, посасывая давно потухший окурок, без посасывания окурка он не мог размышлять, не получалось,— не ему сочувствуют массы, но ей. Не он главный в этой истории. Она. Мадам. Она выглядит так хуёво… Низкорослая, зубы жёлтые, морщины, волосы немытые, вестон обшарпанный, какие-то ботики, такие моя покойная grande-mere не одела бы, до того убоги… Никто ей не завидует. Даже самый захудалый обитатель демократии. Её всем жалко. Вот где секрет. А на Жана Шатэна массам положить».
В демократии Президент обязан прислушиваться к процессам, происходящим в обществе. Президент пригласил мадам Шатэн на завтрак. Новообразованная non-profit организация «Общество защиты Жана Шатэна» повесила над Сеной, прикрепив их к сваям моста Александра Третьего, два больших портрета Жана Шатэна. Бизнесмен Бернар Тапи нанял на двое суток дирижабль, провёзший в небе над Францией лозунг «Свободу Жану Шатэну!». Под давлением общественности представитель Министерства иностранных дел был вынужден приоткрыть один угол таинственности, обыкновенно прикрывающей деятельность его министерства. «Мы ведём с представителями «Фу дё Дьё» переговоры по освобождению Жана Шатэна. Есть надежда на то, что «французский заложник», может быть, будет праздновать Рождество в кругу семьи». В ответ на упрёк журналиста «Жюрналь дю Диманш», что правительство отступило таким образом от своего собственного принципа — «Никаких переговоров с террористами!», представитель министерства строго заметил: «Соображения гуманитарного порядка, как это и следовало ожидать от администрации с такими сильными гуманистическими традициями, каковой является французская администрация, заставили нас предпочесть принцип «вернуть детям отца» строгому соблюдению международных обязательств. Вы не можете обвинить правительство в такого рода слабости».
Следовавший за выступлением представителя министерства комментарий мадам Шатэн был полон словесного удовольствия по поводу того, что детям будет возвращён отец, однако никогда не улыбающееся личико мадам Шатэн показалось нам с Аленом желтее и несчастливее, чем обычно.
«Ален!— воскликнул я, мы сидели перед его теле.— Я всё понял об этой даме. Она не хочет освобождения этого говнюка, её мужа. Может быть, вначале, когда только ввязалась в эту историю, хотела, но сейчас — не хочет. Вот что! О ней тотчас забудут, перестанут приглашать на теле, и из звезды телевидения, в какую она превратилась за эти 269 дней, пока её муженёк сидит в бейрутском подвале или ливанских горах, она превратится опять в некрасивую, средних лет Золушку Министерства финансов. И это ей невыносимо».
Ален отметил с восхищением, что я очень malin13, хотя и не настолько malin, как Селин (Ален с большим основанием может считаться членом «селиновской» партии, чем ФКП, он поклоняется Селину как идолу), и согласился, что скорее всего так и обстоит дело. И что он надеется, что «Фу дё Дьё» не выпустят так просто её emmerdeur14 мужа. Потому как ему, Алену, мадам Шатэн кажется работящей, хорошей женщиной, которая тянет на себе груз семьи, пока её con15 муж воображает себя певцом и актёром. Пусть она попользуется ещё чуть-чуть популярностью. «В конце концов, Эдуар, она ни у кого не отнимает travail16, имеет лишь известность в чистом виде…» — «Чистого CRN не бывает,— возразил я.— Она может сейчас сняться, если захочет, в каком угодно паблисити, ей заплатят гигантские деньги…» — «Это betise17, Эдуар,— рассердился Ален неожиданно.— В каком паблисити она может сняться? С её физиономией?» — «В любом. Вплоть до паблисити, прославляющем качество «Миражей». Почему нет? Она в платочке стоит у колеса, и текст что-нибудь вроде: «Дабы защитить вашу семью от потери отца, вашей стране нужен такой самолёт, как «Мираж»…» Я видел в Соединённых Штатах однажды в газетах — оружейный магазин рекламировал свои револьверы и митральезы оригинальным образом: цифра годового страхования, четырёхзначная, жирно перечёркнута, и надпись гласит: «Наш Смит энд Вэссон застрахует вашу жизнь куда вернее и за куда меньшую сумму!» А, Ален! Мадам Шатэн может рекламировать митральез, предположим: «Если бы у моего мужа, когда его автомобиль остановили на авеню Абдель Насэр похитители, оказалась в руках эта митральез, «Фу дё Дьё» не смогли бы захватить его!»
Ален сказал, что моё мнение о том, что всё человечество состоит из salopes18,— ошибочно, что не отдельные индивидуумы гнилые, как я себе это представляю, но общественная система гнилая. Система подлая, а не массы. Я презрительно ухмыльнулся, но спорить не стал, ибо, как продемонстрировал опыт, наши с ним споры ведут к ссорам. Встречаясь после ссоры на лестнице, мы несколько дней не здороваемся.
«Фу дё Дьё» не выпустили певца, но прислали новую кассету. Великолепного качества. Забыв о своём предыдущем требовании, чтобы Франция прекратила поставки оружия Ираку, они теперь возжелали выпуска из тюрьмы пяти родственников шефа своей организации и публичного извинения Франции перед этими пятью. Жан Шатэн беспокойно зачитал требования «Фу дё Дьё», издал несколько всхлипываний, посмотрел на нас с Аленом умоляюще и сложил перед собой руки самым натуральным исламским образом.
«Ха-га,— осклабился Ален одним углом рта, другим зажимая окурок,— извинения арабы никогда не дождутся. За всю свою историю Франция никогда ни перед кем не извинялась. Даже перед своими гражданами, не говоря уже о чужих. Какая хуйня!— Он неодобрительно покачал седой головой.— Сидя в своих развалинах или горах, где они там сидят, эти «Фу дё Дьё», Эдуар, они сделались действительно fou»19.
Правительство, как и предсказал Ален, ответило на появление отличной кассеты молчанием.
Шанталь Шатэн ответила на молчание правительства появлением в президиуме объединённого съезда оппозиционных партий. Её приветствовали стоя! В момент её выхода к трибуне для произнесения речи двух журналистов сбили с ног, произошли серьёзные беспорядки у входа в помещение, где происходил съезд, и в результате несколько человек были отправлены в госпиталь. «Я потеряла всякую надежду… У меня нет больше веры в то, что мой муж возвратится в семью, детям будет возвращён отец… при существующем правительстве… Я призываю всех матерей, всех, у кого есть дети, для кого семья не пустое слово… голосовать за кандидатов оппозиции».
И мадам Шатэн, скорбно сгорбив плечи, сошла с трибуны.
Она, однако, не вернулась, как того ожидали все телезрители Франции, на своё место за столом президиума, но сошла со сцены и по проходу стала удаляться из зала. Был ли этот трюк приготовлен или нет, но экип Антэнн-В (я и Ален отдаём Антэнн-В предпочтение) снял весь её проход и, выбежав вслед за нею на улицу, проследовал вместе с нею до самого её невзрачного автомобильчика. Только спина, но какая! Грустная сгорбленная спина, красноречивая спина, покатые плечи, хвостик волос с воткнутой в волосы невзрачной гребёнкой. Четыре минуты без комментариев.
«Гениально! Жениаль!» — вопил Ален, по-настоящему возбудившись. Для его пятидесяти шести лет и темперамента скептика такое возбуждение — вещь исключительно редкая. За три года соседства я его таким никогда не видел. «Да,— согласился я.— Гениально! Чистая работа. Жульничество высшего класса! Половина франсэз20, я предполагаю, расплакалась. И треть франсэ21… Или у мадам гениальный советник, или у неё самой редкостно гениальные мозги».— «Ты монстр, Эдуард, правда…» — Ален поморщился. Всё же, зная его, я понял, что он застеснялся своего энтузиазма. Правда и то, что среди кандидатов оппозиции, за каковых нас призывала голосовать мадам Шатэн, часть принадлежала к компартии Франции. Оправившись, свернув новую цигарку, он тихо задал вопрос, может быть, самому себе: «Слушай, ты думаешь, её использовали?» — «Я знаю ещё меньше тебя, Аленчик. Это ты — настоящий француз, я же — адаптированный…» Я называю его «Аленчик» всегда, когда не хочу с ним ссориться. Ему же нравится это «чик», приплюсованное к его имени. «Я так понимаю, Аленчик, и её использовали, и она их использует. Разумеется, лучше бы плохой певец вернулся во Францию, пусть ни жена, ни толстозадые дети в нём, на мой взгляд, не нуждаются. Тебе же лично мэк из РТТ говорил, что он «эммердэр», что любит молоденьких девочек и что его отцовство заключалось в оплодотворении мадам Шатэн… Беспринципность же всей этой истории…» — «Да-да, Эдуар,— забормотал Ален, задымив,— история беспринципная». Кажется, ему все ещё было стыдно за свой энтузиазм… или сентиментальность.— «…заключается в том, на мой взгляд, что мадам Шатэн не может противостоять искушениям тщеславия. Оппозиционные партии не могут противостоять искушению использовать мадам Шатэн и её тщеславие. Правительство упустило возможность использовать тщеславие мадам Шатэн и приобрело в её лице могущественного врага… «Фу дё Дьё», сидя в далёком Бейруте, прекрасно разбираются, однако, в этом наборе тщеславий и, дёргая за нужные, используют их для своих бейрутских целей. Но главная и первая беспринципность в цепи — визит Жана Шатэна в Бейрут. Кретин отправился в Бейрут, не соображая, что он делает, движимый желанием поправить свою катящуюся под уклон карьеру. Если бы он был нашим шпионом на Ближнем Востоке, нашим солдатом… тогда стоило… тогда стоило бы за него драться. Но он прилетел в эту западню по дурости, преследуя личные корыстные цели. Появиться в новостях на теле благородным героем с одеялами желал — омолодить свой имидж. Вот пусть он один, сам, и выпутывается! Почему он… как бы это выразиться… не возложит на свои плечи всю ответственность? Почему он, как подобает мужчине, не сожмёт зубы и не попытается сам расхлебать свою ситуацию? Ведь мы его в Бейрут не посылали. Почему Франция должна изменять своим союзникам и друзьям, дабы заполучить в Париж этого ничтожного «con»? Он думал о Франции, отправляясь с никому не нужными одеялами в Бейрут, где только и ждут таких кретинов, где уже смеются над нами, над западными людьми?.. Какие немужнины, какие жалкие трусы эти западные люди — так они думают…»
Ален всё кивал, но в этот момент в нём проснулся коммунист. «Послушай, Эдуар… Это я тебе сказал, что он говнюк, Шатэн. И я повторяю, что он говнюк. Но умирать за Французскую Республику в восьмидесятые годы XX-го века, когда всем всё равно,— удовольствие небольшое. Представь себе, он там сидит в подземелье, прикованный наручниками к радиатору, и, готовясь умереть, представляет себе, как спускается тёплый летний вечер на бульвар Сен-Жермен… Как отправляются в рестораны пары, как к ночи разбредаются в постели с хорошенькими грудастыми девочками его более удачливые коллеги: Митчелл, Гензбур, Джонни22… «Но нет!— орёт Шатэн.— Я не желаю умирать за Французскую Республику в то время, как другие за неё не умирают!» — «Зачем ему умирать за Французскую Республику, Ален? Пусть умрёт за себя. Неужели ему не стыдно выглядеть перед всей страной жалким трусом — просителем, покорно читая написанный его тюремщиками текст. Да обыкновенный вор из тюрьмы Сантэ имеет больше гордости и чувства чести. Под прикрытием ядерного щита западные мужчины разучились быть мужчинами. А «Фу дё Дьё» не разучились. Посмотри, как они себя ведут на наших процессах, Ален. Я не сочувствую их целям, но я сочувствую их поведению. Они, из слаборазвитых стран, ещё дорожат своей честью. Они редко раскалываются. Ты видел, с каким презрением глядел Абдалла на своих судей?»
Через три недели оппозиция пришла к власти. Zondages23 приписали это обстоятельство, как всегда, состоянию экономики. Мы с Аденом приписали эту победу спине мадам Шатэн. Телезритель голосовал за её понурую спину жертвы. Сочувствуя ей и, может быть, отождествляя себя с нею.
Через ещё две недели «ОТАЖ ФРАНСЭ ЖАН ШАТЭН» был высажен на той же авеню Абдель Насэр в Бейруте, на которой его в своё время схватили. Через сутки новый премьер-министр встречал его в аэропорту Буржэ. Вместе с детьми Шатэна, собачкой и мадам Шатэн в кожаной куртке. Выглядела она ужасно. Может быть, заболела. Впоследствии оказалось, что это было последнее появление мадам Шатэн перед телезрителями.
Через год в РТТ, где Ален работает, ему сообщили, что Шатэны развелись. Но ни теле, ни прессу это событие уже не заинтересовало.
1 «Антэнн-В» — французская телекомпания.
2 Femmes de ménages (франц.) — уборщицы.
3 Teleequip (франц.) — съёмочная группа телевидения.
4 Solidarity, care, aid (англ.) — солидарность, забота, помощь.
5 Maigre-vinaigre (франц.) — худой (уксус).
6 Maigrichon (франц, арго) — худоба.
7 РТТ — Почта. Телефон. Телеграф.
8 «Bienvenues» (франц.) — «Добро пожаловать», пролетарское дешёвое вино.
9 «Les Fous de Dieu» (франц.) — «Безумцы Бога».
10 Star is born (англ.) — Звезда родилась.
11 «L'heure de vérité» (франц.) — «Час Правды» — телевизионная передача для политиков во Франции.
12 Miserable (франц.) — несчастной.
13 Malin (франц.) — злодей.
14 Emmerdeur (франц.) — говнюк.
15 Con (франц.) — пиздюк.
16 Travail (франц.) — работа.
17 Betise (франц.) — глупость.
18 Salopes (франц.) — бляди.
19 Fou (франц.) — безумец.
20 Française (франц.) — француженок.
21 Français (франц.) — французов.
22 Митчелл, Гензбур, Джонни — певцы Eddy Mitchell, Serge Gainsbourg, Johnny Holliday.
23 Zondages (франц.) — опросы общественного мнения.
из сборника рассказов
«Чужой в незнакомом городе» • 1989 год
Личная жизнь
Она стояла в этих блядских красных туфлях, голые ноги из-под пальто, пританцовывала и смеялась. Я смотрел на красные туфли и вспоминал почему-то, как давно в Москве некто, возвратившийся из командировки в Париж, убеждал меня, что все парижские проститутки носят красные туфли. «Ни хуя подобного,— подумал я. (Далеко за ней, в освещённой щели, была видна улица Сен-Дени.) — Ни хуя подобного, не все…» Я хожу здесь достаточно долго, чтобы изучить предмет. Она, переминавшаяся в красных туфлях, не была проституткой, это была моя любимая женщина. Вот как. Она поселилась на Сен-Совер, вытекающей из Сен-Дени, случайно… От молчаливых размышлений, имевших целью отвлечь меня от действительности, меня отвлёк её голос.
— У меня парень,— сказала она.— И, можешь себе представить — очень интересный парень. Хоть ты и считаешь, что только ты один существуешь, но встречаются ещё мужчины. Он моложе тебя, моего возраста. Нам вдвоём очень хорошо.
Она улыбнулась такой улыбкой, что я понял — ей таки очень хорошо.
Мне захотелось дать ей по наглой большеротой физиономии.
— Дрянь!— сказал я.— Наглая русская девка…
— Ну и девка, ну и что…— сказала она.— Я тебя любила, а ты мной пренебрегал. Когда я приехала в Париж, ты даже за сигаретами мне не сходил. Бросил мне карту — иди! И потом…
— Я с тобой жил… Несмотря ни на что. Разве нет? Ты напивалась, приходила утром или вовсе не приходила, ты дралась со мной, как дикая кошка, но я всё же жил с тобой…
— Ты стал маленький какой-то…— Она с действительным сожалением осмотрела мою фигуру снизу доверху, как будто примерив на меня имеющийся у неё груз.
— Какой есть,— сказал я.— Мои метр семьдесят четыре. После войны жрать нечего было, а то бы больше вырос.
— А он высокий,— сказала она.— Когда мы с ним идём по улице, я вынуждена задирать голову, чтобы увидеть его глаза.
— Ну и хуй с тобой, смотри куда хочешь! Какая дрянь!— Я выругался и ушёл не в направлении рю Сен-Дени, но в противоположном, к маленькой тёмной улочке, и не улочке даже, но тёмной щели между домами. Я не любил её район ещё больше, чем мой.
Я шёл, пиная время от времени мешки с обрезками тканей. Днём в грязных ателье этого ущелья каторжные рабы парижской цивилизации — турки, вьетнамцы, югославы — шили одежду для таких же рабов цивилизации: кожаные куртки, акрилатовые брюки, всякую мерзость, в любом случае. Фонари роняли бодлеровский свет на вонючий и склизкий тротуар — всякий шагающий по Реомюр норовил свернуть в улицу-щель и отлить. Существует такая особая категория улочек, призывающих во весь голос: «Писс здесь! Писс, даже если ты не хочешь…» Выйдя на Реомюр, я пошёл по улице изобретателя температуры, больной, к бульвару Севастополь. На углу рю Сен-Дени и Реомюр красным горели внутренности кафе. В красно-жёлтом желчном пузыре шевелились проститутки и ночной люд города. Зайти в ночное кафе мсье голландца? Я не зашёл, потому как несчастья вызывают во мне желание спрятаться от людей, а не бежать к ним. У большинства человечества, напротив, инстинкт принадлежности к толпе сильнее инстинкта отталкивания. Миновав вспышку света и скопление тел в районе секс-улицы, я вышел в ночную пустоту каменной сырой пустыни Парижа. Дальше рю Реомюр будет мертва — два прохожих на километр… Улица некрополя…
Когда придёт мой последний час и буду я умирать, хрипя кровью, я знаю — я вспомню не лицо матери, не губы любимой, но ночную улицу супергорода и себя, одиноко шагающего в темноте, подняв воротник плаща. Когда-то, блуждая по Нью-Йорку, я придумал стихотворение. Оно осталось незаконченным, потому что я решил его не допридумывать. Что-то испортится, если допридумаю.
По пустынным бульварам ночных городов
Я шагал одиноким злодеем…
Но из женщин не пил я холодную кровь
Ни вампиром, ни гадом, ни змеем…
Я любил их другими… В горячем поту
Возлежащими круто над бездной,
Я любил их, восторженных, с членом во рту,
С этой красной трубой бесполезной…
Всё-таки это больше о женщинах, чем о городах. Однако начало меня возбуждает. Что-то мне в нём удалось вечное… Я очнулся. На углу рю де Вертю (Добродетели!) стоял камион, и свежие весёлые китайцы, лопоча по-китайски, выгружали из камиона одинакового размера коробки. Нормальный китайский легальный товар из Гонконга, Бангкока, Тайваня или криминальный груз? Поди знай… Китаёзы пользуются своим выгодным безобидным подростковым видом — наследием цивилизации, тысячелетиями добивавшейся от чайна-мэн, чтобы он скрывал свои эмоции и был улыбчивым болванчиком. По-русски существует выражение «китайский болванчик». Никакому полицейскому не придёт в голову проверить, что у них в коробках. Подсознательно полицейский доверяет этим жуликам больше, чем мне, коротко остриженному под машинку. По пустынным бульварам… ночных городов… Но из женщин не пил я…
Ну вот всё и выяснилось с моей женщиной. Выяснилось, что это уже не моя женщина. Женщина кого-то другого, находившегося в её студии. Лежащего, скорее всего. Предполагаю, что после моих звонков он всё-таки вскочил. Надел джинсы или что он носит. Мужчина всегда боится, что опасность застанет его без штанов. Знаю по себе. Даже в опасности пожара мужчина первым делом хватается за свои панталоны. Боязнь выглядеть глупо? Он находит себя уродливым? С этой штукой, болтающейся меж ног…
Больно мне? Здания на Реомюр мрачнее обычного, их окрасила моя боль. Я хожу мимо них второй год, и сейчас они чернее, чем когда-либо. Ну, скажем, церковь на углу Реомюр и Сен-Мартен всегда черна. Мэрия на неё положила, не чистят, а выхлопные трубы автомобилей делают своё криминальное дело… Хорошо, однако, иметь опыт… Пусть мне и больно, но такая боль знакома мне, я не перепуган, я уже переживал разрывы с женщинами… Что она делает после моего ухода? Она вернулась, стала подниматься по лестнице. Красные туфли становились вначале на каменные, а позже и выше — на эти ужасные залакированные ступени, с которых каждый жилец падает и расшибается почти наверняка хотя бы раз в год. В Америке такие ступени ликвидировали бы немедленно, первый же упавший подал бы в суд на хозяина дома… его обязали бы под угрозой… Впрочем, он бы и сам, выплатив такие деньги пострадавшему… Она дошла, запыхавшись — много пьёт, алкоголичка и в 28 лет дышит тяжело, поднявшись на четвёртый этаж. «Ушёл?» — спрашивает он. Встаёт и идёт к ней, обнимает её. Джинсы он надел, но грудь голая. «Кто это?» — «Да так. Был моим другом когда-то…» — «Ты с ним спала?» — «Ну спала… Всё это было давным-давно». Она снимает пальто, и под пальто она голая. Потому что не одевалась, но набросила пальто, и от неё пахнет густо и крепко сексом. Их сексом… Пальто падает на пол, и она стоит в красных туфлях, где расширенная, а где — узкая, как большая гитара. На ногах у неё синяки и ссадины. Под грудью — шрамы… В СССР верят в то, что в Париже все бляди на Сен-Дени носят красные туфли… Они целуются. Бредут к кровати, она опроки… бредут к кровати — это не кровать, но матрас на возвышении, комната-студия досталась ей от бразильского парикмахера-пэдэ… Она опрокидывает его на спину, и, так как чувствует себя чуть-чуть виноватой, в конце концов, это к ней явился ночью мужчина, сосёт ему член. Отблагодарить. В любом случае она любит сосать член. Это было хорошо, it was good, когда мой член, сейчас это не «гуд». Ужасно. Ужасно, что у неё нет отвращения к члену, но всегда удовольствие написано на её физиономии, сосущей, обрабатывающей член. Ей нравится это делать. И мнёт его шары рукой. Яйца мужчины — вечный предмет её фантазий и удовольствия.
Я замедлил шаги. Тёмный, спал сквер на углу рю дю Тампль и рю де Бретань. Несколько раз мы ходили с ней в этот сквер, дружно сидели на скамье, обозревали войну уток и войны детей. Почему все воюют? Дети, утки, мужчины и женщины… Я, однако, сын солдата. Я знаю, что так надо. Я не пацифист, я воюю тоже и с удовольствием. Войны нужны между утками, мухами, детьми в скверах, мужчинами, женщинами. Но я думал, что она — мой союзник, я думал — можно расслабиться… Вот тут-то враг тебя и подстерёг… Ты думаешь, женщины могут быть союзниками? Все могут быть союзниками всех на какое-то время. Потом комбинации распадаются и союзники становятся противниками. Но как тогда жить, если никому нельзя доверять? Вот это и есть Большой Секрет — загадка Сфинкса, большая мудрость жизни…
Я начал её подозревать безо всяких на то оснований. Чисто инстинктивно. В том камикадзе-стиле жизни, который вела моя женщина, присутствие новых элементов было мне мало различимо. Что вообще за жизнь у женщины, поющей в ночном клубе? Женщина отправляется на работу в 21:30 вечера. Дабы сэкономить время и покинуть дом позже, она красится дома и в клубе только переодевается. С тяжёлым ночным мэйкапом, в шляпе, в пальто с лисой на шее она выходит из улицы Сен-Совер — Святого Спасителя (что за насмешка!) — на улицу Сен-Дени. Женщина большая, с крупным лицом, широкоротая, пальто с плечами придаёт ей облик переодетого транссэкшуал. В русской женщине 1 метр 79 роста, француженки же все маленькие. Её принимают за нефранцузского транссэкшуал. Ей что-нибудь бормочут вслед, но в основном побаиваются. Бразильские транссэкшуал слывут опасными. Денег ей вечно не хватает, потому она обыкновенно спускается в метро. Реомюр-Себастополь — мерзкая станция, полная мерзких в декабре личностей, греющих ослабшие от алкоголя и мастурбации тела в чреве мамы-метро. Пересадка на Шатле — ещё более мерзкое место, куда, как осы на сладкое, слетаются все бездельники и мелкие мошенники города. Даже запах у станции Шатле — хуже не бывает — помоечный. Сальные гитаристы, бледные, шелушащиеся от неизвестных редких болезней чёрные, шелудивый люд, такие же, по воспоминаниям античных авторов, толпились в грязных переулках вокруг Римского Форума, ожидая подачек и надеясь на чрезвычайные происшествия… Однажды какой-то бледный негр попросил у неё франков. В шляпе, она читала книгу, стоя в конце платформы. Она сказала по-английски «Leave me alone»1 и продолжала читать. Негр не отошёл, но решил припугнуть её. Дело происходило ведь в конце платформы, в стороне. Он замахал руками и сбил с неё шляпу. Может быть и испуганная, она, однако, перевернула кольцо на пальце массивным кручёным спрутом из серебра вверх и врезала. Несмотря на ночную работу и злоупотребления алкоголем, сибирский рост и русская сила сбили шелудивого представителя третьего мира на грязный бетон платформы. Подхватив свою шляпу и книгу, она безнаказанно сбежала из метро…
Клуб… Крики пьяных селебрити. Они там у себя дома — в этом клубе. Серж Гензбур, расстёгивающий штаны… Омар Шериф, блюющий, не дойдя до туалета. Этот хуй, игравший в «Последнем танго в Париже», Брандо, напившийся методически, заранее договорившись с дирекцией, кто из служащих клуба доставит его тело в отель… Аднан Кашоги, хватающий женщин за задницы… Окружение, ясно, не способствует развитию здоровой морали у молодой женщины. Несколько певиц помоложе, продающих себя за шубы, за тыщу франков, за две тыщи франков менее пьяным клиентам. Разумеется, после работы. К нему в отель или по месту жительства, что редко. К нему, в любом случае… Ха, она всегда гордо заявляла, что она не такая. Однако, когда они стали жить раздельно (после нескольких лет совместной жизни), она сама сказала ему, что не избежала какого-то количества отелей. Какого именно количества? Я не считал. Да и она предпочитала лишить повествование цифр и фамилий… Однако, и в это я верил, в её поведении движущей силой были не деньги, но чувства. Кипяток чувств. И среди чувств преобладало вечное женское желание испробовать свою силу на мужчинах, опять и опять убедиться в желанности, в том, что её хотят. Женская власть ведь именно в том, что её желают… Однако…
Я проходил мимо серого бока здания мэрии 3-го аррондисмана. Огибая здание, с другой улицы, от комиссариата этого же аррондисмана, выехал чёрно-белый камион «Полис». Медленно проехал мимо. Я почувствовал на себе взгляды охранителей порядка. Я знал, что они не остановятся. Волосы мои успели отрасти, бушлат сидел ловко, туфли были начищены, и в несчастьях ещё ярче, чем в рутинные дни. Под шарфом видна белая рубашка с галстуком. Я теперь всегда ношу галстук… Однако… Те, другие певицы или кто там, акробатки, фокусницы, возможно, тоже считали, что спят с клиентами в соответствии со своими чувствами, а не по причине меркантильной. Другие представляются нам проще, чем мы сами… Во всякой женщине рано или поздно обнаруживаются черви. Клубок червей. Пусть ты найдёшь себе бело-розовую девственницу…
Первый раз я пришёл в три ночи и, ненавидя себя, поднялся по неприятной мне лестнице на носках сапог. Дело в том, что из её комнаты хорошо слышно, если идут по лестнице. Собственно, она редко возвращалась из клуба в три ночи. Однако это было ещё приличным временем для меня прийти к ней. Я приложил ухо к двери. Мне показалось, что я услышал смех… Я позвонил. «Моим» звонком, чтоб она знала, что это я. Раз — два — три. Безрезультатно. Ещё один «мой» звонок. Раз — два — три. Нельзя было звонить громче в этом ужасном типичном парижском доме, разделённом на клетки,— четыре двери плотно прилегали друг к другу на каждом этаже. Я не хотел, чтобы соседи проснулись. То есть мне было положить на соседей, но, проснувшись, они бы озлились и назавтра пожаловались бы хозяевам дома, или же ранту, или кому там… На неё и так, наверное, немало жалуются… В 3:10 я ушёл от её двери, ступая уже свободно, всей ступней. Вернулся к себе на рю Тюрэнн. На чердаке было тихо, и, включив все лампы, я подумал, что чердак мой, за который я плачу три тысячи буддистке Франсин, всё же уютное и мирное место. До меня здесь жил индийский «гуру», на полках я обнаружил множество просыпавшихся, оставшихся от «гуру» зёрен. Рефрижератор буддисту-вегетарианцу был не нужен. Вегетарианцем я не стал, но наследовал отсутствие рефрижератора. И странно гармоничный, умиротворяющий дух… В несколько минут я выпил бутылку «Кот дю Рон», впрочем, скорее по привычке, чем по необходимости. Напиться, переспать с другой женщиной — все эти наивные способы отвлечения от реальности на меня, я знал, не подействуют. Я, впрочем, и не желал от неё отвлекаться, я желал пить свою чашу с ядом, не «Кот дю Рон», но другую, метафизическую чашу со страшной отравой… Зная, что не умру… но вновь упоённо почувствую себя кем-то вроде лётчика, совершившего сотню боевых вылетов в тыл, под зенитные орудия врага, и всякий раз счастливо возвращавшегося на базу, в то время как полностью сменился лётный состав дивизии…
В четыре утра я опять прокрался по ужасной её лестнице, мимо — четыре на четыре — шестнадцати дверей, за ними спали по одному, по двое, по трое и четверо простые невоенные граждане. Сын солдата и ещё более солдат, чем мой отец, я их презирал. По причине их неполноценности. За то, что они соображают медленней, ходят медленней и живут безопасней. Я прокрался и прижался ухом. И услышал её плохой, неумело картавящий французский. И смех. Ей было очень весело. И мужской голос… До того, как подняться по лестнице, я пошёл чуть дальше по дну колодца двора и взглянул вверх. Её окна, прикрытые так никогда и не оформившимся в штору куском зелёной ткани, масляно светились. Но, поднимаясь по лестнице, я ещё имел надежду, что, может быть, она одна. Идеалист ёбаный. В наши дни в большой, практически никем серьёзно не оспариваемой моде объективность. И я, во многом оспаривающий мнения современников, подвластен этой дурной моде. Я виноват, подумал я, я не уделял ей достаточно времени, и вот результат — она смеётся с другим… И, бля, ей было действительно весело! Я опустился на колени и попытался заглянуть в замочную скважину. Дверь, увы, выходила на крошечную китченетт, красиво устроенную пэдэ и уже чуть разрушенную русской певицей неорганизованных и вольных нравов. Меня же интересовало, что происходит в комнате, в стороне. Пролететь бы на воздушном шаре и заглянуть… Или увидеть с крыши прилегающего, но более низкорослого, чем её дом, дома.
Это верно, что male2 находит в ревности к своей женщине источник сексуального возбуждения. Точно. И вот пролететь и посмотреть на то, как она это делает с другим, есть желание чисто сексуальное? Мне, стоящему на коленях в пятом часу ночи, заглядывая в замочную скважину, хотелось увидеть их, чтобы возбудиться? Может даже, только в очень небольшой степени из-за этого. Мне хотелось увидеть, как она делает с ним это, чтобы ещё раз взглянуть в голое, безобразное лицо жизни. Её кровавое, в синяках и ссадинах, в крови и ссадинах любви, эпидермальное лицо — сочащееся, облитое спермой, дышащее: вывороченная наружу щель моей подруги — вот оно, лицо жизни. Я был уверен, что она делает это с ним, новым мужчиной, с большим энтузиазмом, чем со мной, куда более бесстыдно и страстно. Я хотел убедиться, что это так. Не для того, чтобы отчаяться, но чтобы посмотреть, содрогнуться и не испугаться. Я всегда был храбрым типом и, зная, что можно избегнуть опасностей, не избегал их. Зная, что существуют светлые и безопасные улицы, я ходил по тёмным. На тёмных улицах, я знал, скрывается правда. Безобразная, и голая, и сияющая.
Я позвонил. Смех мгновенно прекратился, музыка умело не оборвалась, но всосалась постепенно в «ШАРП ЖиэФ-4500», стоящий у изголовья. Раз — два — три. Покажите мне правду. Пустите меня, мужчина и женщина! Я — бывший мужчина этой женщины, которая теперь женщина этого мужчины. Раз — два — три. Я слышал, как её босые ноги прошелестели по макету. Она никогда не умела ходить и постоянно обивала ноги, полупьяная и пьяная. И даже сейчас, соблюдая все возможные предосторожности, она заплеталась ногами. Что я могу знать, может быть, она провела неделю в постели и разучилась ходить… Она выключила свет в кухне. Ошибка. Следовало оставить. Даже не заглядывая в замочную скважину, посетитель может убедиться в исчезновении света по потемнению щели под дверью. Я застучал в дверь кулаком и сказал (даже в таком малонормальном состоянии я не способен был закричать?):
— Открой, я слышу, как ты там ходишь.
— Уходи,— сказала она.— Уходи… Что тебе надо?
— Открой.
— Я не могу тебе открыть. У меня мужчина.
— Значит, между нами всё кончено?
— Значит, кончено…— прогудела она из-за двери, звуча совсем легкомысленно, не задумавшись, случайно, как отказываются от стакана воды, или на вопрос: «Который час?» — роняют, не останавливаясь: «Пардон… не знаю…»
— Ты уверена…?— Я произнёс это и тотчас удивился сам глупости вопроса.
Лицом я вжался в угол, образованный дверью и дверной рамой. Дверь пахла десятками жизней, едой, приготовленной всеми соседями сразу, по крайней мере тремя ближайшими соседями, пахла её кухней и, может быть, её сексом. Она там молчала. Протопала босыми ногами от двери, заговорила вполголоса в глубине квартиры по-французски со смешливыми интонациями. Я простучал в дверь кулаком, в ритме «моего звонка»: раз — два — три.
— Открой, я хочу с тобой поговорить.
— О чём?— Она подошла к двери.— Ты что, не понимаешь… У меня мужчина, мы оба голые.
— Я не могу так уйти,— сказал я.— Я хочу всё выяснить сейчас же, сегодня же, чтобы больше к проблеме не возвращаться. Если между нами всё кончено, пусть будет так. Открой!
Она молчала.
— Хорошо,— сказала она.— Спускайся вниз, я оденусь и выйду. Пустить тебя в квартиру я не могу.
— Спускаюсь,— поспешно согласился я.
— Джизус Крайст!— воскликнула она и, слышно было, отошла от двери.
Я стал спускаться вниз по многострадальной, самой мрачной на свете лестнице…
Как жить? Загадка сфинкса, самая большая мудрость жизни, сквер на рю де Бретань… По пустынным бульварам ночных городов. По пустынным бульварам… Но из женщин не пил я холодную кровь… Что же я теперь буду делать? О, я не умру, естественно, я буду жить и писать книги. Когда подобное случалось со мной в восемнадцать и двадцать восемь лет, я бросался резать себе вены. Сейчас я закалённый в бурях мужичище сорока трёх лет. Я даже не запью. И если выпью, поднявшись на свой чердак, оставшуюся бутыль «Кот дю Бон», то только для того, чтобы попытаться уснуть… Ноги у неё были голые, и, хотя я не видел шрамов и синяков, я знал, что они есть, как постоянные старые шрамы, так и временные синяки. Так же как и обожжённая грудь и переломанный нос — они есть непременные атрибуты моей женщины. Как для богини Артемиды — рог, для Афины Паллады — символ мудрости — змея, так её шрамы — символ хулиганства и алкогольного безобразия. Вакханка, ёб её мать… Четыре года я знаю эту женщину. Все эти годы я старался отучить её от привычек хулиганской юности. Отучить от морей алкоголя, который в конце концов сломает и её русское здоровье. Старался внушить ей простейшие идеи христианской цивилизации: среди прочих хотя бы понятие о том, что ебаться с несколькими мужчинами сразу, это не спортивное достижение, которым можно гордиться, но что? «Грех»? Я и она, дети советской цивилизации, не знаем, что такое грех. Ебаться с несколькими мужчинами одновременно в одной постели со всеми или даже распределив их по протяжённости дня и принимая отдельно — нехорошо, если у тебя есть мужчина, с которым ты по собственной доброй воле живёшь. Кажется, это несложное моральное правило мне всё же удалось ей внушить. Великая победа, необычайное достижение! Аустерлиц разума над хаосом страстей! Дальше этого мы так и не сдвинулись… Ну, разумеется, она не афишировала свои связи. (Как звучит: связи! Ей больше подходит слово «столкновения».) Только после того, как мы разъехались по разным квартирам, я удостоился от неё нескольких признаний. На каждую холодность или косой взгляд с моей стороны она, выяснилось, неизбежно отвечала жестокой местью (как я и подозревал, но надеялся, что нет, и если да, то не в такой степени) — она ложилась под кого-нибудь.
Секс женщины, как рог носорога, или бивни слона, или зубы и когти тигра,— он служит ей оружием нападения и защиты. И довольно часто раны, наносимые этим оружием,— смертельны. Немало храбрых тореадоров погибло от этого мягкого органа. Однако вспомним некоторые цветы-карнивор — привлекая насекомых красивой, чаще всего алой мягкостью сердцевины, они мгновенно закрываются, сжимая жертву в мягком смертельном объятии. Ну да, палка, стик — выглядит агрессивно, но ЯМА — тотально эффективное оружие: в яму свалится и танк, и человек. Яма, дыра — не пронзает часть тела, но поглощает всё тело. Недаром от пропасти, равно как и от опасной женщины, кружится голова. Однако и мужчину тянет в пропасть, и пропасть тянется к нему. Короче, они друг друга желают. В результате, когда real man встречает real woman, ему нелегко от неё отделаться. Им всегда есть что показать друг другу, их трюки многообразны, наверное, исчерпаемы, но всё-таки многообразны. Просто люди знают только секс или только привязанность, потому им и становится так скучно очень скоро. «Риал мэн» на самом деле не любит «риал вумэн», он в высшей степени attracted ею. Attraction — самая высокая степень любопытства, скажем, сходная с тем любопытством, которое заставляло древнего человека лезть в тёмную пещеру, почти наверняка зная, что там живёт саблезубый тигр или семейство трёхметровых медведей…
Розово-жёлтый мир мгновенно образовался из слияния розовых стен и света двух стоваттовых лампочек, едва я прижал кнопку освещения. Но было холодно. В индивидуальном Ночном Кафе сидел я на синем стуле и пил, не чувствуя вкуса, чёрное «Кот дю Рон». Выпив бутыль, одел бушлат и выскочил на улицу. Пошёл в «её» направлении. На углу рю де Вертю-Добродетели тихо смеющиеся ночные китайцы продолжали выгружать ящики. «Рисовая бумага, 28. СА. Бангкок, Таиланд» — прочёл я на самом верхнем. Китайцы беззлобно и безбоязненно оглядели остановившегося человека в бушлате и что-то безразлично прочирикали на их языке. Я погладил ящик и вернулся на рю де Тюренн.
Когда real man разбит усталостью, очередь real woman действовать. На следующий день, не выспавшаяся, красноглазая, она возникла в двери.
— Я пришла попрощаться…
Прошла, обдав алкоголем, мимо меня в глубь студии, упала распахнув пальто на постель, и в момент, когда я собирался открыть рот, дабы сказать ей, чтобы она убиралась, я увидел, что она, подняв ноги, задирает юбку.
— Выеби меня в последний раз.
Я лёг на неё. Потому, что однажды в жизни, давно, я уже отверг подобное предложение, предпочёл свою мужскую гордость и страшно жалел об этом годы спустя. Сейчас я уступил своему желанию. Секс её был распухшим и горячим. Не желая, чтоб он остыл, она примчалась по рю Реомюр и по рю де Бретань ко мне? Может быть, даже взяла такси. Возбуждённый ею и им, я много и долго делал с её сексом всякие штуки. А что бы я делал с мужской гордостью? Сомнения же в том, что она у меня есть, у меня никогда не возникало.
Слабость характера? Мазохизм? Есть ещё одно определение моему поведению, старее первых двух и куда благороднее их: СТРАСТЬ. Страсть к страсти моей женщины есть моя собственная страсть… Ещё три недели она, другого слова не подберёшь, еблась с двумя мужчинами — им и мной, извлекая из этого своё собственное бабье счастье. Губы её и груди распухли, ресницы и волосы разрослись необыкновенно буйно — клянусь!— секс пульсировал, как обнажённое хирургом сердце… Она сделалась разбухше-красива, как ядовитый цветок, нажравшийся до отвала тёплых насекомых. Через три недели, собрав всю свою силу воли, я явился к ней (позднее оказалось, что он только что ушёл) и стал силой паковать её вещи. Через несколько часов явились мои приятели, и мы перевезли её, мало что соображающую и время от времени начинающую протестовать, ко мне на рю де Тюренн.
1 Leave me alone (англ.) — Оставь меня в покое.
2 Male (англ.) — самец.
из сборника рассказов
«Чужой в незнакомом городе» • 1989 год
В сторону Леопольда
Я пропустил вываливающуюся из «Флор» пьяную компанию и вошёл. «Кафе «Флор»,— вспомнил я одну из острот Леопольда,— напоминает бухарестский вокзал в последние дни войны». Действительно, разнообразие, переходящее в хаос, и сегодня господствовало на бухарестском вокзале. Леопольд сидел на своём обычном месте у дальней стены. Одет он был небрежно: твидовый пиджак и джинсы. Что мне не понравилось — я тщательно культивирую образ Леопольда-эстета, и когда он ведёт себя не в соответствии с образом, меня это обижает. По левую руку от него примостился человек в старомодном длинном белом плаще. Леопольд вещал, а человек внимательно слушал. За спиною субъекта в плаще помещалась компания панк-японцев — несколько молодых ребят, одетых в смесь мужских и женских тряпок. Японцы были обильно политы перекисью водорода — светлые пятна зияли на их головах в самых неожиданных местах.
— Хай, Леопольд!
— Хэлло, Эдуард! Это мой друг Юлиус. Когда-то мы знавали с ним лучшие времена.
— Хэлло, Юлиус…
Я сел. Выражение «лучшие времена» могло означать что угодно. Могло значить, что Юлиус был любовником Леопольда. Могло также значить, что у них, у Юлиуса и Леопольда, было когда-то ещё больше денег, чем у них есть сейчас. Впрочем, мне не было известно, есть ли у Юлиуса деньги. У Леопольда, я знал, есть достаточное количество денег, но Леопольд работает. Я заказал себе виски со льдом и прислушался к тому, о чём они говорят.
— Настоящие деньги начинаются с десяти миллионов,— сказал Леопольд. При этом всё его крупное лицо, включая мясистый турецкий нос, снисходительно сморщилось.— Ты, Юлиус, никогда не имел таких денег…
— С десяти миллионов франков?— поинтересовался я.
— Долларов. Юлиус долгое время занимался продажей картин,— объяснил Леопольд.— Ты когда-нибудь слышал о Гренель-галлери, Эдуард?— И, не дожидаясь моего ответа, ответил сам.— Он продавал художников двадцатых годов.— Выдав короткую справку, он повернулся к Юлиусу, который в это время размотал и опять замотал неопределённого цвета шарф вокруг горла, и сказал, обняв меня за серое плечо тренчкоат, вывезенного мною из Нью-Джерси, Соединённые Штаты.— Эдуард — писатель с «Рамзэй» и «Альбан-Мишель»1, мы с ним большие друзья.— И Леопольд прижал писателя Эдуарда к себе, переместив на сей раз руку к нему на шею.
У всех свои слабости. Писатель Эдуард простил Леопольду его слабость. Леопольд — мой друг, и только, но этому Юлиусу, очень может быть, что его бывшему или настоящему любовнику, Леопольд желает показать, что и писатель его любовник.
Пусть покажет, с меня не убудет. Если Леопольду нужно, чтобы Юлиус — красивый потасканный блондин с длинными, чуть тронутыми сединой волосами и тонкими чертами нервного лица — считал бы, что у Леопольда любовник — писатель, что же… Выручая друга, я положил Леопольду руку на плечо и некоторое время просидел так, улыбаясь и поглаживая Леопольда по холке. На деле же у Леопольда в любовниках сейчас бандит югослав, весь в татуировках.
Они опять заговорили по-французски. Я некоторое время послушал, как Леопольд объяснял Юлиусу, почему именно настоящие деньги начинаются с десяти миллионов, но, быстро вспомнив, что мне ещё очень далеко даже и до ста тысяч франков, подумал, что всегда успею приобрести нужные сведения, и занялся рассмотрением внутренностей бухарестского вокзала. К тому же французский язык в больших количествах меня до сих пор ещё утомляет.
За соседним столом фотограф, судя по его мягкому английскому — француз, показывал американской модели фотографии тестов и они безмятежно беседовали на языке дяди Сэма, без тени сексуальности, дружественно… Очевидно наслаждаясь и общей профессией, и тем, что они сидят в кафе «Флор» и это Париж, а не родной штат Южная Дакота в случае модели и родная нормандская деревня в случае фотографа. Я давно уже не видел таких счастливых лиц. Вокруг модели и фотографа на нескольких стульях покоились всевозможные яркие современные тряпки, каковые эти счастливые молодые люди сняли, размотали или отстегнули от себя.
На диване напротив Юлиуса, Леопольда и Эдуарда, отделяемый от них проходом, по которому торопились к бару и от бара седые, похожие на разорившихся графов официанты, сидел принц Гамлет… В джинсах, в остроносых ботинках, принц хмурил тёмные брови и микроскопическими глоточками время от времени отпивал из бокала пиво.
За юношей, на том же диванчике, но отдельно, сидела девушка в лисьем полушубочке и чёрной шляпке с серой лентой и пила из высокого бокала зелёную жидкость. Она вертела бокал в пальцах, сверкала глазами под шляпой, снова и снова оглядывала зал, один раз задержалась взглядом на мне и моем тренчкоат, но тотчас перевела взгляд и прощупала японцев. Ни Гамлет, ни девушка в шляпе не обращали друг на друга никакого внимания. Каждый хотел, чтобы его подобрали и куда-нибудь повели. В другую жизнь. Обедать. Танцевать. Впустили, пусть на немного, на ночь, на сутки, в чужую жизнь.
— Эдуард,— взял меня за руку Леопольд,— нам пора. Я зарезервировал стол в «Липпе». Подумай о том, что я тебе сказал,— поучительно обратился Леопольд опять к Юлиусу и, взяв с дивана короткую куртку на экзотическом меху неизвестного происхождения, влез в один рукав, потом во второй. Красивый и нервный Юлиус встал и смущённо молчал, теребя шарф.
Было десять тридцать вечера. Над бухарестским вокзалом клубился обильно сигаретный дым. Один из панк-японцев, толстый, выливал пиво в клетчатую кепку. Пришла большая компания, состоящая из индивидуумов прямо противоположных стилей жизни и возрастов, от бюрократов средних лет в костюмах-тройках и при соответствующих лицах и галстуках до… юноши в размалёванном стрелами плаще… Соединённая неизвестными узами компания стала усаживаться, устраивать гнездо с помощью двух бывших румынских графов благородно-зловещего вида в белых куртках.
— Good luck, Юлиус,— пожелал я ему удачи.
Юлиус улыбнулся. Формально. С Леопольдом они торопливо поцеловались. Мы вышли на мокрую улицу и пересекли бульвар Сен-Жермен.
— Юлиус милый, но он дурак,— сказал Леопольд убеждённо, когда мы вошли в «Липп».— Когда-то он был моим любовником… Я, правда, его никогда не любил,— поморщился Леопольд и продолжал, остановившись среди зала: — Лет пять назад Юлиус открыл галерею. У него, очевидно, есть определённый торговый талант, он быстро сделал большие деньги. Но год назад он внезапно закрыл дело и продал галерею. Сумасшедший Юлиус, видишь ли, Эдуард, решил стать писателем…— Леопольд саркастически рассмеялся.— Ему 37 лет, и он до сих пор не знает, кем же, собственно, он хочет быть в жизни, мечется от одного увлечения к другому. Он любит искусство, Эдуард, но он напрасно обольщается, я думаю, он совсем не творческий человек… Вырожденцы не способны к творчеству.
— Мне кажется, он из хорошей семьи,— предположил я.— Аристократ, очевидно, приставка «де», и всё такое прочее?
— У тебя, Эдуард, как и подобает сыну советского коммуниста и человеку со свежей кровью, явная слабость по отношению к приставке «де».— Леопольд засмеялся и кивнул кому-то в зале.— От этого ты и спал с Диан, признайся?
Он пожалел меня и обтекаемо назвал «человеком со свежей кровью». Мог бы назвать и плебеем, или простолюдином, или дворнягой.
— С Диан я спал из любопытства. Я её изучал.
— Что?— обернулся он. Мы наконец добрались до седого мэтрдотеля.
— Ещё несколько минут, пожалуйста,— сказал мэтр.— Стол для вас накрывают.
— Кто это?— востребовал Леопольд у мэтра, схватив его за руку. Глазами Леопольд указал на прошедших в обеденный зал двух темноволосых женщин средних лет.— Не греческая ли это актриса… забыл имя…
Лицо мэтра изобразило глубочайшую сосредоточенность. Затем из глубины своих шестидесяти лет он выудил искомое.
— Папп?— спросил он Леопольда неуверенно.
— Пирр?— спросил Леопольд мэтра неуверенно.
— А с ней принцесса греческая!— закончил мэтр ликующе и удалился. Его позвали, и он пошёл проконтролировать какое-то действие своего персонала.
Он тотчас вернулся и провёл нас к столу. Стол стоял посреди большой ресторанной дороги, в центре. Мы уселись рядком на кожаный диванчик, и мэтр задвинул нас столом, при этом стукнув меня по коленке.
— Ну…— Леопольд, заказав бутылку неизвестного мне вина, разглядывал меню.— Ты всё ещё спишь с Диан иногда?— И Леопольд тончайше улыбнулся. Он считает, что спать с Диан — признак плохого тона. Он меня всегда подъёбывает Диан.
— Нет. Я не видел её уже несколько месяцев. Мне хватает забот с Наташей.
— Эдуард, почему ты не найдёшь себе мужчину?— заметил Леопольд, блуждая глазами по меню.— Как долго ты не спал с мужчиной? Можешь найти себе мужчину с приставкой «де». И не алкоголика, как Диан или твоя дикарка.— Он хихикнул.
— Леопольд!— взмолился я.— Никого я не хочу больше находить. Уже нашёл. Хватит. Личные отношения требуют массы времени и внимания. Я устал. Любовь — это full time occupation.
— Ага! Я тебе говорил, Эдуард, что работать Пигмалионом очень тяжело. К тому же это неблагодарная работа. Что, твоя дикарка уже наставила тебе рога?
— Леопольд! Что за выражения! Какие рога… Мы современные люди. Я мечтаю, чтобы она нашла себе большого и красивого самца и была бы с ним счастлива. А я бы остался один с моими рукописями, с моей гимнастикой, с моим куриным супом…
— Хочешь заказать куриный суп?— озабоченно спросил Леопольд.— Я не уверен, что куриный суп есть у них в меню. Но я могу попросить мэтра.
— Куриный суп есть у меня дома.
Леопольд пожал плечами, подозвал официанта, заказал для нас салат с трюфелями как антрэ, варёную говядину в горчичном соусе и повернулся ко мне.
— Я очень рад тебя видеть опять, Эдуард. Ты единственный живой человек среди моих знакомых. Остальные — ходячие мертвецы.
— Слишком сладко, Леопольд. Но всё равно — спасибо за комплимент.— В глазах Леопольда, я полагаю, я выгляжу этаким срочно прибывшим из недр народа Джеком Лондоном, живым и энергичным, не затронутым европейским гниением и увяданием Джеком. Противоположностью гниению и увяданию — писателем со свежей кровью. Каждый видит, что хочет. Мне Леопольд представляется порой умирающим от декадентства Мефистофелем, соблазнительным и лукавым проводником по их миру, который теперь и мой мир.
— И ты очень хорошо выглядишь,— продолжал Леопольд, оглядывая меня так, как будто только что меня увидел.— Чёрное тебе очень к лицу. Великолепная куртка с громадными по моде плечами, но почему попугай? (На моей куртке во всю спину распластался розово-белый хищник с мощным клювом.)
— Попугай, Леопольд,— сильная птица. Клювом он разбивает такие орехи, какие человек раскалывает молотком. На Востоке попугай — символ разбоя и агрессивной силы, как на Западе орёл.
— Разбогател, покупаешь дорогие вещи.
— Куртка подарена приятелем в Штатах, плечи я купил в BHV и вшил их в куртку сам. Не забывай, что я работал портным, Леопольд.
— Когда уже у тебя будут деньги, Эдуард?
Я пожал плечами.
— Будут, будут…— ободрил он меня, хотя меня не нужно ободрять.
Это я обычно ободряю Леопольда. Несмотря на его несомненную энергичность в реальном микромире Парижа, в больших вещах, как-то: смерть, любовь, цель жизни… Леопольд беспомощно путается и сомневается. У него бывают тяжёлые депрессии. Иногда он звонит мне среди ночи и плаксиво просит увидеться. Обычно он приезжает на своей машине, забирает меня, и мы сидим в ночных кафе, и он ноет, и мы злословим и обсуждаем прохожих или посетителей кафе и официантов. Всех живых существ, имевших несчастье попасть в наше поле зрения. От злословия ему становится легче. У Леопольда зоркий взгляд, и он безжалостен…
— Посмотри, как он движется.— Речь идёт о человеке с бородой, направляющемся к выходу вслед за длинноносой блондинкой.— Как он глупо, скованно и несмело движется. Он ничего не может в постели. Я уверен. Размазня. Плохой мужчина.
Не зная своего приговора, бородатый втискивается в подставленное ему пальто.
— Она знает!— торжествующе вскрикивает мне в ухо Леопольд и в азарте естествоиспытателя хватает меня за руку.— Я поймал её взгляд. Она знает, и она поняла, что я знаю…
— Кто она?
— Его дама. Она знает, что он желе в постели. Но он богат, он водит её в «Липп», покупает ей подарки, потому она спит с ним, бессильным, вынужденно… Она чуть-чуть насмешливо и грустно мне улыбнулась. Тебе не кажется, что у неё вагнеровское лицо?
Из всех персонажей опер Вагнера я знаю только Брунгильду. И то только потому, что так называла себя одна моя знакомая девушка. Насколько я себе представляю, Брунгильда должна быть огромного роста, здоровенной германской бабищей. Уходящая с бородатым длинноносая, на мой взгляд, не соответствует типу Брунгильды. Я решил дипломатично промолчать, не желая признаваться в своей некомпетенции по поводу вагнеровских женщин.
Леопольд Мефистофелевич не упустил случая указать мне на убожество моего музыкального образования.
— Ты не любишь классическую музыку, Эдуард!— торжествующе объявил он.
Возможно, тут играют роль и его национальные чувства. Одно из национальных чувств. Кроме турецкой, в жилах моего Леопольда течёт и германская кровь. Текут ещё тихо французская и итальянская.
— Не люблю классическую музыку. Даже ненавижу её,— согласился я.— Если бы тебя, Леопольд, в детстве так насиловали классической музыкой, как меня — бедного советского ребёнка, и ты бы её возненавидел. Её изрыгает ежедневно советское радио в порциях, достаточных, чтобы убить слона… Все моё детство прошло под заунывные звуки Чайковского и ему подобных нудников. Классическая музыка соединяется в моём воображении с манной кашей, противно тикающими стенными часами и насильственным погружением в постель в девять часов. Ненавижу её, навязанную извне, а не выбранную мной самим, так же как и занудного графа Льва Толстого, которого нам вдалбливали в головы в школе…
— Толстой хороший писатель,— обиделся за Толстого Леопольд и хотел было подлить себе и мне Шато-Лафит, 1972, но подошедший старый официант укоризненно покачал головой и авторитарно забрал у Леопольда из рук бутылку.— Хороший… Несколько скучноват, это есть. И слишком много проповедей в его романах… Устарел чуть-чуть…— неожиданно для самого себя закончил Леопольд.— Но вот Чехов… Чехов — удивительно современный писатель.
Я скорчил мину, перешедшую в гримасу отвращения.
— Вы,— сказал я, подчёркивая это «вы»,— западные интеллектуалы, играетесь в свои увлечения с убеждённостью малых детей. Чехов был и всегда останется нуднейшим бытописателем конца девятнадцатого века. Он описал реальную российскую мидллклассовую скуку, скучнее которой не существует в природе. В сотнях его рассказов, в его пьесах всегда одна и та же ситуация: беспомощные негерои утопают в бессмысленности жизни, не зная, что делать, куда себя девать и как жить. Три сестры, собирающиеся уехать в Москву. Тьфу, противно! Леопольд, когда я решил, что я должен уехать из провинциального Харькова в Москву, я погрузил свои пожитки в чёрный чемодан и уехал в Москву…
Леопольд улыбался.
— Ты наверняка думаешь сейчас, что у меня вульгарный подход к русской литературе,— продолжал я.— Но это моя литература, я о ней знаю множество нюансов. Западный подход к Чехову слишком современный. Вы видите в беспомощности его героев экзистенциальные ситуации, я же вижу всё тех же раздражающих меня своей глупостью, нерешительностью и вялостью моих соотечественников… Был такой писатель Гончаров…
— Я знаю, я читал,— вставил Леопольд. Он всё читал, сука образованная.
— У Гончарова есть роман «Обломов». Главный герой — помещик Обломов, на протяжении всего романа в основном валяется на постели в халате, то есть действие происходит в одной комнате. Гончаров написал «Обломова» в середине девятнадцатого века. Если очень захотеть, можно увидеть в Гончарове гениального предтечу Джойса или по меньшей мере Перека, Саррот или Бютора2. Плюс, на зависть авторам вашего самого нового романа, все титулы романов Гончарова начинаются с буквы «О». «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история»…
Принесли варёную говядину, и мы заткнулись на некоторое время. Разница между грубыми и изысканными блюдами состоит только в том, где вы их едите. Дымящееся варево, поставленное перед нами в деревенской забегаловке, показалось бы грубым. Варёная говядина с варёной крупной картошкой и морковью, поданные в «Липпе», очевидно, считаются изысканным блюдом.
Мы поедали нашу говядину, запивая её вином, и продолжали злословить по поводу посетителей ресторана. Группа старичков, обернувшись, дружно заглянула в объектив фотоаппарата, направленного на них также старичком, отошедшим для этого в самый недоступный угол зала. Недоброжелательный Леопольд предположил, что группа — члены корпорации владельцев фабрик туалетной бумаги. В момент, когда старичок нажал кнопку своего аппарата, я закрыл лицо рукой, так как мне показалось, что мы с Леопольдом также попадаем в объектив.
— Эдуард, ты — советский шпион!— торжествующе объявляет Леопольд. Это его дежурное удовольствие. Он утверждает, что нееврей, молодой (хм…), мускулистый русский мужчина не может не быть советским шпионом.— Зачем ты закрыл лицо рукой?
— Чтобы Леопольд спросил меня об этом… Моё лицо давно разошлось по миру на обложках книг, чего уж тут закрываться, Леопольд. Я просто не хочу оставлять свою рожу на снимке туалетных старичков. Имею я право?
Леопольд и верит, и не верит в то, что я советский шпион. Больше не верит. Но Леопольду нравится быть приятелем подозрительного типа. Думаю, я один из необычнейших экземпляров его коллекции. Разумеется, он коллекционирует человеков.
— Серж, когда мы с ним последний раз были здесь, в «Липпе», представляешь, Эдуард… он шёл за мной, Серж…
— Прости, Леопольд, кто такой Серж?
— Бандит… Эдуард, я же тебе говорил, мой парень. Он шёл сзади и увидел, что выходящий с парой баб американец задел меня плечом. Случайно, впрочем, в дверях… Серж схватил американца за галстук и потребовал, чтобы тот извинился передо мной. «Как ты мог толкнуть такого человека, салоп!?.» — прорычал Серж и встряхнул беднягу…
Я предполагаю, что Леопольду за пятьдесят. Он на голову выше меня, строен. Леопольд следит за своим телом, в его обширной и красивой ванной комнате я часто обнаруживал брошенные гимнастические снаряды — эспандер, гантели. Разумеется, Леопольд не молодеет, а лишь с успехом замедляет процесс старения. Однако особая гордость пятидесятилетнего гомосексуалиста заставляет его постоянно щеголять передо мной физическими качествами своих любовников. Их интеллектом он, напротив, постоянно недоволен. Леопольд, как и все мы в этом мире без различия пола и возраста, хочет «настоящей» любви и до сих пор не устал её искать. В начале нашего знакомства мне казалось, что он рассчитывал на меня, но что с меня возьмёшь, от хулиганства несколько раз я спал и с мужчинами, и всё же это не моя чашка чая. Сама идея строить жизнь только на личных отношениях давно выветрилась из моей головы. Счастье — это случайный и хрупкий баланс.
Леопольд с его германско-турецко-итальянско-французской кровью много более пылок и сентиментален, чем русско-татарско-украинский Эдуард.
— Эдуард, познакомь меня с русским моряком?— вдруг просит он меня, мечтательно сощурив глаза.— С моряком с голубыми глазами… Или ты мне не друг?
Я ему друг, но где я ему возьму русского моряка в Париже.
— Я больше не могу жить с женщинами. Всё,— объявляет Леопольд.
— Что?— не верю я своим ушам.— Когда это ты жил с женщинами?
— А Мишель?— обижается он.— Помнишь большую девушку? Она была у меня, когда ты первый раз пришёл ко мне, притащив алкоголичку Диан.— Леопольд никогда не упускает случая лягнуть Диан и без эпитета-определения «алкоголичка» её имя не употребляет.
С большим трудом пережёвывая говядину, я вспоминаю очкастую крупную тень в шерстяном платье пыльного цвета. Мишель. Весь вечер стеснительно улыбалась. Был обед. Нервный Леопольд в сногсшибательном синем костюме с серебряной искрой руководил двумя горничными, потом занимал своих гостей и не обращал на Мишель никакого внимания.
— А-аааа! Мишель…
— Все, хватит с меня. Их капризы меня утомили…— притворно хмурится Леопольд.
«Их». Кроме Мишель, я не могу вспомнить ни единой женщины Леопольда. Напротив — любовников у него куча. Причём у Леопольда явное пристрастие к любовникам из преступного мира. Когда-нибудь очередной бандит перережет ему горло.
— Познакомь меня с Сержем?— прошу я. Просьба искренняя. Мне действительно хочется познакомиться с криминальным югославом. В татуировках. Я любопытный. Потом можно будет использовать его образ…
— Познакомлю,— обещает Леопольд.— Я ему о тебе говорил… Правда, он слишком уж примитивен… Но зато какое тело… какие мышцы… И член!.. Почему так, Эдуард, или тело — или интеллект? Тело быстро надоедает, если с ним не о чем говорить… И Серж мне очень скоро надоест. Я чувствую…— пессимистично заключает Леопольд.
Мы заказываем кофе, и я почему-то заказываю десерт, кусок пирога с клубникой. Бедняга Леопольд, думаю я. Ему — снобу и эстету, декаденту, неоригинальному, но неплохому художнику, живущему среди красивых предметов и испорченных книг, хочется иметь в постели второго Леопольда, но на тридцать лет моложе.
— Если бы я был помоложе, я бы тебе помог, Леопольд.
— Эдуард? Помоложе? Сколько тебе лет?
Он знает, сколько мне лет, но я опять повторяю ему, убавляя все же год.
— В твоём возрасте стыдно вообще вспоминать о возрасте. К тому же ты выглядишь на десять лет моложе, Эдуард.
Я думаю, что я выгляжу лет на пять моложе, но молчу, не опровергаю десять.
— Ты будешь большим писателем, Эдуард,— вдруг говорит он мне. Может быть, это стало ясно ему, пока он глядел на то, как я поедаю пирог? Он в меня верит. Я сам в себя верю. Он мне пожаловался, теперь мой черёд жаловаться.
— Они до сих пор воспринимают меня как русский курьёз, и только,— говорю я.— «Русский Генри Миллер!» Какой я, на хуй, Генри Миллер. Да я Миллера терпеть не могу за его кашу из слов. Кстати, скажи мне, Леопольд, тебе не кажется, что в своих вещах Миллер подражал и сюрреалистическому потоку сознания, и бульварной традиционной парижской литературе, а? Для американца все эти бульварные приключения были открытием, но не для французской литературы…
— Помелькаешь в парижском книжном бизнесе достаточное время — станут принимать всерьёз.— Леопольд отхлёбывает кофе.— Не спеши.
— И они объявили меня левым, Леопольд… А разве я левый?
— Я не считаю, что ты левый, Эдуард.
— Некоторые мои взгляды удивительно правые. Но и правым меня назвать невозможно. Могу я иметь и правые, и левые взгляды?
— Для таких, как ты, у них нет определений. Они отказываются воспринимать явления во всей их сложности.
«Они». Кто они? Может быть, пресса, может быть, книжный бизнес. «Они» ещё не принимают меня всерьёз. Каждый писатель хочет, чтоб его принимали всерьёз. Каждый писатель не хочет быть каждым писателем.
В половине первого я веду его в кафе «Мабийон». Он истратил на меня, наверное, тысячу франков. Выйдя из «Липпа», он спрашивает, есть ли у меня деньги угостить его дринком. У меня есть сто франков.
Так у нас заведено. Он меня угощает, потому что знает, что я живу исключительно на литературные доходы, и знает, какой это глупый подвиг — попытка жить на литературные доходы, издав лишь одну книгу. Леопольд не то чтобы очень распрекрасный человек, даже, может быть, и напротив — нехороший человек, но я его интересую, и он платит за своё удовольствие со мной общаться. Я бы общался с ним и без посещений ресторанов, но он так хочет, это его дело.
В «Мабийоне» оказалось пусто и грязно. Только несколько пьяных в разных углах да влюблённая пара, оба одетые в «новой волны» тряпки, она выше его ростом, целовались взасос. В «Мабийоне» Леопольд вдруг стал капризным, и я решил, что он опьянел. Вероятнее всего, он просто устал. Устав, он обратился к своему всегдашнему развлечению, к попыткам меня «расколоть». Ему очень хочется «расколоть» русского, понять, что же движет им. Выявить некие простые первопричины моего поведения — например, желание денег или мелкое тщеславие. Но как Леопольд ни упорствует, он до сих пор натыкался только на первопричины большие, сумасшедшие, может быть.
— Зачем ты хочешь наверх, Эдуард? Там те же самые отношения, как и на улице… Ты же умный парень, ты должен это понимать…
— Потому что я никогда не был наверху, Леопольд… И кто же я такой, говорю я себе, если не могу забраться наверх, ведь столько людей туда забралось. Только забравшись туда, я получу право презирать «верх». До тех пор все мои вздохи или обвинения «их» — только бессильные жалобы.
— Поверь другим, что всё суета сует, Эдуард. Это сбережёт твоё время и силы.
— Будда, к примеру, имел право презирать глупые радости этого мира, потому что по рождению был царский сын. Он действительно познал все радости, имел их. Когда нищий от роду презирает мир из канавы, это не презрение, но бессильная зависть слабого.
— У тебя не так много времени, Эдуард…
— А кого это интересует, Леопольд? Следовательно, я должен жить и действовать быстрее. Да, я написал свой первый роман в 32 года, а не в 16 или в 25 лет. Я должен, следовательно, пробежать дистанцию, которую нормально развивающиеся писатели проходят обычным шагом…
— Прежде чем ты сядешь писать новую книгу, Эдуард, я прошу тебя, прочти Патрика Уайта. Хотя бы один роман. Ты слышал о Патрике Уайте?
— Нет. Кто он такой?
— Австралийский писатель. В семидесятых годах получил Нобелевскую премию.
— Я не доверяю писателям с окраин мира, получившим Нобелевскую премию. Премии им дают как поощрение, в целях дальнейшего развития слаборазвитых окраинных литератур. Если не по причинам политическим…
— Эдуард, я тебя прошу, поверь моему вкусу. Патрик Уайт — удивительный писатель. Я напишу для тебя названия его книг. У тебя есть клочок бумаги?
У меня нет клочка бумаги, и Леопольд, укоризненно покачав головой и протянув «писаааатель!», выводит своей дорогой и красивой ручкой с золотым пером на обороте счета, вытащив его из-под моего полупустого бокала скотча: «Riders in the chariot». Потом, подумав, приписывает ниже: «The Twyborn Affair» — и подвигает мне счёт.
— Хотя бы эти две. Обещай мне, что ты пойдёшь в «Ви Эйч Смиф» и купишь эти книги.
— Куплю,— соглашаюсь я. А сам думаю, почему у людей, которые ничего, кроме писем, не пишут, всегда такие удобные, красивые и замечательные ручки. Я себе покупаю в BHV ширпотребные шариковые. Очевидно, в этом есть какая-то закономерность.
Леопольд берет мою руку, только что освободившуюся от бокала скотча.
— Эдуард, ты можешь сделать для меня что-то, о чём я тебя попрошу?— Он смотрит мне в глаза «проникновенным» взором.
— Что?
— Нет. Не скажу. Вначале пообещай мне, что сделаешь.
— Но скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал.
— Вот видишь, какой ты! Я думал, что ты мне близок и ты мой друг,— обиженно убирает свою руку с моей Леопольд.
— Я твой друг, но я не могу обещать тебе того, что я, возможно, не смогу сделать, Леопольд. Я серьёзно отношусь к своему слову. Я так устроен, извини. Вдруг ты попросишь меня, чтобы я убил кого-нибудь, а я тебе уже пообещал…
На самом деле я, разумеется, не убью человека, даже если уже пообещал Леопольду. Да и мирный гомосексуалист Леопольд не попросит меня убить. Цель его детского нытья, его обиженный тон и опустившийся разочарованно турецкий нос — всё та же. Ему хочется понять меня. Найти в моём поведении мелкие, жизненные, как у всех, мотивы. А я спокойно предоставляю ему свой идеализм в сочетании с восточным фатализмом.
— Ты боишься, Эдуард,— торжествует он.— Ты побоялся пообещать.
Я начинаю злиться.
— Хэй, Леопольд, давай поговорим о чём-нибудь другом, а?
— Что ты думаешь делать дальше, Эдуард?
— Поговорить ещё с тобой, пока тебе не надоест, Леопольд, и потом отправиться домой по ночному Парижу. Я буду идти и получать удовольствие — думать о пустяках: о квартирной плате, о том, что следует прочистить камин, но на это никогда нет денег… Может быть, придя, я стану варить куриный суп… Открою окно на еврейскую улицу, и запах супа, и старого Марэ соединятся…
— Я имел в виду вообще, в жизни, что ты думаешь делать дальше?
— В ближайшие несколько лет я не собираюсь совершать никаких революций в моей жизни. Буду писать книги и публиковать их. Становиться всё более известным.
— Ну а потом?
— Когда ты очень известен, можно употребить известность на что хочешь. Можно пойти в политику, основать религию или партию… Я лично хотел бы сделаться президентом или хотя бы министром внутренних дел маленького государства. Лучше — островного государства. Попробовать, что такое власть.
— Это нереально, Эдуард. Шизофренические бредни. Я знаю, что ты сильный человек, но у тебя никогда не будет реальной власти. Может быть, будет влияние на души людей, но президентом ты никогда не станешь. Безумец, ты человек без Родины. Где ты сможешь стать президентом? Нет-нет, это нереально…
По его выражению лица я увидел, что Леопольд и не верит мне, но и верит, он не знает, он сомневается. А вдруг…
— У жизни в запасе множество форм существования, и она готовит смелому сюрпризы. Ещё пару лет назад я был слугой в доме миллионера и чистил башмаки хозяину. Теперь я сижу перед тобой литератором и книга моя уже вышла на пяти языках мира.
— Да… но стать президентом. Ты крейзи.— Леопольд улыбнулся. Он одомашненный член высокоразвитого капиталистического общества. Дух Леопольда давно кастрирован. Дальше храбрости иметь в любовниках криминала он не заходит.
— Хочешь услышать историю, рассказанную мне моим приятелем Карлосом?
Леопольд кивает.
— Было это лет пятнадцать тому назад. Юный португалец Карлос приехал в Париж и начал работать на фабрике. Денег он зарабатывал мало и потому снял комнату совместно с другим молодым фабричным рабочим. Комната была убогая и маленькая. Достаточно сказать, что в ней умещалась только одна кровать, на которой молодым людям приходилось спать вдвоём…
— О какая интересная история…— оживляется Леопольд.— Ну и что же молодые люди?
— Каждое воскресное утро,— продолжал я, не обращая внимания на попытку Леопольда вышутить мою историю,— товарищ Карлоса отправлялся в церковь. Таким образом раз в неделю Карлос мог поспать вдоволь, понежиться в постели. Однако вскоре Карлос сам разрушил свою сладкую воскресную жизнь. Будучи куда более развитым юношей, чем его товарищ, Карлос, сочувствовавший в то время коммунистам, всячески высмеивал религиозность своего приятеля и старался разубедить его в религии. И разубедил. Товарищ Карлоса заразился от него левыми идеями и перестал ходить в церковь…
— Ха-ха-ха-ха-ха!— сноб нарочито шумно расхохотался так, что «новой волны» влюблённые за его спиной перестали целоваться.— И что же случилось дальше?
— Жизнь развела их вскоре. Недавно Карлос получил вдруг письмо от бывшего товарища. Он теперь министр внутренних дел одной из социалистических африканских стран, образовавшихся на месте бывших португальских колоний в Африке.— Я торжествующе поглядел на Леопольда.
— Как же он стал министром в африканской стране, если он португалец. Разве белый может быть министром в африканской стране?
— За что купил, за то и продаю,— твёрдо ответил я.— Моему Карлосу я верю.
Сноб посмотрел на меня скептически. Заспанный басбой в красной куртке появился в зале и щёткой стал сметать в одно место пыль, грязь и окурки.
— Леопольд,— сказал я,— подумай о количестве изгнанников, проживавших в разные времена в Париже и ставших в конце концов президентами и министрами в своих странах. Начиная с имама Хомейни.
— Дорогой Эдуард, они все стали министрами и президентами в своих собственных странах. Ты не можешь всерьёз верить в то, что тебя однажды призовут в Москву и сделают министром…
— Я не говорю о Москве,— обиделся я.— Но в Париже и сегодня можно познакомиться и сблизиться с такими изгнанниками, которые имеют большие шансы оказаться однажды опять в собственных странах. И на больших ролях, Леопольд. Не посетителями кафе, перечитывающими вновь и вновь месячной давности газету на родном языке.
— Ну познакомишься, а дальше что?— спросил сноб недоверчиво. Его большой рот на тёмной физиономии кисло обвис. Сейчас он таки стал похож на старого гомосексуалиста.
— Вполне могут принять в свою банду, вот что! В слаборазвитых маленьких странах не так много людей с интернациональным опытом. И я зверски организован и работоспособен…
— Безумный, безумный Эдуард,— покачал головой сноб.— Никогда у тебя не будет реальной власти. Запомни, что тебе сказал Леопольд в кафе «Мабийон».
— Это мы ещё поглядим.
— Упрямый русский.
Из кафе мы выходим последними. Снаружи холодно, потому я затягиваю пояс на плаще, а он застёгивает куртку. Мы идём по Сен-Жермен, он намеревается сесть в такси на углу Сен-Жермен и улицы Сены. Он кладёт мне руку на плечо, и я неожиданно понимаю, насколько немец-турок-гомосексуалист-итальянец выше меня.
— Убери руку, разовьёшь во мне комплекс неполноценности.
Он смеётся.
— У тебя нет комплексов, Эдуард. Ты самый здоровый человек из всех моих знакомых.
— Только что ты называл меня сумасшедшим.
— Твои идеи безумны, но сам ты необычайно здоров.
Он, сгибаясь, влазит в такси, предварительно мокро поцеловав меня в губы. Перед тем как захлопнуть дверь, спрашивает:
— Ты уверен, что не хочешь, чтобы я отвёз тебя домой?
— Нет. Салют. Спасибо за обед.
— Станешь богатым, будешь водить меня в рестораны. Звони.— Такси отъезжает. И сразу поворачивает, мигая задним красным огнём.
Я иду и думаю — может старый пэдэ прав, и никогда не бывать мне у власти? С разумной точки зрения у меня нет абсолютно никаких шансов. Но я уже привык, что у меня никогда нет шансов. Двадцать лет назад Юрка Комиссаров злобно кричал мне на заснеженной улице Салтовского посёлка: «Ты думаешь, ты особенный! Нет, ты такой, как все!» — «Особенный!» — огрызнулся я тогда убеждённо, и оказался прав. Я стал писателем, пересёк полмира, живу в Париже, а Юрка до сих пор работает на заводе «Серп и Молот», где я задержался всего на полтора года. Маленький, несмелый Юрка… И большой пэдэ Леопольд… Что между ними общего? Они разумные, серьёзные люди… Если быть разумным и серьёзным, то ничего в жизни не сделаешь. Даже в Москву я не смог бы приехать из Харькова, ведь, разумно рассуждая, без прописки и работы меня ждала в Москве голодная смерть. Но я приехал и не умер… И в Нью-Йорке я должен был бы спиться, умереть под мостом, попасть в тюрьму… А может, мы сами накликиваем свою судьбу и становимся настолько большими, насколько у нас хватает наглости поверить? То есть мы сами определяем свою величину?
Сильвестр Сталлоне, сжимая пулемёт, поглядел на меня с афиши «Синема Одеон». Кончался октябрь 1983 года.
1 То есть публикует свои книги в издательствах «Ramsay» и «Albin Michel».
2 …Перека, Саррот или Бютора — Georges Perec, Nathalie Sarraute, Michel Butor
из сборника рассказов
«Чужой в незнакомом городе» • 1989 год
…Hit me with a flower1
Вторая по значению девушка в Иностранном Сервисе «Альбан-Мишель» позвонила мне:
— Мсье, испанский издатель интересуется вашей книгой «Journal d'un rate». Однако до принятия решения они хотели бы посмотреть русский текст. У вас сохранилась рукопись?
Я был зол в тот день. В моем жилище под крышей сделалось очень холодно и светло. Можно было видеть пар изо рта. Мой домашний климат послушно следует климату парижских улиц, точнее, третьего аррондисмана. И я был зол на «Альбан-Мишель» — издав в феврале мою книгу, они и пальцем не пошевельнули, чтобы её продать. И в феврале же они отвергли мою отличную рукопись (тотчас купленную «Фламмарионом», и за большие деньги). У меня сложилось впечатление, что по какой-то, только мне неизвестной, причине они решили избавиться от автора Лимонова.
— Я же вам давал уже в своё время экземпляр русской книги…— сказал я, может быть, слегка раздражённо. Думаю, за прочным прикрытием моего акцента вторая по значению девушка Иностранного Сервиса, однако, не заметила моего раздражения.
— Увы,— сказала вторая,— мы отправили книгу вашему немецкому издателю и не догадались сделать копию.
— У меня остался лишь один мой экземпляр. И я не собираюсь с ним расставаться.
— Мы можем прислать курьера,— предложила она,— мы сделаем копию в издательстве.
Ну уж нет, подумал я, отдавать вам последнюю копию я не стану. Рисковать, наученный горьким опытом общения с издательствами, не буду. Потеряете… уже теряли, где я найду текст? Книга издана чёрт знает когда эмигрантским издательством в Нью-Йорке…
— Я должен посмотреть в моих бумагах,— сказал я,— может быть, у меня осталась копия. Я посмотрю и позвоню вам, ОК?
Рукописи я не нашёл. По-моему, дабы избавиться от полукилограмма бумаги, я её выбросил. Раз в год на меня находят припадки антиархивной враждебности — остаток привычек годов номадничества,— и тогда я чищу свои архивы, как Сталин чистил партию, безжалостно и сразу.
Так как издательский бизнес — старый и медленный бизнес, я стараюсь быть быстрым. В любом случае всегда найдётся полсотни жоп, которые умудрятся сделать свою работу медленно и плохо — затормозят моё движение к книге,— потому имеет смысл делать хотя бы мою часть работы молниеносно. Она позвонила мне в пять вечера, до шести я копался в бумагах…
Уже в десять утра следующего дня я был на улице — русская книга в конверте — и шёл в копи-центр. Пусть это удовольствие и будет стоить мне сотню франков, однако душа моя будет спокойна… Было светло и холодно. 23 ноября всего лишь, но очень холодно. На мне были надеты две тишорт, свитер, пиджак и бушлат Ганса Дитриха Ратмана — немецкого моряка. Очки. Я сам окрасил оправу в чёрный цвет. Каждые пару месяцев мне приходится их подкрашивать, ибо, неопытный краситель, я выбрал не ту краску и она облупливается как нос, обожжённый на весеннем солнце. Почему я останавливаюсь на деталях? Вот на окрашенной оправе? Для меня каждая одежда не случайна, и все они что-то значат. К примеру, узконосые чёрные сапоги — я ношу одну и ту же модель, покупая их всегда в одном магазине, у центра Помпиду (владелец улыбается, он уже оставил надежду соблазнить меня другой обувью),— почему я их выбрал? Отчасти потому, что отец мой был офицером и первые пятнадцать лет моей жизни все мужчины вокруг меня носили исключительно сапоги до колен… не узконосые, однако. Узконосость же я выбрал в память о том времени, когда я стал юношей. Тогда были модны узкие ботинки.
Я отправился по моему обычному маршруту: рю Вьей дю Тампль — рю понт Луи-Филипп — через два моста, через сквер у Нотр-Дам, на левый берег — и, добравшись до копи-центра на углу рю Сен-Жак и бульвара Сен-Жермен, стал подниматься по винтовой лестнице на первый этаж. Недоподнялся. Хвост очереди выливался на лестницу. Я вздохнул и стал спускаться. Блядские студенты копировали глупейшие учебные чертежи и вопросники по экономике. «Merde!» — воскликнул я, выражая своё недовольство студентами. Выйдя на рю Сен-Жак, я сказал себе, что пойду по направлению к издательству и, если не найду копи-центра по пути, заставлю вторую по значению или её секретаршу сделать копию при мне, или же сделаю копию сам на зирокс-машине издательства. Почему столько студентов? Учебный год начинается в октябре. Разгар учебного года, пик активности?
В кафе на углу рю Суфло и рю Сен-Жак за стеклом сидел южноафриканский писатель Брайтон Брэйтэнбах и читал южноафриканскую газету. Перед ним стоял бокал пива. Мы с ним хорошо знакомы. Было бы время, я бы вошёл в кафе и сел рядом… Дойдя до пляс Эдмон Ростан, я перешёл рю Суффло. За столом «Макдональда» на углу Сен-Мишель сидел большелицый и грубоносый тип с конским хвостом волос, стянутых резинкой, и жевал супергамбургер с пузырящимся жёлтым сыром и серым рубленым мясом. Тип был грустен… Лишь пройдя по бульвару Сен-Мишель до самого магазина «Отрэман», я вспомнил, что типа зовут Джинго Эдвардс. Предполагается, что он комик, потому что он грубо, как в Бруклине, орёт, раздевается, хватает женщин за задницы… и тому подобные трюки из бруклинского репертуара. В Бруклине таких тысячи. Но оставшимся на родине вульгарным грубиянам за их номера не платят. Во Франции Джинго — «артист»… Вне сомнения, французское подсознание тихо радуется, лицезрел вульгарного (в чем они тайно уверены, даже самые восторженные американофилы среди них), каким ему и положено быть, американца… Что же касается книжного магазина «Отрэман», ни разу в своих многочисленных витринах среди фотографий поэтов и писателей они не поместили мою фотографию или мои книги. То ли у них особенный вкус и то, что я делаю, их не прельщает, то ли они патриоты и пропагандируют своих мелких французских пескарей в ущерб главной советской акуле. («Главную советскую акулу» я, признаюсь в плагиате, украл у параноика-татарина Булата, вместе с ним мы были заперты в 1962 году в психбольнице. Разодрав в клочья подушку — голый пух прилип к мокрому носу,— Булат обожал орать: «Я главный советский кит! Я главная советская акула!»)
Я знаю эту часть бульвара Сен-Жермен. Здесь есть несколько «копи-иммедиат» по франку за страницу, а то и по франку двадцать сантимов, но никаких копи-центров… Немало простоял я на этом куске бульвара у стендов со старыми книгами, выискивая издания по торговле оружием или документальные книги о наёмниках. Так как я родился в конце войны, в городе имени первого чекиста, в день Советской Армии, и папочка мой был офицером, и военные меня окружали — у меня немирные вкусы… Я шёл себе, глядя невнимательно, узнавая, а не разглядывая витрины и двери. Уже приближаясь к концу бульвара, между двумя магазинами книг я не узнал алюминиевую свеженовую дверь и такое же окно. Над дверью располагалась тёмная табличка со сложной, не объясняющей, а скорее затрудняющей определение назначения двери надписью: «Центр по продаже и пропагандированию экспериментальных машин». Каких машин, сказано не было. Шестое чувство подсказало мне, что следует остановиться. Поискав глазами, среди мелких надписей, украшающих стекла окна, я нашёл «фотокопии». В отличие от всех других заведений подобного рода надпись здесь была неброской и даже нарочито незаметной. Создавалось впечатление, что владельцы старались скорее спрятать надпись, как бы вовсе не желая, чтобы к ним являлись с бульвара Сен-Мишель делать копии.
Я вошёл. За двумя дверьми было тепло и звучала музыка. Стены были окрашены в жёлто-шафрановый цвет, музыка была восточная. Несколько недораспакованных или же недоупакованных машин помещались у двери. Направо амбразура без двери открывала соседнее помещение. Прямо ещё одна амбразура была прикрыта свисающими с потолка несколькими плоскостями мягкой резины. Я заглянул в ближнюю амбразуру. Помещение было меблировано двумя небольшими зирокс-машинами. И ни души. А музыка, ангельски-безразличная, радостная и фатальная — один голос непонятного пола тонко завывал об удовольствиях нирваны. На непонятном языке. Ибо это не был японский и не был бенгали… Я прошёл к плоскостям и, отведя их, сделал шаг вперёд. Вдалеке, в глубине большого, более тёмного зала, сидел перед голубым экраном человек. Один-единственный. На высоком стуле. Завидев меня, он не спеша встал и пошёл ко мне. Улыбаясь радостно. Приблизившись, он оказался худым очкастым восточным человеком — пакистанцем или индийцем: лицо и руки цвета бобов, ещё нежареного кофе, шафрановая рубашка с рукавами до локтей, чёрные брюки.
— Бонжур…— сказал он приветливо.
— Сколько берете вы за страницу фотокопии?— Я не спросил, осуществима ли вообще операция копи-производства на его восточной территории.
— Трант сантим,— ответил он, влюблённо глядя на меня.
— Прекрасно,— сказал я.— Где машина?
Мы вернулись в помещение, куда я уже заглядывал. Не спеша, спокойно он продемонстрировал мне машину. Для начала он огладил её ближнее к нам ребро. Это была не старой, но и не очень новой модели зирокс-машина. Следовало приподымать всякий раз резиновую крышку-коврик и, распластав книгу на стекле, покрывать её ковриком. Дождавшись моей первой копии, он вгляделся в ещё горячий лист. Не спросил, ни какой это язык, ни что за книга, несмотря на то, что на книге, он видел, была во всю заднюю обложку моя фотография. Ненавязчивый, довольный тем, что я доволен копией, он ушёл.
Я стал легко и с удовольствием работать. Я настаиваю на обоих эпитетах. Потому что там было легко. Помещение скопило в себе лишь положительные приятные частицы материи, и беспокойные демоны с бульвара Сен-Мишель не умели проникнуть внутрь сквозь заслон положительных частиц. Может быть, такой же спокойный воздух стоял под знаменитой смоковницей Бодаижу, в тени которой на соломенной циновке Мунжа сидел Будда. Я не хотел иного труда или отдыха, я переворачивал страницы книги, поднимая и опуская крышку — резиновый коврик, довольный собой и своим делом, не жалея о прошлом, не спеша в будущее… «Почему мне хорошо?— спросил я себя.— Музыка? Жёлто-шафрановые стены? Гипнотизирующая улыбка пакистанца-индийца?» Едва взглянув на вывеску центра по продаже и пропагандированию экспериментальных машин, я, помню, начал забывать испанского издателя, «Альбан-Мишель», Джинго Эдвардса с выжавшейся пеной майонеза в углу рта, спящую подругу (она явилась под утро, нетрезвая)… а миновав обе двери, совсем забыл. И к моменту, когда он оставил меня наедине с зирокс-машиной, я лишился прошлого и будущего.
Поверх новорождённых копий вывалился большой лист. Я не желал большого листа. Потому я вышел к резиновым плоскостям. Вдалеке на высоком стуле перед голубым экраном экспериментальной машины или простого ординатора сидел мой восточный человек.
— Мсье,— начал я издали,— образовалась проблема.
Спустившись со стула, он направился ко мне радостный. Неторопливо. С улыбкой обнажил ребра зирокс-машины. Её мышцы и внутренности и, пошатав что-то, закрыл машину её металлической кожей. Нажал кнопку. Вывалился нормального размера лист. Восточный человек неслышно ушёл, улыбаясь.
Около сотой страницы книги с бульвара Сен-Мишель явился восточный человек в чёрном пальто и с чёрным портфелем и ласково спросил меня, долго ли я ещё собираюсь пользоваться машиной. Я сказал, что собираюсь долго. Мне не хотелось торопиться, я желал продолжать работать. Так как восточный человек номер два не уходил, а, расположившись за моей спиной, кажется, собирался ожидать, когда я закончу работу, я спросил его, почему он не воспользуется машиной номер два. Незлобливо и ласково, пухлощёкий, он сказал, что любит именно эту мою машину, а не свободную от трудов. Может быть, французский словарь его был недостаточно обширен, но он воспользовался именно словом «j'aime», а не «предпочитаю» или, скажем, «привык». В применении к машине «амур» звучало странно, но я не попытался проникнуть глубже в отношения этого восточного человека с машиной. Оставив портфель стоять у стены, он ушёл на Сен-Мишель. Я подумал было о бомбах в портфелях и пакетах, но не обрывавшаяся музыка продолжала звучать столь убедительно нирванно, что я застеснялся моих европейских белых мыслей. Разве людям, имеющим любовные отношения с зирокс-машинами, пристали бомбы — грубые средства разрушения. Такой человек уничтожит вас цветком лотоса вернее и убедительнее. «Vicious, you hit me with a flower…»2 — вспомнил я строчку Лу Рида. «Vicious, you hit me every hour…»3
Вспыхивали зелёным огнём джунгли внутренностей машины, озаряя каждые две страницы «Дневника неудачника», шуршала, как сандалии прохожих, бумага, скрипели коленчатые рычаги, продвигая лист к выходу, каминный жар исходил всякий раз от машины при вспышках. Мягкий охладитель внутренних органов машины выносил жар мне в лицо. Словно под жертвенным камнем, посвящённым богине Кали, жгли бенгальские огни и практично совмещали религиозную церемонию с выпеканием на камне хлебных листов. По центру пропагандирования экспериментальных машин распространился жар намагнетизированной пустыни. Я переворачивал страницы моей книги… из-под машины выходили копии, горячие, как листы лаваша из печи… и музыка из невидимого аппарата восхваляла удовольствие нирваны — сухой и сладкой жары…
Увы, все удовольствия когда-то обрываются. Я поднял горячую папку слипшихся листов, магнитное поле их укололо мне ладони, я извлёк из-под резинового коврика мою книгу и сложил её в томик. Я пошёл к восточному человеку и сказал, что хочу заплатить. Он не спеша, как бы стараясь продлить моё удовольствие, пошёл на меня из полумрака зала, увеличиваясь постепенно и увеличивая улыбку,— кофейный, шафранный, слегка заплёснутые волной какао стекла очков…
— Combien de pages,— спросил он, не спрашивая. В тоне его не было вопроса, ибо вопрос не принадлежит шафранной ментальности Индийского субконтинента, вопрос — изобретение Запада.
— Сто двадцать семь паж,— сказал я на его языке. Не ответом на вопрос, но группа клеток присоединилась к молекулам его невопроса. Мы сложили наши знания и соорудили нечто совместно. Он нашёл карандаш и умножил на блокноте, шевеля губами. Назвал мне результат. Я возложил на прилавок пятьдесят франков. Он выложил сдачу — монеты, всё это выглядело достаточно безумно. И пятидесятифранковая бумажка, и 13 франков монетами не имели силы и значения денег, какое они имели бы в нормальном копи-центре на углу Сен-Жермен и рю Сен-Жак. Я дал ему пальмовый лист. Он дал мне несколько камней.
В дверях я встретился с восточным человеком номер два, и предвкушение наслаждения его машиной вспыхнуло в его глазах.
— C'etait bien?— спросил он меня, улыбаясь.
— C'etait tres bien,— подтвердил я серьёзно. И, обернувшись к двум цвета неподжаренного ещё кофе физиономиям, я сказал: — Большое спасибо. Орэвуар…
На бульваре Сен-Мишель было холодно. На уровне взгляда он был полон злых и раздражённых бледных лиц. Толпа выглядела больной, и я с тоской оглянулся на всё ещё закрывающиеся двери центра по пропагандированию экспериментальных машин. Четверть часа ходьбы, понадобившиеся мне на то, чтобы добраться до издательства «Альбан-Мишель», ушли у меня на то, чтобы привыкнуть к злобе, ненависти и раздражению, исходящему от прохожих.
В издательстве девчонка-ресепшионистка, мордастенькая блонд, оглядела с презрением мой бушлат Ганса Дитриха Ратмана — немецкого моряка — и пакет с копией, прижимаемый мной к груди.
— Что вы хотите, мсье?
Я назвал фамилию второй по значению девушки в Иностранном Сервисе.
— У вас с ней рандеву?
— Нет… Но я принёс ей пакет, и, может быть, если у неё есть пару минут свободных… она захочет меня увидеть?
Мордастенькая, чуть заметно пожав плечами, набрала номер.
— Здесь некто… Ваша фамилия?— она подняла ко мне лицо.
— Лимонов.
— …некто… Лимоно…
Из недр Иностранного Сервиса ей около минуты сообщали нечто по моему поводу.
— Сейчас к вам кто-нибудь спустится, мсье…— сказала блонд и занялась рассматриванием своих ногтей…
Чрезвычайно перепуганная небольшая женщина появилась в приёмной.
— Мсье Лимонов?
Торопясь, она объяснила, что она не вторая по значению в Иностранном Сервисе, но третья по значению. Второй по значению сегодня нет. Она взяла у меня ещё тёплую сквозь пакет копию и такое множество раз поблагодарила меня, что я решил — третья по значению боится, как бы я не ударил её по голове. Кланяясь, отступая с пакетом к лестнице, она продолжала быть испуганной…
Шагая по бульвару Распай по направлению к рю де Рэнн, я был уже столь же раздражённый, хмурый и завистливый, как и граждане, двигавшиеся по бульвару вместе со мной. «Merde!» — думал я зло… Я издал в «Альбан-Мишель» три книги. Последняя опубликована не полсотни лет назад, но в феврале этого года… И мордастенькая никогда не слышала моей фамилии! «Кэлькэн… кто-то… некто с пакетом…» По всей вероятности, она приняла меня за курьера, развозящего пакеты на мотоцикле. Писатели разве расхаживают в бушлате с якорями на пуговицах (пуговицы пришиты зелёными нитками), в узких брюках тинейджеров, со стриженными под корень черепами? Настоящий французский писатель моего возраста носит длинное бежевое или чёрное пальто, бабочку, белый фуляр или мягкий шарф на шее… Я не хочу, чтоб меня узнавали на улицах, но в «моём»-то издательстве должны бы знать моё имя? В моём бывшем издательстве…
Я морщился, корчился, дискутировал сам с собой… И если бы меня попытались ударить цветком, я бы набросился на шутника, выламывая ему руки… впился бы ему в горло…
1 «Hit me with a flower» (англ.) — «Ударь меня цветком». Из Лу Рида [Lou Reed].
2 «Vicious, you hit me with a flower…» (англ.) — «Злой, ты ударил меня цветком…».
3 «Vicious, you hit me every hour…» (англ.) — «Злой, ты ударяешь меня каждый час…». [в оригинале: «You do it every hour» — «Ты делаешь это каждый час»]
из сборника рассказов
«Чужой в незнакомом городе» • 1989 год
Речь «Большой глотки» в пролетарской кепочке
Я гляжу на предвыборные афиши, где меня призывают сплотиться с другими франсэ во имя лучезарного будущего Франции, брезгливо-скептически.
— Наебут,— говорю я себе, сплёвывая.— Везде и всегда наёбывали, почему же вдруг сейчас не наебут. Почему природа их, начальников, в этот раз должна измениться?
Всё дело в том, что я попал в писатели слишком поздно, уже сложившимся типом. Двадцать лет в моей жизни я был рабочим. Настоящим. Не отпрыском буржуазной семьи, с восхищением увлёкшимся популистскими идеями и отработавшим на заводе несколько месяцев в лучшем случае (даже если год, то что это меняет?). Нет, не из Джорджей Оруэллов и Симон Вейлей я. Я был рабочим помимо моей воли, никакого желания быть им не имел, с удовольствием принял бы нерабочие деньги, но так не случилось, точка. Не пришлось, хотя я пытался. До того как стать рабочим, пять лет был я молодым вором. Не хватило ли мне изворотливости, воровской ли дух был забит во мне созерцательностью, но куда чаще я добывал себе хлеб честным трудом, чем нетрудом или трудом нечестным. Так вот, я хочу сказать, что помимо моего хотения я успел приобрести рабочую философию. Вернее, натура моя успела одеться в рабочие одежды. И вот живу я с этакой воображаемой рабочей кепочкой, надвинутой на глаза. Взгляд из-под кепочки очень недоверчивый, взгляд непрогрессивного рабочего, отсталого, реакционного, беспартийного и несиндикированного1…
Большинство писателей в мире принадлежат к мощному содружеству, к секте, к ложе сильнее масонов и сильнее евреев, к космополитическому классу интеллигентов. Интересы их класса ближе им интересов народов, среди которых они родились. За своего Пастернака, или Хавела, или Рушди они глотку народам перервут. И советскому, и мусульманскому. Любому. Я же, в моей кепочке, приросшей ко мне, не разделяю интеллигентских верований и предрассудков, но разделяю рабочие.
Все афиши без исключения призывают нас объединиться, чтобы Франция выиграла. Я знаю, что мы проголосуем за них, а они нас вертанут. То есть чего-нибудь не дадут или того хуже — заберут у нас что-то, что у нас было…
Обманут, так же как обманул нас в 1963 году секретарь Харьковского обкома партии. Какая квалифицированная блядь был этот секретарь. Профессионал высокого класса…
Мы получили расчётные листки, то есть «fiche de paye» по-здешнему… наша комплексная бригада сталеваров, и обнаружили, что нам начислили на треть меньше денег, чем в предыдущем месяце. Мы сели у печей и стали ругаться. Заметьте, между собой. Поругавшись, все двадцать восемь гавриков решили прекратить работу. Вопреки мнению какого-нибудь Глюксмана2, который считает, что всё знает о Советском Союзе прошлого, настоящего и будущего, что в «тоталитарной»… забастовок не могло быть… мы просидели, являясь на работу ежедневно, все три смены работяг, не шевельнув и единым ломом и задув печи, несколько суток. Ноль пламени. И был это 1963 год. Мы не называли это пышно «забастовка», мы сидели. К нам явились попеременно: парторг завода, директор, вплоть до политрука военного округа, кого только не было, в сопровождении свит в чистеньких костюмчиках. Чтобы представить эти рожи и брюха, посмотрите на заседание Палаты депутатов или Сената и выберите себе десять-двадцать седовласых. Любых, на выбор. Начальник во всех странах мира одинаков. Они орали на нас и взывали к нашей рабочей совести. Но мы работали на заводе «Серп и Молот» в литейном цехе, у горячих печей, не по причине совестливости и не из-за страха, но из-за денег. Треть нашего состава были образумившиеся и обзаведшиеся семьями бывшие уголовники. Ещё треть — «дядьки» из пригородных деревень, «куркули», как мы их называли, пришедшие на завод на несколько лет, чтобы поправить хозяйство, отремонтировать разваливающийся деревянный дом, поставить новый забор… Последняя треть, куда входил и я, двадцати лет юноша, пришли в литейку, чтобы заработать денег на одежду и девушек. Мы не были академиками, которых можно выгнать из Академии, не были кандидатами наук, их можно было не допустить стать докторами, не были даже студентами, и нас нельзя было выгнать из университета. Нас уже давно отовсюду выгнали или по меньшей мере уже никуда не пустили. Нам было не страшно. Потому мы многих послали на хуй, а Иван Бондаренко, наш бригадир, погнался за парторгом завода с болванкой. На третий день кончился запас коленчатых валов, которые мы варили (среди прочей продукции), и поэтому встал машинный цех завода. Вот тут-то и приехал этот секретарь. Он наверняка давно уже сидит в Правительстве Украины или даже всего СССР… Жулик, красивый, как актёр, волосы тронуты сединой, произнёс, расстегнув пальто, речь. И не побоялся, что характерно, в своих хороших нежных ботинках взобраться на груды руды и марганца, с чьей помощью мы варили эти блядские валы (вообще-то я в составе ничего не понимаю, моя работа была другая), и произнёс речь.
— Ребята!— И он обрушился всем весом слов оратора, добравшегося до пусть ещё не первого, но секретаря Харьковской области, это по размерам с половину Франции будет, обрушился не на нас, но… на нашего директора завода, на парторгов завода и цеха… Грозил, что отдаст их под суд, сукиных сынов, убивцев рабочего класса, и, выплеснув гнев, выхватил из рук холуя красную папку с тесёмками, извлёк оттуда пачку расчётных листов и, выкликая нас по фамилиям, раздал их нам.— Держите, товарищи!
Зарплата в новых расчётных листах была не ниже зарплаты прошлого месяца. Мы, ахнув, довольные, все пошли и получили в кассе наличные. А получив, приступили к работе. Хотя он нас к этому в своей речи и не призывал. Растопили печи, в полной уверенности, что — невероятно, но факт — среди начальства бывают и порядочные люди!
Ну да, бывают, для их жён и детей. Но не для работяг. Через месяц они срезали нам зарплату чуть-чуть, утешив нас тем, что завод плохо справился с планом, но в следующем месяце всё станет на свои места. Но и в следующем от нас отняли чуть-чуть, объяснив это чуть-чуть в терминах диалектической математики, которую никто из нас не понял. Мы поворчали и разошлись. Короче, через полгода мы обнаружили себя с теми же малокровными суммами денег, из-за которых мы некогда бросали работу. Но, когда они тебя так, по чуть-чуть, обворовывают, у тебя уже нет той ярости, какая у тебя есть, когда у тебя украли сразу сто рублей! Несколько наших уволилось. Их заменили другие бедолаги. А красивый секретарь никогда больше не появился.
Вот из каких уроков складывается характер человека. Да святого можно рабочей жизнью разложить! Сотни единиц опыта заставляют меня смотреть на физиономию капиталиста Бернара Тапи, похожего на Симону Синьоре в молодости, и из-под кепочки шептать: «Да хули ж ты мне заливаешь, да я ж ваши души насквозь, да я ж ни разу не ошибся в натуре вашей, да я ж служил у такого, как ты, слугой в 1979–1980 годах в Нью-Йорке… Тоже был передовой миллионер… Детям заливай, но не мне…»
Или вместо Тапи по теле раввина демонстрируют и речь его против расизма. Всё хорошо, всё правильно. Умный раввин, симпа. Но чего ж ты, дядя с бородой, не скажешь о том, что в Израиле твои братья по одному-два палестинца каждый день отстреливают… Сказал бы, что это нехорошо, и дальше бы чесал против расизма. Тогда бы слова твои объективно звучали, тяжелее бы падали… А без этого упоминания я ж тебе не верю, дядя… Как Шехтеру и Адлеру.
В 1976 году Юрка Ярмолинский позвонил мне в отель и сказал:
— У меня есть для тебя работа, Лимонов. Нужно перенести несколько ящиков из бэйсмента синагоги в театр. Знаешь синагогу на 55-й и Лексингтон? Дают сто долларов на двоих. Один парень у меня уже есть.
— Хочу!— закричал я.— Только зачем двое, я один перетащу ёбаные ящики.
— Один не сможешь,— сказал Ярмолинский,— они, насколько я понимаю, не тяжёлые, но крупные. Ты мне твёрдо скажи сейчас, если ты согласен, потому что работа срочная, им эти ящики к спектаклю нужны. А спектакль первый уже объявлен на послезавтра. Если ты не можешь, я другого человека найду.
— Согласен, согласен,— поспешно заверил его я. Но, вспомнив прошлые злые шутки жизни, добавил, однако: — А поговорить нельзя с этим типом, с нанимателем то есть, с завхозом, я имею в виду? Может быть, можно больше денег выбить…
Я стал, очевидно, действовать Юрке на нервы, потому как он сказал простым, без интонаций голосом:
— Завхозов в синагоге на самом деле два: одного зовут Шехтер, другого Адлер. Сейчас одиннадцать вечера. Оба дрыхнут в Бруклине под пуховыми перинами… Take it, or leave it. Если берёшься, будь завтра в девять утра у главного входа в синагогу с Лексингтон, и придёт этот парень, его зовут Слава. Он знает, где найти завхозов.
Я заткнулся и срочно лёг спать.
Всё это дело оказалось мелким мошенничеством. Нас с бедным глупым Славой наебали по меньшей мере на сотню долларов. Я до сих пор не знаю, кто положил разницу себе в карман — Юрка ли Ярмолинский, или Шехтер и Адлер, или вся гопкомпания разделила money на троих,— в конце концов, это даже не важно. «Ящики» оказались разборной сценой театра: тридцать шесть секций! И лишь первые шесть были полегче, со второй шестёрки сцена повышалась к удобству зрителя и нашему неудобству, секции утяжелялись. Протащив по низкому basement3, подняв по лестнице в холл синагоги, каждую секцию следовало пронести по холлу, выйти с нею на 55-ю стрит, пересечь её (!), внести в холл другого корпуса синагоги — культурного её центра,— втащить в элевейтор и, опустившись в театр, пронести через плюшевый красный зал и бросить с проклятиями в нужном месте… Юрка нам этого не сказал, ни мне, ни этому Славе. Контактированный впоследствии по телефону Юрка утверждал, что понятия не имел о том, что театр находится в другом здании. Может, так оно и было, но нам-то от этого не сделалось легче. Адлер — жирный старик в сером костюме — отвёл нас в basement, прошествовал за нами, несущими первую секцию, указывая дорогу, и смылся в тот щекотливый момент, когда, задохнувшиеся от оказавшегося неожиданно долгим и тяжёлым пути, мы раскрыли было рты, желая перенегосиировать договор хотя бы на сто пятьдесят. И мы ни хуя его не увидели до самой поздней ночи, когда он, возникнув откуда-то, брезгливо дал нам, как бы надсмехаясь, одну стодолларовую бумажку на двоих.
Я намучился больше со Славой, чем с секциями, потому как несколько раз он в истерике бросал работу и объявлял, что уходит.
— Ёбаные жиды!— кричал он, опускаясь на грязные ступени.— Ёбаные эксплуататоры! Я не могу больше. Я линяю, ебись они с их работой. Бандиты!
Мать Славы была еврейкой, следовательно, по еврейскому закону он был евреем, и крики его для меня звучали абсурдно. Потные, грязные, руки разодраны о железные полосы (ими для прочности были обиты торцы мерзких секций), в полутьме, ибо половина лампочек в basement отсутствовала, он визжал, а я кричал на него.
— Слюнявая баба!— кричал я ему.— Ты на голову выше меня, здоровый хуй, четыре года сидел (он сидел в Союзе в тюрьме), а воешь и ноешь, как истеричная пизда. Берись немедленно за ящик! Они нам ни хуя не заплатят, если мы не закончим работу! Берись, сука, за ящик!
В том basement реформированной прогрессивной синагоги я понял, почему для того, чтобы поднять солдат в атаку, командиру иногда приходится пристрелить одного из прижавшихся к стенам окопа трусов. «Слюнявая баба!» Ох, я запомнил навсегда это раскисшее поганое личико толстого блондина и его покрасневшие водянистые глаза. Вот как выглядит трус.
Ну конечно, когда вынырнул вдруг Адлер, мы пытались его расколоть и взывали к справедливости. Слава, какой же мудак, заплакал и бросился на него с кулаками… Мне пришлось его удерживать. Адлер сказал, что он ничего не знает, что он не договаривался с нами, что Шехтер договаривался с Юрием, и, так как ни один из них не присутствует, его, Адлера, роль сводится к отдаче нам этой стодолларовой бумажки. Слава зарыдал, закрыв лицо сбитыми в кровь руками…
Сцена эта происходила в пустом театре — жёлтый свет и красный декор кресел, декораций и стен — тотчас после того, как мы, едва не валясь с ног, подвинули последнюю суперсекцию в паз гигантских кубиков. Адлер дал нам бумажку, вынув её из кармана пиджака. Сцену наблюдал чёрный, что-то среднее между ночным портье и охранником. Лампасы на штанах цвета какао, револьвер в кобуре. Так что старик Адлер нас не боялся. Покидая поле наших мук, я спросил чёрного, безучастно ожидающего, когда мы уйдём, чтобы закрыть здание, сколько, по его мнению, стоит эта работа. Он сказал, что в прошлом году, когда театр закрыли за отсутствием труппы, чёрные ребята, его брат среди прочих, проделали обратный процесс за три сотни долларов. С той разницей, что они, открыв окна basement, спускали ящики прямо с 55-й в basement, избежав долгого маршрута в обход. Но в этом году они не согласились — слишком тяжёлая работа…
Такие вот случаи, сотни их, убивают доверие к начальникам и к мифам о них, такие случаи проясняют общую фотографию власть имущих человечества. И они хуёво выглядят. Чего стоило этому Адлеру поскрести в затылке, поколебаться и сказать: «Да, ребята, тут, конечно, работы больше, чем на сто долларов. Вы проеблись с девяти утра до часу ночи, ОК, я добавлю вам ещё полсотни. Больше не могу. Вот вам полторы сотни. Но не будьте идиотами в другой раз…» Нет, он сел в автомобиль и поехал спать в своё религиозное коммонити в Бруклин, под пуховую перину к жене, а мы похромали, я и трус Слава, всё ещё мокрые и липкие, в поту, к метро. Он думал, этот старик с большим лицом, о репутации евреев в наших глазах или нет? Ни хуя не думал. О репутации человечества? Ха, ещё чего… О репутации Америки в глазах свежих эмигрантов? И того меньше. Совсем нет…
*
Я надвигаю воображаемую кепочку на глаза. Полив властей — любимое занятие рабочего человека? А что вы хотите, чтоб я не видел того, что вижу? Или, во всяком случае, держал свой рот закрытым? Так зачем и жить, если рта не раскрыть?..
Вот нам всё время твердят, что мы живём в век компьютеров, во времена информационной революции. Заходя в подъезд дома на рю де Тюренн, где я обитаю на последнем этаже, этого не скажешь. Скорее скажешь, что это эпоха ещё до Второй мировой войны. Но это ни хуя не бедное жилище, я плачу за выцветше-розовую студию, превращённую в таковую из двух крошечных piece4 с четырьмя окнами, плюс ответвления кухни и душ-туалета,— 3.200 франков. Новыми, да-да. Где вы видели эпоху informatique, если даже лампочки нам ни хуя не меняют на лестнице, я (самый сознательный, да? в доме), я вворачиваю их! Стены облуплены, окна не закрываются, плиточный пол palier5 в ямах. За два года, что я тут живу, пять всего лишь квартир дома ограбили по меньшей мере десяток раз. Мою — два раза, несмотря на то, что, как работник либеральной профессии, я работаю дома — всегда присутствую. Насмехаясь над статистикой правительства, в день, когда объявили снижение квартирных ограблений на 9%, в нашем доме ограбили сразу две квартиры — мсье Лаллье и мадемуазель Трэйн Нэж, китаянки. В марте 1988 года. О какой информационной революции идёт речь, когда electrochoffage, обогревающий мою розовую дыру,— бронтозавроподобное сооружение, хлебает электричество, как воду, и допотопно — кирпичи с электропружинами внутри. Ну и социальная система, ну и техника… В Советском Союзе, где даже подъезды отапливаются большими батареями центрального отопления, смеялись бы до упаду над бытовой техникой страны победившей информационной революции. В стране, где только что был ГУЛАГ, да-да, смеялись бы. В стране, где не было ГУЛАГа, гражданина ебут тихо, пристроившись сзади. Ах, меня, кажется, ебут? Кто там? Tresor publique6. Аза ним — очередь организаций. Ждут, чтобы воткнуть гражданину. Я сменил штук пять квартир в Париже, все они не были дешёвыми, но убожество уровня комфорта сравнимо разве что с Италией. В ЮэСэЙ даже самый забытый богом отель для безработных чёрных всё же имеет центральное отопление… В моей первой парижской квартире на рю дэз Аршив говно из туалетной вазы накачивалось насосом в общую трубу. Информационная революция, бля,— мой сегодняшний сосед по palier Эдуард Матюрэн, его жена и ребёнок ходят в туалет на лестнице, с двумя sabots7 по обе стороны дыры. Ещё два бэбэ лежат в единственной комнате семьи — втрое меньше моей. Пятеро в одной клетушке! (Бэбэ в туалет ещё не ходят.) Информационная революция, бля, в нескольких минутах ходьбы от пляс де Вож. Но зато построили стеклянную пирамиду, подумать только, игрушечную Оперу, угрохали миллионы в Музей Науки в Ля Виллетт, теперь Великую Библиотеку неизвестно за каким хуем собираются строить. И мэр города, в котором недостаточно туалетов, страстно занят борьбой за президентское место. Лучше бы туалеты строил! Бля, хватает совести говорить о прогрессе. Информационная революция, очень может быть, действительно благородная революция, облегчающая труд comptables, по-русски бухгалтеров, но мы-то, просто себе граждане, не comptables, те, кому нечего считать, кроме своих долгов, хули нам от вашей этой революции? Чего вы о ней распизделись… Нас она не греет. Хорошо теперь полиции с компьютерами, она хранит свои досье в одном сером ящике, а не в пяти комнатах. Однако освободившиеся комнаты что, отдали бедным? Ни хуя. У полиции лучшее здание в городе, в самом центре… А вы пиздите… революция… Никакой… Нам говорят, что Франция должна поднять голову, солидаризироваться, у нас кризис, оказывается. Мы отстаём. От кого, от чего мы отстаём — мало понятно. Солидаризироваться… Я солидаризировался вчера с Франсуа Лаллье со второго этажа, он поэт и преподаватель. Мы пошли в мэрию нашего аррондисмана и, высидев час в приёмной среди одиноких женщин, были введены в кабинет молодого человека средиземноморской наружности с ласковым голосом гобоя — он личный представитель мсье Жака Доминати, нашего мэра. Молодой человек выслушал наши жалобы на слишком большое, по нашему мнению, количество квартирных краж в доме, где мы живём, и попытался утешить нас тем, что статистически наш аррондисман считается одним из самых безопасных в городе. Поняв, что нас это обстоятельство не утешило, он пообещал воздействовать на полицию, дабы она провела анкету. К чему я это всё говорю? Чтобы добраться до вывода. Мир, согласно мэру Доминати, Шираку, президенту Миттерану или даже этому темноглазому молодому человеку, совершенно не похож на мир, в котором живут Франсуа Лаллье, Эдвард Лимонов или девушка Трэйн Нэж (я с ней разговаривал, может быть, пару минут, но здороваюсь). И первая вышеупомянутая группа господ ладно бы управляла бы нами тихо, но нет — они стараются стереть, не допустить того, чтобы наша картина мира — жильцов нашего дома на рю де Тюренн — была бы оглашена. Повсюду должна присутствовать только их Франция: больших залов мэрии, блестящих вертящихся механизмов в Музее Науки, официальных приёмов, политических обедов в окружении цветов, шампанского, Инэсс де Фрэссанж, Пол-Лу Сулитцера, ленточек, которые разрезают, запуская в мир всевозможные чудеса техники… Но если я не отрицаю существование их мира, то они отрицают мир согласно Эдварду Лимонову. Игнорируют. Их ложь состоит в том, что основной океан жизни бьётся, происходит не в приёмных министерств, банков, корпораций, не в Мэзон де Радио или рю Коньяк Джей8, но в тараканьих дырах вроде нашего дома на рю де Тюренн. Это — океан жизни! И ведь я даже и не бедный человек, в 1987 году мой доход приблизился к ста тысячам франков. Так что их жизнь, как паблисити на теле: всё цветное, красивое, высокие потолки, трибуны. Наша жизнь: тесное, дорого стоит, неудобное, холодное, хуёвое… Разные миры. И электричество организациям и лицам по-разному стоит? За что организациям дешевле? Должно бы быть наоборот… Все их съезды, мы же видим, не происходят в нормальных домах, но всегда в просторных, светлых помещениях. Мы с Франсуа рассмотрели мэрию, дожидаясь приёма: XIX-й век, при Наполеоне III сделано, потолки, зеркала, камины, одни лестницы чего стоят, сколько угроблено пространства… А мы в нескольких сотнях метров от мэрии воевали, добиваясь, чтобы gerant9 на входную дверь замок поставил, потому как клошары в подъезде поселились, и не выжить их было. Целая колония. Так замок всё равно сломали. И конечно, гобойный молодой человек ни хуя не сделал: никакой полицейской или другой анкеты никто не проводил. Грязь, на третьем этаже ателье кожаных изделий дом сотрясает. Однажды он свалится на хуй, этот дом. Им по хуй, они мэрию отремонтировали. Прекрасна наша мэрия над прудом.
Ещё в конце 1983 года, помню, написал я письмо министру культуры: просил его помочь получить carte-de-séjour10, так как остопиздело каждые три месяца ходить в полицию, просить опять и опять récépissé11. Написал, мол, я писатель, сделайте эту мелочь для меня. Ну конечно — министр, ему Францией нужно заниматься, я не ожидал, чтоб он мной занимался. Ну какой-нибудь восьмой секретарь, думаю, может, ответит, поможет слегка. В начале 1984-го пригласил меня письмом в министерство, в Пале Рояль, «шарж-д'аффэр», некто Жан-Клод Копэн или, предположим, Потэн. О, какие там оказались лестницы! К Потэну/Копэну провёл меня один из «шестёрок» (арготическое словечко это заимствовано мной из жаргона советских блатных) — молодой человек с бабочкой. Кодла их сидела и пиздела в вестибюле, ожидая распоряжений. Молодые холуи с бабочками… И вот ведёт этот тип меня высокими коридорами Пале Рояль, как в театре, и вводит туда, где летать можно просто. Окна, классически окрашенные в белое с позолотой, ну прямо двадцать квадратных метров каждое, чтоб одно такое открыть, я думаю, пара здоровяков нужна! Великолепие! Из-за стола (стол что тебе железнодорожная платформа размером) встал человек… Но я не о Жан-Клоде Потэне собирался говорить, я вспомнил помещение его, кабинет его, о котором Потэн мне тотчас же с гордостью рассказал. Оказывается, он, мсье «озабоченный аферами», расположился в бывшем кабинете Жозефа Бонапарта, брата Наполеона. Один! Каково! И дело не в том, что я осуждаю неправильное употребление помещения, нет. Я понимаю — им надо, власть, дабы заставить себя уважать, всегда закрепляла за собой большие и красивые жизненные пространства — метры вверх и в стороны были ей нужны не для работы, но для дистанции, чтобы простой смертный ахал, охал и ужасался своему собственному ничтожеству, тому, какой он маленький! Но мне всегда казалось, что мы уже давно не простые смертные, что революция французская была недаром, что отношения с властью изменились… А Потэн, он был очень доволен кабинетом, историк, кажется, по профессии, его это восхищало — сидеть в кабинете Жозефа Бонапарта,— он потирал руки…
К чему это я клоню? Тут я забегу вперёд, чтобы сказать, что вся эта кодла социалистов в министерстве культуры за два с половиной года, написав тридцать писем Э.Лимонову, так ни хуя не сумела сделать для меня по… неумению, непониманию, некомпетентности или нежеланию? Выбирайте любое, что это меняет… Два с половиной года — 1984-й, 1985-й и до выборов в 1986-м — все эти дяди и тёти лениво возились (плюс подключилось второе министерство — Дэз Аффэр сосиаль!), и результат к моменту выборов в 1986-м был — 0. Ни хуя! Одному человеку без паспорта, но налогоплатящему исправно, без арестов и задержаний, четыре книги издано — не смогли сделать даже carte-de-séjour на десять лет, не то что гражданство! За день можно сделать. Хлоп-шлёп печатями. Готово. Гуляйте. Но ведь ответственность. И ведь зачем тогда оба министерства, если так просто каждый будет получать свою бумагу? И вот они меня оставили с правым правительством рожа в рожу, мне что правое, что левое, всё равно — правительство, власть, чиновники. Но правое правительство увидело в моём досье письма левого министерства культуры и послало меня на хуй, только и именно по этой причине. Это их междусобойные игры, Э.Лимонов тут абсолютно ни при чём… Я всё это говорю опять же не для того, чтобы пожаловаться на несправедливость, но чтоб показать, глядите, люди — «они» все делают серьёзные лица и большие глаза, произносят тяжёлые красивые слова «министерство», «conseilleur technique», «charge d'affaires»12, а на деле — где ж работа? Никакой работы в моём случае, посылались с периодичностью раз в месяц письма, и всё. Они спят в своих кабинетах Жозефа ли или кого, самого Наполеона? Спят и видят сладкие сны. И идут, сияя розовыми щёчками, на de'jeuner13. Поэтому время от времени нужно перемешивать общество, нет? («А са ира, са ира, са ира…»14) Чтобы те, кто уснул, оказались на дне, а те, у кого, по выражению моего друга фотографа Жерара Гасто, «огонь в жопе», имели бы доступ наверх. Лучшее средство перемешки — рецепт 1789 года. И, вопреки идеологиям, средство обыкновенно достигает цели — хорошо перемешивает общество. Не создаёт идеального общества по рецепту свежей идеологии, нет, но свежие люди подымаются на поверхность жизни, и если уж им дают кабинет, то они в нём не спят…
Лично мне этот Потэн был симпатичен, против него лично я ничего не имею. Однако мы не могли с ним быть в одной группе. Он сидел за своим столом и разглагольствовал. Слушать его было приятно. Я сам историю, как некоторые сладости любят, люблю. По Бонапарту диссертацию могу защитить, между прочим. Я его с возраста пятнадцати лет изучаю. В 50-х годах ещё книгу советского историка Тарле «Наполеон» прочёл. Однако у меня даже временной carte-de-séjour нет, и récépissé через месяц с небольшим кончается. «Последнее»,— предупредили меня в префектуре. Мой американский временный документ закончился, и они не хотели иметь у себя беспаспортного. Времена посуровели в 1984 году для «иностранцев», даже если ты белый и денег не просишь. Я хотел carte-de-séjour. Потому я его исторический экскурс дослушал и напомнил ему:
— Ну а как же с карт-де-сэжур-то, мсье?
— Не волнуйтесь,— говорит,— поможем, разумеется, всё сделаем…— И ручки потёр Потэн.
Я тогда был con из con'ов15… В эСэСэРе я все их трюки знал, в Штатах я все их трюки за шесть лет изучил, там меня трудно было наебать, возможно, но трудно, во Франции в 1984-м я был кон из конов. Потому я обрадовался. Мне даже неудобно стало, что в кабинете Жозефа Бонапарта с такими незначительными глупостями к большому лицу лезу. «Carte-de-séjour… Может, ты ещё рубль попросишь?» — внутренне выругал я себя.
Вдруг без объявления человек в пальто в кабинет вошёл. Голова в кудряшках мелких, полуседых. И идёт к столу. Долго идёт, ибо кабинет, как поле. Потэн вскочил, и я со стула поднялся, чтоб руку пожать. Пожимаю. Он смотрит на меня, не понимая. То есть до него туго доходит, кто я. Французская физиономистика не годится в случае такого типа, как я. А я его разглядываю. Физиономия — как бы оспу человек пережил…
— Вот, мсье министр, познакомьтесь,— говорит Потэн,— писатель Ли…— и на меня смотрит.
— Лимон'оф,— говорю я, нажимая на последний слог, как они делают. Неправильно коверкаю свой любимый псевдоним.
Он губы расчленил, показал зубы — это называется вежливость. А Потэн бежевое пальто натягивает уже, в один рукав влез, в другой никак не попадёт. Я думаю, не от волнения, но от торопливости, они куда-то вместе собрались, министр и «шарж д'аффэр». Опаздывают. Потому в рукаве запутался.
— Мсье Лимон'оф хочет карт-де-сэжур,— объяснил Потэн, найдя рукав.
— C'est bien,— сказал министр и сделал зубы ещё раз.— C'est tres bien16.
Поощрил, следовательно. Одетые, они глядят оба на меня. И молчат. И тут я сообразил, натягивая свой плащ родом из Нью-Джерси, что я не должен их ждать, дабы вместе с ними выйти. «Это тебе не из квартиры приятеля выбегать, дурак»,— сказал я себе. С министром не выходят в обнимку, гогоча не бегут, обгоняя друг друга по лестнице и обругав собачонку консьержки. Министр выходит один. Или с шарж д'аффэр. Ты не можешь спросить у министра: «Эй, Джэк, вы что, пожрать собрались? Я с вами…»
Я откланялся, впрочем, очень гордый собой. Считая, что моё дело в шляпе. Не буду ханжой, признаюсь, что шёл по де Риволи задрав голову и презирая толпу. Так мы устроены. (Только один кретин всю жизнь так ходит, а другой через четверть часа над собой расхохочется.) Я ведь только что разговаривал с министром. Придя домой, я намеревался бросить небрежно: «Ну вот, министр заверил меня, что дело в шляпе!» Моей подружки не оказалось, увы, дома.
Я стал бегать к почтовому ящику ежедневно, ожидая carte-de-séjour. У меня не было сомнений, что мне пришлют «carte-de-séjour privilégiére» — на десять лет. А то и навсегда. Паспорт пришлют! У моей знакомой англичанки была «privilégiére» на десять лет. У драг-дилерши! Если же трудящийся писатель добрался до самого министра, то что ещё он может ожидать? Паспорт, конечно…
В марте 1984-го я получил от любезного Потэна копию письма к нему мсье Филиппа, скажем, Курсье, технического советника из другого министерства, из секретариата «семьи, населения и рабочих-эмигрантов». Мсье Курсье писал Потэну, что его начальница — мадам министр — переслала моё досье в Министерство d'Intérieur. «Так как мсье Лимон'оф не работник «salarié»17, то наш Секретариат и наше Министерство не уполномочены доставать ему «titre de travail»18…»
Вот почему я утверждаю, что все они спят и сидят не на своих местах! Во-первых, я не просил у них «titre de travail». Мне он на хуй не нужен, так как я пишу книги и собираюсь закончить дни свои именно в этом качестве. Во-вторых, ёбена мать, ведь я же не просто вербально им всё объяснил — Потэну и его секретарше. Я же им справки высылал, что я — свободной профессии, что всё, чего ищу — carte-de-séjour. И плюс всё это в моём письме на две страницы к министру изложено было, в октябре ещё 1983 года. Что ж они, бля, половину октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль и часть марта у меня за просто так, за здорово живёшь, по мелкой ошибочке спиздили! Не туда досье послали. Да чему ж вас учат, да за что вы наши деньги, которые мы вам в налогах выплачиваем, в говно бросаете… Вы что, читать не умеете? Эх ты, Потэн-Копэн… И вы, мсье министр, с таким количеством секретарш… Да я бы…
В нашем демократическом обществе ты не можешь все эти вполне здоровые гневные реакции выплеснуть в письме к ним. Потому я подавил себя (от подавления, говорят, и образуется у человека рак). Я написал им, что «мэрси за принятие участия. Держите меня, силь ву… в курсе того, что произойдёт в Министерстве d'Intérieur». Я только понял, что в запасе у меня времени нет. Что на них надеяться нельзя. Завтра следующее министерство примет меня за инвалида войны в Индокитае или за алжирского харки, просящего пенсию. Нужно решительные действия предпринимать. В другие места стучаться. Сел я за стол и составил список влиятельных знакомых. Позвонил по двум десяткам телефонов. Выяснил методом вычёркивания, что самый мой влиятельный знакомый — мсье (следует уважать, увы) Шарль Окотэ, большой человек в моём издательстве. То есть в котором издают мои книги. Не сам он влиятелен, но женат на дочери бывшего министра, сестре крупнейшей величины в правящей социалистической партии. Людям быть обязанным я не люблю. Просить о чём-то для меня — трагедия. Собрал, однако, всю свою, как бы это выразиться, наглость, внушив себе, что чего ж я прошу-то, в сущности, не денег, не работу, а всего-навсего бумажку от властей, чтобы властям же и показывать! Разницы им никакой. Если б я и в Нью-Йорке жил, книги мои всё равно бы печатали здесь. Разница только в их пользу. Доллары, и гульдены, и лиры — сюда текут… Так о чём же речь. Вдохновившись таким образом, позвонил я мсье Окотэ. Он человек положительный и добрый. Если и есть в нём что отрицательное, я не сумел, значит, увидеть, или он прячет хорошо. Я ещё его отца знал в Нью-Йорке, вот совпадение. Поговорил он с женой, и они меня пригласили на деловую встречу. На совместном заседании (супруга и я) было решено, что мадам Окотэ обратится за помощью к мадам Дэферр — оказывается, они не то в школе, не то в лицее вместе учились. В моём простом мозгу тогда не укладывалось ещё разделение функций, я подумал, почему нужно к мадам Дэферр, когда ближе бы к брату мадам Окотэ. Но спорить я не стал. Послушно подписал две своих книги и отправил их мадам Дэферр. В Советском Союзе, когда я там жил, во всяком случае, коррупция, на счастье простого человека, была эффективна и разветвлена. В демократии простому человеку трудно, ибо депутаты и начальники боятся ему помочь, проявить человеческие чувства. Узнает пресса — и деятель за то, что он помог простому человеку в жизни, лишится власти. Между тем коррупция — единственное средство борьбы с бесчеловечным законом. Я — за коррупцию. Сколько несчастных готовы заплатить, дабы избавиться от страданий, от которых никаким другим способом не избавиться. И скольким мелким чиновникам нужны деньги в хозяйстве — машину починить, окна сменить в résidence secondaire19, мало ли! Но демократия заставляет человека быть бесчеловечным…
Пока книги шли в Марсель. Пока мадам Окотэ контактировала с мадам Дэферр по телефону, кончилось моё récépissé. В грустном настроении сидел я, уже несколько дней как «нелегальный эмигрант», в одной весёлой компании, и сосед справа, наглый Рыжий художник, бывший советский матрос, сбежавший с корабля в Канаде, спросил меня, ухмыляясь:
— Что, старичок, невесел?
Обыкновенно я о себе не рассказываю, но ему взял и рассказал. И прибавил оптимистически, чтоб он не решил, что я жалобщик:
— Всё это, конечно, как-то устроится. Или Министерство культуры наконец добьётся мне carte-de-séjour, или вот мадам Дэферр…
— Глупый ты, старичок,— сказал он мне.— На хуй ты им нужен, этим большим людям? Они тебя в упор не видят. Ты для них — досье. Надо знакомого швейцара в министерстве иметь. Швейцар большей исполнительной властью обладает. Вот хочешь, я с тобой завтра пойду в префектуру и всё устрою? У меня там девка одна знакомая сидит в окошке. Хорошая французская девка из провинции. Я ей картинку подарил, сказал, что художник, переспал с ней пару раз, так я себе живу, забот не знаю…
Я встретился с ним в одиннадцать, и мы пришли в префектуру. Вместо того чтобы стать в общую толпу ожидающих входа в зал Норд-Эст, где обыкновенно толпы, он пошёл спокойненько к выходу из зала — к «лестнице» Эф. У закрытых дверей стояли два хорошо одетых чёрных.
— О, бля, тоже трюк знают,— заметил Рыжий с неудовольствием.— Сейчас, старичок, кто-нибудь выйдет, и мы войдём.
— Может быть, лучше через вход?..— предложил я робко.
— Ты что, охуел? Там час будешь стоять, два, а здесь пару минут максимум. Кто же входит во вход, а, старичок? Только глупые люди…
Я собирался ему ответить, но дверь отворилась, выпуская пару, и Рыжий схватился за дверь. Чёрные впереди, мы за ними, оказались внутри зала. Зал был набит битком.
— Ужас !— воскликнул я.— Столько людей! Проторчим до вечера…
— На хуй нам ждать, мы джентльмены,— засмеялся Рыжий.— Счас я найду Шанталь, и она всё сделает. Всё, что в её власти, во всяком случае.
В белой кофточке, большие серьги-креветки качаются с мочек ушей, Шанталь рассмотрела мои документы.
— Ça va20,— сказала она Рыжему, а не мне.— Я сделаю ему документ до июля, а в июле он придёт ко мне, и я попытаюсь сделать ему что-то более солидное.
— Согласен, старичок?— спросил Рыжий и, протянув руку в окошко, потрепал префектурную девушку по щеке.
— Artiste-peintre, ты забыл, что мы в общественном месте,— рассмеялась она и встала.— Они все такие там у вас в УэРэСэС?— обратилась она ко мне.
— Нет,— сказал я,— такие, как он — исключение.
— Я догадывалась. В следующий раз вы принесёте мне справку от percepteur21 о вашем финансовом положении, и я смогу…
…Она объяснила мне, кто такой percepteur и где его искать… Через сорок минут, когда мы вышли вместе с Шанталь в кафе на углу рю Сен-Жак, в кармане у меня уже лежал розовый документик récépissé. Акт коррупции был закреплён чашкой шоколада и сэндвичем «крок-мсье» для Шанталь, безалкогольный Рыжий съел сэндвич «жамбон», запивая его томатным соком, и только я выпил два бокала белого вина. Когда Шанталь ушла в префектуру, тяжело поколыхивая сильным телом, Рыжий сказал мне:
— Вот видишь, старичок, с низов надо начинать. Шарм использовать. Мы ж не негры какие-нибудь, симпатичные белые люди… Она замуж собирается. Правильно делает. Красавицей её назвать нельзя…
— Ты, что ли, красавец?— заметил я.
— Не, я не об её достоинствах, а о том, что работа в префектуре собачья… никакого юмору, старичок… Поверишь ли, я иногда захожу к ней просто попиздеть, развеселить её. Ей в деревне надо жить, чего она в город припёрлась…— Рыжий стал разворачивать свою теорию.
Пошёл дождь, и запотели вдруг стёкла кафе.
— Подаришь ей книжку,— приказал Рыжий, когда мы расходились.
В июне я получил письмо от «технического советника» Министерства d'Intérieur с сообщением, что он будет счастлив меня «принять 5-го июля в 15:30, бульвар де Пале, эскалье И с точкой. Вооружитесь паспортом, временным titre-de-séjour, тремя фото, доказательствами вашего адреса и ресурсов. Мадам Дэферр просила меня помочь вам, мсье». Подписана бумажка была фамилией… что-то вроде ПэТэТэ или Телеком…
У входа в номер 9 два вооружённых полицейских мою бумажку осмотрели. Сказали, чтоб во дворе я пошёл направо. Я, вдохновлённый их оружием, пошёл, куда сказали, к подъезду И с точкой, у входа в него за щитом из непробиваемого пластика стояла дама-полицейская в непробиваемом для пуль жилете и самец в таком же жилете. У них что-то намечалось. Они ждали высадки вражеского парашютного десанта? Мне захотелось пошутить, сказать что-нибудь остроумное, вроде: «Что, русские уже пришли?», но вспомнил, что с полицейскими при исполнении служебных обязанностей лучше не шутить.
— ПэТэТэ/Телеком?— вопросили они. И каждый обстоятельно прочёл бумагу мою, ни хуя в ней не поняв. Так мне показалось.
— Ты знаешь такого?— спросила дама самца.
Он лениво покачал головой. И они отдали мне бумагу…
— Что же мне делать?
— Войди, спроси,— лениво предложил пуленепробиваемый самец.
В демократии, разговаривая с вооружённым мужчиной, ты не имеешь права выругаться. На хуя же они отняли у меня мои пять минут, если… Я вошёл в подъезд И с точкой. Там были ещё дама и мужчина в полицейской форме плюс телефон. И эти тоже ничего не знали, то есть не знали, в какое бюро мне идти, распрекрасный ПэТэТэ/Телеком указал всё, кроме номера бюро. Я начал бормотать: «Мадам Дэферр… мадам Дэферр», желая смутить спокойствие пары, и, переглянувшись, они решили воспользоваться телефоном. Победа! Вскоре они услали меня на третий этаж в эскалаторе. На третьем по обе стороны от эскалатора я увидел две двери. Какая моя? Одна отворилась, и три типа вывели одного типа, не в наручниках, но явно арестованного. На его роже было написано, что он не свободный человек и ожидает от судьбы самого худшего. Мне тоже сделалось тошно, потому что я легко впечатляющийся человек. Бывший поэт, что вы хотите…
Я открыл другую дверь. Там оказался коридор и сидел на столе задницей бегемотище в цивильном костюме. Он заглянул в мою бумажку и оглядел меня подозрительно.
— Как вы сюда попали?
— Мадам Дэферр…— сказал я и развёл руками. Сделав такую физиономию, что она выглядела как восклицание — делать нечего, служба, мадам Дэферр заставила меня прийти, я тут ни при чем…
Бегемот посовещался с другим типом, тот пил из большой фарфоровой кружки дымящуюся жидкость, и набрал номер телефона. Затем другой номер. Ещё один. Я в панике подумал, что власть в Париже переменилась, произошёл переворот и всех сторонников мсье и мадам Дэферр будут «мочить», как некогда сторонников адмирала Колиньи. Иди, доказывай, что никогда не видел ни его, ни её. А что, бывает всякое…
Бегемот с отвращением положил наконец трубку.
— Шестой этаж,— сказал он.
— Гран мэрси. Гош, друат?22— Я попятился к выходу.
— Э, нет,— сказал он, движением корпуса приказывая мне стоять,— за вами придут. Нечего вам тут одному разгуливать…
Действительно, нечего таким, как я. Я был согласен. Чтобы не смотреть на него, я уставился в стену. Она была несколько подержанной стеной. Как и всё вокруг. Стол, на котором сидел бегемот, металлический, был, однако, процарапан мощно по всей длине, словно по нему провёл когтями крупный медведь. Непонятно было, в каких целях они используют это крыло министерства. Ясно, что к приёму посетителей они не были готовы.
В двери возникла в голубом шёлковом платье красивая молодая женщина.
— Вот!— воскликнул бегемот, кивнув в мою сторону опять всем корпусом, но теперь уже более дружелюбно.
Женщина улыбнулась мне.
— Бонжур, мсье,— и протянула руку за моей бумагой.— Можно?
— Мадам Дэферр…— сказал я.
Лицо шёлкового платья прояснялось по мере чтения. Как если бы она знала секретный код и прочла настоящее содержание письма в отличие от профанов, читавших его до сих пор.
— О, мсье,— воскликнула она,— вас ждут, следуйте за мной.
Тотчас же превратившись из представителя побеждённой фракции в личного друга жены их министра (так я себя вообразил), я победоносно взглянул на бегемота.
— Мерси, мсье!— бросил я с высокомерием, каковому научился у не любящего меня продавца в ликер-магазине «Николас» на рю Сент-Антуан. И прошёл в приготовленную мне дамой в платье щель.
На шестом этаже (в приёмной ПэТэТэ) царил неожиданно полумрак и горели слабые фонарики. Хитрейшая архитектура ступенчатых ширмочек, я так предположил, служила цели скрыть ожидающих приёма друг от друга. Шёлковое платье привела меня вглубь одного из загончиков и усадила.
— За вами придут,— сказала она ласково. Ничем не пахло.
Несмотря на их систему, за десяток минут ожидания я успел заметить энергичного типа в бежевом пальто, занявшего соседний со мной загончик. Не уверен, однако, что я сумел бы узнать его, встреть я его в толпе. Он закурил. Судя по запаху — трубку.
Я подумал, что меня передают из рук в руки, как Жюстин в «Злоключениях добродетели». Я вспомнил гравюру начала XIX века: иллюстрацию к «Злоключениям» — пирамида из голых тел. Я представил себе, что все полицейские и неполицейские выстраиваются в пирамиду, и она увенчивается мсье ПэТэТэ/Телеком с подносом на голове, и на подносе будет лежать carte-de-séjour privilegiere!!! Отвлёк меня от пирамиды брюнет в тёмном костюме. С кругами под глазами, бледный, он был столь великолепен, что я в дополнение к мгновенно мелькнувшей романтической догадке о том, что он поднялся ко мне из подвала, где пытал жертв, спросил его, вставая:
— Мсье ПэТэТэ?
— Нет, мсье,— ответствовал брюнет и улыбнулся.— Следуйте за мной, мсье!
Быстро, быстро, чуть не таща меня за руку по коридорам без окон, он втолкнул меня в обитую кожей дверь.
Женщина, похожая на мою маму, делила кабинет с женщиной, похожей на лягушку средних лет.
— Мсье Лимоноф?— вопросила женщина, похожая на мою маму.— Мсье ПэТэТэ отсутствует сегодня. Он поручил мне заняться вашим делом. Я приготовлю вам досье. Хорошо?— спросила она.
— Хорошо,— согласился я. Подумав, какое, бля, хамство. Вызывает, а самого дома нет.
— Садитесь, мсье,— сказала дама.— Вы принесли три фотографии?
Я всегда имею при себе фотографии. И я протянул ей свои, как всегда фотогеничные, три физиономии.
— Это очень gentil23 с вашей стороны,— сказала она.
Я выдал ей доказательства моих ресурсов, в том числе и сертификат от percepteur — она обрадовалась тому, что я плачу налоги. Я представил ей доказательство моего адреса — справку от квартирной хозяйки, и, о чудо, у неё оказалась та же фамилия, что и у моей квартирной хозяйки! Так как это была редкая фамилия, то похожая на мою маму дама была поражена. О своём изумлении она сообщила мне и женщине, похожей на лягушку средних лет. Я сообщил обеим кое-какие сведения о моей квартирной хозяйке: её приблизительный возраст, то, что юность свою она провела в Бельгийском Конго. Мы посвятили несколько минут Бельгийскому Конго. Дамы издали несколько восклицаний по поводу ужасов, которые пришлось пережить белому населению, я же с плохо скрываемым восторгом сделал несколько замечаний о прославленном «Пятом коммандо» и его шефе Майке Хоарэ. Увидев, что дамы министерства внутренних дел обменялись условными взглядами, я решительно закрыл кран моих страстей и молча поёрзал на сиденье. Однофамилица моей квартирной хозяйки не спеша проколола мои бумаги, заделала их в канцелярскую папку. Полюбовалась на папку.
— Ну вот, всё готово. Теперь у вас есть досье.— Закрыла папку…
— A carte-de-séjour?— спросил я робко, видя, что она мне ничего не протягивает, а лишь улыбается удовлетворённо. Как бы по окончании полностью проделанной работы.— Carte-de-séjour?
— Для этого вам придётся обратиться в префектуру,— сказала она.— Мы здесь, в министерстве внутренних дел, carte-de-séjour не выдаём. Это не входит в нашу компетенцию…
Я предполагаю, что физиономия моя позеленела от злости. Чего же стоит, бля, вмешательство жены министра внутренних дел? А сам мсье Президент, интересно, что, тоже не может дать carte-de-séjour? Остаётся только развести руками и воскликнуть: «Демократия!», вложив в это восклицание те же чувства, которые вкладывает русский рабочий в «ёб твою мать!» Демократия… Деньги берёте, мадам Французская Республика, в карман фартука кладёте (я представил Французскую Республику в виде злой консьержки), а документ не даёте!
Похожая на мою маму поняла, что мысли у меня нехорошие. Она сморщила лоб.
— Я попрошу, чтобы вас отвели в префектуру,— сказала она, приняв, очевидно, смелое личное решение. И она посмотрела на часы.— Я надеюсь, что мадам АБРАКАДАБРА… (так звучала фамилия, не уверен, что так же она и пишется) ещё не ушла. Я позвоню…
Мадам АБРАКАДАБРА была на месте. Моя мама вызвала старую знакомую — голубоплатьевую красавицу,— и мы спешно отбыли. Я предполагал, что мы спустимся и покинем подъезд И с точкой, но ничего подобного не случилось. Голубоплатьевая, колыхая бёдрами и платьем, повела меня по нескончаемым стеклянным террасам-переходам, где не было ни души. Один раз из-за угла на нас вышел угрюмый полицейский, ковыряя в носу. Мы шли, молча поглядывая друг на друга и улыбаясь. Если бы у меня была carte-de-séjour, я бы пошёл с ней далеко за горизонт, с этой красивой и, я думаю, прохладной, несмотря на пятое июля, женщиной, покинувшей возраст юности, но ещё не вступившей в возраст увядания…
*
Она ловко провела меня. Вошла в некую дверь, усадив меня на скамью у двери среди десятка иранцев, хорошо одетых в кожу, и нескольких наглых сытых поляков. Голубоплатьевая ушла, оставив моё красивое досье у АБРАКАДАБРЫ и сказав:
— Ждите, вас вызовут.
Лишь после четверти часа сидения на скамье я сообразил, что это первый этаж префектуры, эскалье эФ, где я уже был однажды.
— Эдуар!
Шанталь, девушка из префектуры, стояла, колыхая креветками в ушах. Мы расцеловались.
— Что ты тут делаешь, Эдуар?
— Жду. Моё досье только что принесли из Министерства д'Интерьер, эскалье И с точкой, сюда, к мадам АБРАКАДАБРЕ… А ты что тут делаешь… Ты же в зале Норд-Эст?
— На месяц переведена сюда. Такая у нас система. Подожди, я найду твоё досье.
Она появилась через несколько минут.
— Пошли, я сделаю тебе carte-de-séjour на год.
— На год! Погоди, я думаю, мне дадут на десять лет. Я был в Министерстве d'Intrieur, эскалье И с точкой, по рекомендации…— тут я задохнулся от гордости,— по рекомендации САМОЙ мадам Дэферр… смотри,— я протянул Шанталь бумагу, копию, оригинал у меня забрала похожая на мою маму.
— Ça va,— равнодушно сказала Шанталь, прочитав бумагу,— всё это хорошо, но здесь начальница мадам АБРАКАДАБРА. Как она скажет, так и будет. Я попытаюсь спросить её… Идём в бюро.
В бюро за полдюжиной столов расположился десяток префектурных девочек и чуть меньшее, чем в коридоре, количество иранцев и поляков. Усадив меня, Шанталь скрылась во внутренностях бюро. Вернулась через пару минут.
— Нет, невозможно. Процедура такова, что невозможно сразу после récépissé дать карту на десять лет. Следует получить карту на год, её можно будет продлить ещё на год…
— Но мадам Дэферр!— воскликнул я растерянно.— Получается, что вмешательство жены самого министра ничего не стоит. И ведь не министра химической промышленности, но именно Дэферра, кому вся эта машина подчинена…
— Несовпадение между политической властью и исполнительной властью…— констатировала Шанталь. И стала листать досье, приготовленное дамой, похожей на мою мать.— А, ты принёс сертификат от percepteur… Прекрасно! Слушай, я могла тебе дать carte-de-séjour на год без министров или их жён, поскольку теперь у тебя есть доказательство финансовых ресурсов…
Она продолжала ещё что-то бормотать, но я её уже не слушал, погрузившись в невесёлые мысли о структуре демократии.
Через четверть часа мне отпечатали carte-de-séjour, куда Шанталь, по собственному усмотрению, поставила профессию «писатель». «Дневник неудачника», который я передал ей с Рыжим, ей понравился.
Она проводила меня до лестницы. Поделилась со мной своим несчастьем. Мужик, много старше её, за которого она собиралась замуж, взял да и вернулся к бывшей жене. Поэтому надежда Шанталь на то, что она сможет оставить нервную и плохо оплачиваемую работу в префектуре, рухнула. И надежда на домик в провинции.
*
Я поблагодарил своего редактора и его жену мадам Окотэ за помощь. Я не сказал им, однако, что все их и мои манёвры за кулисами были в известном смысле бесполезны. Что, как скала, высится замок демократии, неприступный для коррупции, и даже жена министра не колышет суровое сердце мадам АБРАКАДАБРЫ и прочих рыцарей демократии. Я не сообщил им также, что тяжеловатая бретонская девушка с креветками в ушах, в белой блузке и с толстыми ногами из-под чёрной юбки обладает равной или, может быть, большей властью над судьбой иностранца, чем министр d'Intrieur или его жена. Мне не хотелось лезть с моими новоприобретёнными знаниями к мсье и мадам Окотэ, их разочаровывать. Они ведь честно желали помочь мне.
В декабре 1985 года я снова написал письмо министру культуры. Я просил помочь мне стать французским гражданином. Боевая кампания за гражданство была ещё более абсурдна, чем стычки за carte-de-séjour…
Я предполагаю, что мир выглядел бы для меня иначе, если бы не эта метафизическая пролетарская кепочка, приросшая к моей голове. Это она виновата, бля, я уверен.
1 Несиндикированный — то есть не принадлежащий к синдикатам (профсоюзам).
2 André Glucksmann — французский «новый философ».
3 Basement (англ.) — цокольный, подвальный или полуподвальный этаж.
4 Piece (франц.) — комната.
5 Palier (франц.) — лестничная площадка.
6 Tresor publique (франц.) — Государственное казначейство. Собирает во Франции налоги.
7 Sabots (франц.) — башмаки.
8 На рю Коньяк Джей помещается управление телевидения.
9 Gérant (франц.) — менеджер.
10 Carte-de-séjour (франц.) — документ на жительство для иностранцев.
11 Récépissé (франц.) — трёхмесячное разрешение на жительство.
12 «Conseilleur technique», «charge d'affaires» (франц.) — технический советник; управляющий делами.
13 De'jeuner (франц.) — завтрак.
14 Ah ! ça ira, ça ira, ça ira (франц.) — Первые строчки «Карманьолы», олицетворяющей революцию. [На самом деле это строчка не из «Карманьолы», а из песни, которая так и называется «Ah! ça ira»]
15 От con (франц.) — пизда — пиздюк из пиздюков.
16 C'est bien. C'est tres bien (франц.) — Это хорошо. Это очень хорошо.
17 Salarié (франц.) — жалованье, работник, получающий зарплату.
18 Titre de travail (франц.) — разрешение на работу.
19 Résidence secondaire (франц.) — вторая резиденция — загородный дом, дача.
20 Ça va (франц.) — Порядок. Хорошо.
21 Percepteur (франц.) — тот, кто собирает налоги.
22 Grand merci. Gauche, droite? (франц.) — Большое спасибо. Налево, направо?
23 Gentil (франц.) — любезно.
из сборника рассказов
«Монета Энди Уорхола» • 1990 год
Две с половиной строчки истории
В тот августовский день я покинул солнечный пентхауз моей богатой подруги вблизи Трокадеро в 12:30. Подруга сидела в ароматной пене, я поцеловал её, нагнувшись и, спустившись по отрезку лестницы, ведущей к входной двери, покинул шикарную жизнь. На тёмной лестничной площадке я сел в лифт с зеркалом, и пока он, солидный, полз десять этажей вниз, успел рассмотреть свою загорелую физиономию, белый пиджак и часть полосатых — бело-синих — брюк. Пиджак был мятый.
В Париже было жарко. Куда более жарко, чем на овеваемом ветрами пентхаузе с близкой Эйфелевой башней, глядящей на пентхауз в упор. Под Эйфелевой башней я чувствовал себя как в оперетте о парижской жизни. В Париже, полуденный, плавился асфальт. Он расступался и оседал даже под широкими каблуками моих брезентовых белых сапог (подарок богатой подруги). Мимо кладбища и цветочного магазина в стене кладбища я прошёл к станции метро и спустился под землю. «ПАНК — мёртв!» — категорически известили меня стёкшие вниз красные буквы на стене подземного перехода. В метро было гнусно и пыльно. В обычное время я бы пошёл в своё Марэ пешком, невзирая на расстояние, но я ехал домой работать. Лучшие утренние часы были безвозвратно потеряны, однако я мог ещё с успехом посидеть за машинкой несколько часов.
*
Взбегая по грязной лестнице на свой один с половиной этаж, я на ходу содрал с себя пиджак. Проходя мимо первой двери первого этажа — она скрывала общественный туалет, я вдохнул-таки, несмотря на предосторожность, порцию отравленного воздуха и мгновенно философически отметил громадное различие между жилищем на Трокадеро и моим. Открыв дверь в комнату, я сорвал с себя оставшиеся одежды и распахнул все три окна, выходящие на рю дэз Экуфф. Жаркие пары августовской улочки вплыли и смешались с не исчезающим никогда запахом старого человечьего гнезда, как будто нечто постоянно гнило в квартире, которую мсье Лимонов снимал у мадам Юпп. Год упорной борьбы с запахом закончился поражением мсье Лимонова.
Я набил кофеварку порцией кофе, посетил щель ванной, где пописал и оросил физиономию и шею холодной водой. Кофеварка зашумела, как паровоз, и, вылив содержимое в вечную керамическую чашку, я проследовал к круглому столу у окна, служащему мне столом рабочим. Я выдвинул на себя пишущую машину, вставил в неё свежий лист и, извлёкши из папки с надписью «НОВОЕ» рукопись, принялся перечитывать страницы, написанные накануне.
В момент, когда я допивал последние глотки кофе и искал первую фразу дня, с улицы донеслись звуки, чуждые рю дэз Экуфф, Парижу и Франции. Стреляли из автоматического оружия. Почему я умозаключил, что из автоматического? Нет, я не учился в военно-шпионской школе, но, когда я был мальчиком, отец — офицер советской армии — часто брал меня на учебные стрельбы. Напялив на ребёнка солдатскую гимнастёрку, папаша мчал меня в кузове открытого автомобиля, наполненного солдатами, туда, где палили очередями и одиночными. Так что я разбираюсь, из какого оружия. Запомнил.
Улица наполнилась молчаливым топаньем десятков бегущих ног и хлопаньем дверей. Ни единого крика. Только выстрелы, топот ног, хлопки дверей…
Я выглянул в окно. На рю де Розьерс стоял человек в запачканном кровью белом халате и смотрел вдоль улицы в сторону ресторана «Гольденберг». И видел он там, очевидно, нечто поразившее его, ибо он замахал руками и сделал несколько шагов в ту сторону. Шагов неохотных, как бы он сам не хотел туда идти, но не имел сил сопротивляться. Так жертва идёт к злодею-гипнотизёру.
*
…Из кошерного мясного магазина на рю дэз Экуфф (как раз расположенного на месте впадения в неё рю де Розьерс) выскочил второй тип в запачканном кровью белом халате и прыгнул на первого, повалив его на асфальт. Первый сопротивлялся, однако позволил увлечь себя в сторону магазина. Вдвоём мясники вползли в мясной магазин и закрыли дверь толстого стекла на металлический шпингалет внизу. И отползли в глубь магазина.
Так как выстрелы приближались, становились слышнее, то я счёл разумным извлечь голову из окна и, пригнувшись, опустился на корточки под окном, думая о том, что пули не возьмут толстую стену старого дома… Лишь бы «они» не догадались запустить в одно из трёх так соблазнительно распахнутых окон гранату. Однако писательское любопытство вскоре без особого труда пересилило соображения безопасности. Я встал с пола и, стараясь не показывать улице, «им» голову, выглянул. Улица была пуста. И только, может быть, через минуту выполз из-за кондитерской на углу и не торопясь прополз дальше по рю де Розьерс серый автомобиль. Направляясь в сторону рю Вьей дю Тампль. Как в фильме, запущенном с замедленной скоростью… Наступила тотальная тишина, какой никогда ещё не бывало на североафриканской улочке нашего еврейского местечка в Париже.
Я, путаясь в штанинах, натянул армейские американские брюки и сержантскую «Аэрфорс»-куртку и выбежал на улицу. У ворот робко прижимались к стене консьержка — мадам Сафарьян — и пожилой коротыш — хозяин соседнего «Алиментасьен»1. Обогнув кондитерскую, я увидел в перспективе рю де Розьерc несколько человеческих существ. Я пошёл к ним. Ближайшим навстречу мне шёл крупный тип в резиновых, салатного цвета сапогах, в кепке и синем комбинезоне. Брюки его в области обеих ляжек были обильно забрызганы тёмной жидкостью. Поравнявшись со мной, он резко повернулся и ушёл в обратном направлении.
Там, где рю де Розьерc и впадающая в неё рю Фердинанд Дюваль создают небольшую асфальтовую площадь, на противоположной от ресторана «Гольденберг» стороне лежал (голова и плечи на тротуаре, тело на проезжей части) мужчина. В бежевых брюках и голубой рубашке. Насколько можно было судить по его тяжёлой комплекции и серо-седому затылку, ему было лет пятьдесят. Согласно стандартам гангстерских фильмов, тёмные три пятна цепочкой пересекали спину мужчины по диагонали. Расплывшись, пятна почти слились в линию. Рядом с головой человека на тротуаре было крупное темнокрасное пятно, как если бы на мостовую выплеснули масляную краску. Ещё несколько пятен такого же цвета и качества покрывали тротуар у входа в «Гольденберг».
Я обратился к себе и понял, что я ничего не чувствую. Ни ужаса, ни страха, ни отвращения. Передо мной, судя по всему, лежал труп, а я преспокойненько глядел на него и рассуждал про себя о том, что кровь, быстро свернувшаяся в августовской жаре, меня совсем не впечатляет, что она смотрится слоем краски, выплеснутой по тротуару. Что она, по сути дела, вовсе не красная, но бурая. Задумавшись о причинах своей бесчувственности, я обвинил ежевечерние документальные журналы. Тысячи убитых в автокатастрофах, землетрясениях, в ирано-иракской войне — увиденные на экране телекровавости полностью атрофировали моё чувствование, банализировали для меня труп. В дотелевизионную эпоху нормальному человеку, не солдату, доводилось увидеть мёртвых (если не было войны) лишь несколько раз в жизни. Посему в ту эпоху трупы впечатляли и потрясали.
Подобных мне мужественных любопытных находилось на площади уже с десяток. Ещё одно тело, в белом халате, джинсы и сникерсы торчали из-под халата, лежало на спине у самого входа в «Гольденберг». В области живота халат был густокрасен. Некто в белой рубашке и светлых брюках стоял на коленях над телом и разговаривал с ним. Тело двигало губами, но звуков не было слышно. Человек на коленях согнулся ниже, едва не ложась на тело. Я подошёл совсем близко и вгляделся в обширную красноту живота. Очевидно, по меньшей мере пара пуль, если не пара осколков гранаты, прошили живот, так как постоянно прибывающая кровь не успевала свёртываться, и мокрое кровавое болотце живота колыхалось и дёргалось. Я проверил свои реакции. Ничего. Показанная по теле крупным планом оторванная в автокатастрофе на альпийском шоссе рука впечатлила меня, помню, куда сильнее.
Отряд мужчин-смельчаков пробежал в перспективу рю Фердинанд Дюваль.
— Они забежали в тот двор… Я видела…— Стоящая в окне второго этажа полуодетая толстуха нервно руководила действиями добровольцев. Взвизгнув тормозами, первый полицейский автомобиль остановился с бесполезной поспешностью. Молодой полицейский с растерянным лицом нервно щёлкнул затвором чёрного тупорылого автомата и заметался по площади среди населения, нас уже было пара дюжин. Его напарник, револьвер в руке, склонился над телом, лежащим у входа в ресторан.
Витрина «Гольденберга», выходящая на Фердинанд Дюваль, была вскрыта. Осыпавшиеся стекла обнажали нетронутые, целёхонькие товары, выставленные в витрине. Несколько мгновений меня мучил соблазн, достойный мародёра, проходящего по полю сражения: мне захотелось вытащить из витрины банку советской икры! Синяя банка такая, я знал, вмещает в себя около двух килограммов. А если она пустая? Или схватить пару бутылок польской водки. Однако я не был уверен, что мне удастся остаться незамеченным. Могут и избить до полусмерти в такой нервной ситуации. Я вздохнул и поддел носком сникерса короткую латунную гильзу, лежащую среди осколков стекла на тротуаре. Подобрать гильзу на память? Я наклонился.
— Ne touchez á rien!2— Уже не растерянный, но злой полицейский с автоматом метнулся ко мне. Я благоразумно шагнул в сгустившуюся толпу.
Прибыли ещё несколько полицейских автомобилей. Полицейские «духарились» (так называли подобное поведение во времена моей ранней юности на воровском жаргоне Харькова), то есть: клацали затворами, бежали в разных направлениях, свирепо корёжили физиономии. Махали после драки кулаками, одним словом. Преступники явно не находились здесь на рю де Розьерс, дожидаясь встречи с полицейскими, дураку было ясно. Нужно было преследовать преступников, а не «выступать» перед населением.
Юноша, очевидно сын убитого в синей рубашке, бесцельно бродил вокруг трупа, волоча ноги. Время от времени он вдруг вскрикивал: «Папа! Папа!» — и подпрыгивал высоко вверх. Подпрыгивал странным, никогда не виданным мною образом: его руки и ноги первыми устремлялись в воздух, а спина в момент прыжка была горизонтальна, то есть параллельна тротуару, нарушая в шоке все нормальные законы притяжения. Прыжки юноши поразили меня своей неестественностью.
Кровь же и смерть так и не произвели на меня никакого впечатления. Я чувствовал себя так, как будто находился на киносъёмочной площадке. Снимали гангстерский фильм. Или фильм о террористическом покушении. Статисты, одетые жителями картье и полицейскими, наполнили площадь после того, как отсняли уже главных героев, одетых террористами.
Перебираясь всякий раз через тело с простреленным животом,— очевидно, парня нельзя было передвинуть,— из ресторана стали выходить люди. Оправившись от испуга, рыдали, расслабившись, женщины. Одежды большинства выходящих были в тёмных пятнах. Я предположил было, что все они ранены, что это кровь, но, присмотревшись и принюхавшись, определил, что вино из расколотых бутылок и бокалов обрызгало посетителей. Отличить кровь от вина не было никакой возможности. Ноги большинства женщин, заметил я, были в порезах. Очевидно, все они бросились на пол, ища защиты от пуль. Повиснув на плече полицейского, плакала навзрыд рослая блондинка с красивыми ногами.
Я отошёл к стене между еврейской парикмахерской и магазином подержанных книг и обозрел общий план. Передо мной свежая, тёплая, ещё не остывшая, только что совершилась история. Эпизод истории. Несколько её строчек по меньшей мере. Две с половиной. Хотя бы по поводу присутствия при историческом событии. Трепета не было… Жители картье вокруг меня яростно кричали, обмениваясь впечатлениями по поводу национальной принадлежности террористов. Жители еврейского гетто, они не сомневались, что террористы — арабы. Палестинцы. Организация освобождения Палестины. Они сжимали кулаки, волновались, кричали и взывали к отмщению. Я же подумал о том, что если Израилю можно каждый день бомбить Бейрут,— проходя мимо газетного стенда, я видел цифру жертв последнего налёта — более 200 человек,— то по той же логике нормальным явлением можно считать нападение на еврейский ресторан в Марэ. Плакаты на стенах нашего еврейского автономного аррондисмана демонстрируют не только голубые Давидовы звезды, что нормально, но и восхваляют иностранную державу и её лидера. «Да здравствует Израиль! Да здравствует Менахем Бегин!» Я уверен, что, если вывесить в таком же количестве плакаты с текстами: «Да здравствует СССР! Да здравствует компартия СССР!»,— такие плакаты вызовут протест французского населения и негодование мэрии и полиции. Их живо соскоблят со стен.
Придавленный всё более яростной толпой к стене, я почувствовал себя белым человеком в ближневосточном городе, присутствующим при возникновении народного бунта, при первых его колебаниях… Бегали, расталкивая толпу, всё ещё глядя вверх, на окна, непрофессионально нервные полицейские. Из парикмахерской вынесли стул, и тип в резиновых сапогах, оказалось, что у него навылет прострелены обе ляжки, теперь сидел на стуле, рядом с полицейским автомобилем, посередине площади. Двое юношей — друзья подпрыгивающего юноши — скрутили шокированного и увели с площади. Вокруг, куда ни глянь, видны были открытые рты, синие от ближневосточной щетины щеки, бороды… Рядом со мной плотный лысый тип с бородой и в рубашке с короткими рукавами закричал: «Миттеран — assassin!»3 Десяток голосов последовали его примеру, и «Миттеран — assassin!» повисло на несколько минут над площадью. Нестерпимо завывая сиреной, продвинулась сквозь толпу амбулянс «САМЮ». Над головами проплыли к «Гольденбергу» носилки.
— Араб… араб… он араб…— сказали вокруг.
— Араб — рабочий магазина,— пояснил мне животастый толстый старик в залоснившемся от старости сером костюме.— Тот, у которого разворочен живот гранатой,— араб…
Стали дискутировать гранаты. Якобы «они» бросили гранаты в ресторан.
— Кто «они»?— пытался добиться у толпы турист-американец; через несколько тел от меня, выше толпы на голову, он поднимал фотографическую камеру, безостановочно снимая происходящее.
— Палестинцы — дети шакалов, кто ещё,— закричал животастый старик.
Услышавшие его реплику соседи закричали, что да, да. Все были уверены, что это палестинцы.
— Может быть, ливанцы?— стесняясь своего плохого французского, предположил я.
— Ливанцы?— Животастый был удивлён. Он пожал плечами.— Зачем? Ливанцы наши союзники…
— Христиане да,— заметил я,— но ливанцы-мусульмане?
— Они все подлые, вне зависимости от их религии,— арабы…— закричал стоящий ко мне спиной тип, к которому я не обращался.— Я жил в Сирии… прежде чем дать вам шишкебаб, шашлычник засовывает шампур себе в задницу… измажет дерьмом, чтобы испачкать вас, потому что вы не араб!— Тип обернулся, бледно-оливковый, обильно волосатый, потное лицо, он был похож, костлявый, на кинематографического пророка по ярости, исходящей из глаз, от размётанных волос, из глубоких морщин оливковой кожи.
Неприличие аргумента поразило меня больше, чем его явная абсурдность. Сирийский шашлычник, вызванный к жизни для обоснования гипотезы о злобности арабской нации, должен был быть обладателем экстраординарно прочной прямой кишки — операция втыкания шампура в задний проход, должно быть, болезненная операция. Эти люди живут в Париже словно в раскалённых песках у Мёртвого моря, эти люди… с их логикой. Их нестеснительные древние отношения с экскрементами… На Советском Востоке самым сильным ругательством считается: «Я насрал на могилу твоего отца!»
— Как вы можете говорить такие… такие глупости!— обратился я к спине типа.
— Merde!4— закричал он, оборачиваясь.— Ты американец, как я понимаю?
— Американец,— согласился я, покосившись на настоящего американца с фотоаппаратом. Тот исчез.
— Вы наивные люди там у себя в Америке, вы — дети… Вы не понимаете подлой сущности арабской нации, не понимаете психологии Ближнего Востока… Вы слишком спокойно и хорошо живёте… Вы…
— О'кей, о'кей,— согласился я поспешно, увидев, что он сжал кулаки,— живите и вы как хотите, это не моё дело, но в вашего сирийца, никогда не забывающего сунуть шампур в задницу, едва только он завидит иностранца, я не верю…
Он не успел ответить мне, так как появились сразу два министра правительства: министр внутренних дел и министр юстиции. Толпа удивительно дружно закричала: «Миттеран — assassin! Миттеран — assassin!», и кудлатый, отвлёкшись от меня, закричал со всеми. Так как я явно не разделял их сгущающихся страстей, я стал выбираться по рю де Розьерс к дому.
— Вы видели убитых, мсье Лимоноф?— спросила меня консьержка.
— Видел, мадам. Одного убитого и одного тяжелораненого.
— Ой-йой-йой!— воскликнула мадам Сафарьян. Её старшая дочь улыбнулась мне из глубины помещения.
У себя в квартире я закрыл все окна и сел работать. Однако сосредоточиться мне так и не удалось, ибо прилегающие улицы были постепенно залиты толпой и пытающимися ограничить толпу полицейскими. Прямо под моими окнами объявился, по всей вероятности, местный (я так решил) и, по вероятности, уважаемый за что-то евреями араб с газетой в руках (фотография жертв последнего налёта израильской авиации на Бейрут на первой странице) и, размахивая этой газетой, стал кричать на наших евреев, а они на него. Молодёжь нашей улицы рвалась избить араба, но молодёжь удерживали старики. Возможно также, что тип с газетой был не араб, но «левый» еврей-диссидент? Ведь евреи и арабы так похожи. Особенно похожи на арабов евреи — выходцы из Северной Африки.
Мне позвонили один за другим услышавшие уже о случившемся по радио несколько приятелей, и, открывая окно, я выставлял телефонную трубку на рю дэз Экуфф, давая им послушать шум разъярённой толпы — шум истории. Я чувствовал себя избранным, ибо в их нормальных районах никогда ничего исторического не случается… Каждые несколько минут в людскую реку въезжали или из неё выезжали, противно визжа, ambulances5 и полицейские автомобили. Стали один за другим прибывать официальные лица — считавшие своим долгом (долгом своих организаций) выразить соболезнование коммюнити, пострадавшему от террористического акта. Выглянув в очередной раз в окно, я сумел увидеть крепкую, как хороший породистый камень мостовой, крышку черепа Ширака. Ширак вынужденно прошёл, а не проехал по рю дэз Экуфф к рю де Розьерс.
Толпа не разошлась и продолжала кричать и в два часа ночи. Я удалился в спальню, окна её выходили во двор, и лёг, выключив свет, в постель. Однако заснуть я не смог и лежал ворочаясь, размышляя о еврейской и арабской нациях, о Ближнем Востоке и его слишком страстных, на мой взгляд, нравах. Я обнаружил, что я потрясён внезапно открывшейся мне в гротескно-неправдоподобной истории о шашлычнике особой чувственностью Ближнего Востока. Потрясён желудочно-кишечной ненавистью народов этой части глобуса. Ненавистью, родившейся тысячи лет тому назад, когда безбородые египтяне и бородатые ассирийцы подгоняли бичами еврейских рабов, и те, отводя в раскалённый песок пламенные чёрные глаза, клялись отомстить «им» однажды за всё… И отомстили. В 1948-м, 1967-м, 1973-м и 1982-м… Сегодня на парижский асфальт выплеснулись лишь брызги пенной свирепой распри народов полупустыни, вражды, протянувшейся через пять тысяч лет. Народ Христа, Маркса, Фрейда, Эйнштейна… я представил себе, как еврейский народ, персонифицированный одним человеком — смесью четырёх вышеназванных,— рыча, ударяет сверхсовременной авиадубиной по Бейруту, а в Париже в его тёплую спокойную задницу вдруг вгрызаются арабские зубы…
Нам не понять их ненависти? Ненависть белых северных людей куда моложе и потому легче? Русские после такой войны не ненавидят германцев. Нет, не ненавидят. Французские солдаты совершают военные манёвры с немецкими солдатами… Я не судья народам, но на своё мнение права ни у кого не спрашиваю… Может, жара и песок подталкивают к пролитию крови, и они же невыносимо разогревают тела, превращая их в кипящие чувствами, кровью, дерьмом и желчью кастрюли… Поймав себя на неприязненном понимании ближневосточных наций, я, как подобает честному интеллигенту умственного труда, задумался, вперившись в темноту спальни, о противоположном явлении — о холодности северных наций (к ним я отношу и русских). Как должны себя вести нации? Я так и не сумел сформулировать общеидеальное поведение, ворочаясь на своём ложе. Может, это мы бесчувственно-безразличны: русские и французы, а их взаимная ненависть нормальна, и сирийский шашлычник не выдумка?..
1 Alimentación (франц.) — магазин еды.
2 Ne touchez á rien! (франц.) — Ничего не трогать!
3 Assassin (франц.) — убийца.
4 Merde! (франц.) — Говно!
5 Ambulances (франц.) — автомобили скорой помощи.
из сборника рассказов
«Монета Энди Уорхола» • 1990 год
Смотрины
Я был в ссоре со своей подругой, и они решили устроить мне женщину. Они хотели, чтобы я наконец прочно устроился, подобно им. Они верили, что они сами устроены надолго и очень хорошо.
— Мы за тобой заедем, старичок,— сказал Рыжий.— Что ты всё сидишь один, когда вокруг происходит такая интенсивная социально-половая жизнь. Хочешь, я познакомлю тебя с подругой Адрианы — итальянкой, динамит, а не женщина. Всех знает, всех, старичок… весь Париж!
В моем разочарованном и усталом воображении возникло существо вроде Софи Лорен, и, хотя я не в восторге от её носа и мушкетёрских ног, я позволил себе соблазниться.
— ОК, я согласен. Когда?
— Ну когда, старичок… хоть завтра. Такая женщина, динамит, итальянка… Всех знает, весь Париж…
— На кой мне весь Париж?— заметил я. Не для того, чтобы противоречить Рыжему, но чтобы избавиться от третьего и четвёртого упоминания о том, что итальянка всех знает. С Рыжим это бывает, он вдруг впадает в транс, становится косноязычен, повторяет одно и то же. К тому же общение с Парижем — идея фикс Рыжего. Мы с ним расходимся во мнениях по вопросу о том, как следует покорять Париж. Он считает, что следует с ним общаться, я считаю, что работа — писательство и изготовление tableau1 — приведёт нас к покорению. Рыжий не отрицает важности работы, но на самое важное место все же ставит физическое общение. Я считаю, что он суетен.
Они просигналили мне с мёртвой в воскресенье рю де Тюренн. Я спустился. Рыжий был за рулём, его дюшесса — рядом. Я поздоровался с дюшессой — мягко сжал её руку, выставленную в окно автомобиля, и только после этого сел на заднее сиденье.
— Ça va, Эдуар?— Дюшесса повернулась ко мне приветливой физиономией.
Неумная, но приветливая и не злая, длинноногая и худая дюшесса была ОК. Я относил её в категорию личностей ОК. Если пропускать мимо ушей её обыкновенно не выходящие за пределы простой вежливости глупости, то она вполне выносима. Дюк не развёлся с дюшессой, но, вырастив с нею до степени взрослости трёх детей, взял себе полную свободу и дал свободу ей. Она использовала свободу, чтобы найти Рыжего и встречаться с ним в дуплексе на авеню Фош, пришагивая туда с расстояния триста метров из Главной Квартиры номер Один на той же авеню Фош. Дюк жил в другой стране и, может быть, даже на другом глобусе. Я посетил дуплекс и Рыжего с дюшессой несколько раз. Я даже знаком с одним сыном дюшессы, красивым юношей, по виду гомосексуалистом, живущим в квартире номер Один.
— Мариэлла очень хорошая женщина,— сказала дюшесса.
Рыжий мчал нас по бульвару Бомарше к Бастилии, в то время как нам нужно бы в направлении Конкорд. Почему? Я не спросил его.
— Она всех знает, старичок, весь Париж…— Рыжий воспользовался случаем, чтобы проиграть свой лейтмотив.
— Я уже знаю, что она всех знает.
— Вы пишете что-нибудь сейчас, Эдуар?— спросила вежливая дюшесса.
— Всегда… Это мой хлеб.
— Над чем именно вы сейчас работаете?
«Вольва», смахивающая на «ситроэн», приятно пахла новой кожей сидений — автомобиль был новенький, дюшесса специально приобрела его, чтобы выезжать с Рыжим. На вопросы дюшессы, такие же приличные и умеренные, как «Вольва», не следовало обижаться. За неделю до этого дюшесса уже задавала мне их. Она задавала мне их же в каждую встречу. Мои ответы, очевидно, легко, без затруднений проходили сквозь её пустую и светлую голову. Входили, я предполагаю, в лоб над её большими, как у антилопы, шоколадными глазами с плёнкой подрисованных чёрным век, ходящих по их поверхности, и… свободно выходили сзади, через благопристойный шиньон шоколадных же, но с краснотой (цвет шкафа в квартире моей мамы в Харькове) волос. «Великолепная женщина, дюшесса»,— подумал я и решил её чуть-чуть припугнуть. Из хулиганства.
— В настоящее время я просматриваю перевод моей книги, романа о профессиональном садисте. Книга выйдет в издательстве «Рамзэй».
— Сади?..
— Садист, Адриана,— тот, кто получает удовольствие от чужих страданий. Гы-гы… Мы должны с тобой попробовать… Я привяжу тебя к кровати и плёткой — взы! взы!— Рыжий довольно загыгыкал в недельного возраста рыжую бороду и даже отпустил руль. Мы свернули с Бастилии на рю Сент-Антуан. Ну и маршрут он избрал.
— Егор…— Дюшесса проглотила слюну. Я не могу знать, что они делают в постели, но предполагаю, что дюшесса нормальнейшая женщина, и какие-либо усложнения секса способны испугать её, и только. Новшества не должны нравиться этой вполне консервативной даме.— Нельзя говорить такие вещи…— Дюшесса стеснительно оглянулась на меня.
— Эдик свой человек…— Поглядев на меня в зеркало, Рыжий бросил мне по-русски: — Боится, блядь такая, что шкурку испорчу… Га-га-га!
Несмотря на то, что Рыжий никогда не пропускает возможности продемонстрировать свою грубость по отношению к дюшессе и даже подчеркнуть, что он её использует, я уверен, что Рыжий по-своему любит свою дюшессу. Раз в полгода они обязательно ссорятся «навсегда», не встречаются, он грозится забрать у «Адрианихи» часть своих картин (часть картин куплена ею, часть подарена им), но странная пара — бывший советский матрос и дюшесса — существует вот уже несколько лет и не распадается. Может быть, каждый из них был мечтой партнёра?
Дюшессу не выбить из её вежливости.
— И ваша работа, надеюсь, продвигается успешно?
Она вновь приветливо обернулась ко мне. Ни тени иронии во взгляде. Париж, тёмный, холодный за окнами «Вольвы», неприветливый Париж ноября бежал, летел, мазал нас по лицам.
— Моя работа продвигается…— я решил перейти на роботическо-машинный, приветливый язык дюшессы,— …продвигается очень успешно. Недавно я подвергся фотографированию в костюме садиста с голой девушкой и двумя голыми девушками в качестве жертв…
— Га-га-га… Нельзя ли и мне подвергнуться фотографированию в таком обществе?— Рыжий — весёлый тип, всегда гогочет. Отчасти именно поэтому я с ним и дружу.
Дюшесса покосилась на Рыжего. Затем на меня. Я уловил в её взгляде настоящий, слабо прикрытый испуг. Рыжий художник, бывший советский матрос, богема, похожий на Ван-Гога,— все это «Ça va», все эти странности одобрены фильмами и книгами, в них дюшесса может участвовать, она себе разрешает их, и они, как специи, придают жизни дюшессы острый вкус. Вот уже год она сама занимается живописью — пишет под руководством Рыжего фрукты — груши и яблоки. Но садизм, садисты — её тревожат. Взгляд честной неумной женщины не врёт.
Находясь в тревожном состоянии, она способна задать нормальный вопрос.
— Что такое костюм садиста, Эдуар?
— Кожаная одежда с металлическими шипами. Браслеты, кэш-сэкс из кожи с шипами, чёрные сапоги до колен, кожаная чёрная фуражка, разнообразные плётки…
— А на хуя тебе такие фото, старичок?— спросил Рыжий со здоровым интересом.
— Первоначально фотографии предназначались для service de presse2, но, когда работа была проделана, выяснилось, что практически невозможно опубликовать такие фотографии в популярных французских журналах. Слишком dur3, говорят, читатель, мол, испугается и не купит книгу. Идея принадлежит мне…
Мы безуспешно жали на кнопку интеркома в тёмном холле дома на рю Вашингтон. Нам никто не отвечал, и двери не отворялись. Оставив меня в холле, Рыжий в шапке кубанке с советской звездой и Адриана в длинношёрстой шубе отправились звонить динамит-итальянке из кафе.
Их долго не было. Как позже выяснилось, операция затянулась по причине того, что дюшесса не взяла с собой телефонную книжку и, о невероятность, не могла долгое время вспомнить спеллинг фамилии подруги! Когда контактированная всё же итальянка (оказалось, она не знала, что интерком вышел из строя!) спустилась открыть нам двери, дюшесса и Рыжий ещё не дошли из кафе.
Я увидел, как маленькая сухая старушка в полосатом домашнем халатике с широкими рукавами боязливо отворила дверь и, помедлив, вышла в холл. Увидев незнакомца в слишком коротком и слишком хулиганском плаще, в слишком узких брюках, подстриженного а ля скинхэд (плюс я был без очков), она было сделала боязливое па назад, за прикрытые двери, но быстро оправилась, огляделась и, не найдя в холле своих друзей, подошла к почтовым ящикам на стене. Завозилась с замком… Мне и в голову не пришло, что это хвалёная динамит-итальянка. А ей, очевидно, в голову не пришло, что скинхэд — друг её друзей. Обещанный ей мужчина.
Вошли дюшесса и Рыжий.
— Мариэлла, дорогая!
— Адриана, шэри… я ужасно извиняюсь. Gérant4…
— Вашему gérant следует оторвать яйца,— воскликнул Рыжий.
— Познакомьтесь… Мариэлла Перронни… Эдуар…
Старушка, она же динамит-итальянка, подала мне сухую ручку. Я вежливо коснулся её. В момент, когда все мы, войдя наконец во внутренности дома, направились к лифту, я, отстав от дам, врезал Рыжего локтем…
— Ты чего, старичок?
— Динамит-итальянка, бля… она же старая пизда. Ты рехнулся, Рыжий? Ты говорил — «девка-итальянка»?! Прабабушка!!!
— Старичок, ты ни хуя не понимаешь. Она очень известна в Париже. Она так блядует! Партузит! С очень известными людьми…
*
Лифт был крошечный, встроенный в старое буржуазное гнездо, для него не предназначенное, позднее. Потому, уступив дамам место в подъёмном ящике, мы с Рыжим стали подниматься, переругиваясь, по красной ковровой дорожке.
— В полосатом халатике!..
— Старичок, ты что, неграмотный? Это же фирменное платье, Соня Рикель!
— Ей шестьдесят пять или семьдесят, Рыжий?
— Старичок, зачем тебе глупые молодые девки, на которых ещё и нужно тратить деньги… Мариэлла тебя со всеми познакомит. Завяжешь контакты…
— Я знаком со всеми, с кем необходимо. С моими издателями я уже знаком…
*
Наверху находился, оказалось, антикварный бутик, специализирующийся по хрусталю и стеклу. Ещё квартиру динамит-итальянки возможно было сравнить с музеем. Стенды и шкафы наполняли её. Уставленные вазами, сосудами, вазочками, всевозможными лампами. Ловко подсвеченные снизу, сверху или сбоку, произведения искусства впечатляли. Лишь отсутствие табличек с названиями объектов и местами их обнаружения отличали квартиру динамит-итальянки от музея… Передвигаться по такой квартире следовало очень осторожно. Я представил себе пару рискованных ситуаций: предположим, хозяйка привела к себе пьяного мужчину. Или сама вдруг выпила лишнего. Одно лишь слишком вольное движение рукой ли, плечом ли — и сваленная ваза заденет, падая, другие вазы, другие полки, и зелёное, матовое и чёрное великолепие начнёт рушиться, колоться, падать… Катастрофа! Я представил свою подругу Наташку (это с ней я находился в ссоре), даже у не пьяной у неё плохая координация движений, в такой квартирке. Да она же, пройдя один раз счастливо между хрупкой посудой этой и ничего не задев, второй раз точно заденет хотя бы одну вазу. А если представить себе, что Наташка возвращается в такую квартирку в шесть утра из кабаре, навеселе… Десяток ваз будут расколоты! В момент же ссоры, о, если бы мы жили в окружении такого количества удобных для разбития предметов, она бы их все расколотила мне назло!!!
*
Часть её гостиной была окрашена в тёмный блу, и углом, просторный, занимал эту часть бар. Мы уселись — дюшесса, Рыжий и я — по внешнюю сторону бара, а динамит-старушка, хозяйкой, заняла внутреннее пространство. Я запросил виски. Виски было подано лучшего качества.
— Эдуар долго жил в Америке,— пояснила дюшесса.
Я хотел было возразить, что далеко не все пьющие виски на этой планете обязательно побывали в Америке, но, вспомнив, с кем имею дело, вздохнул и решил подчиниться общей глупости вечера и вытерпеть всю программу — включая старушку. На память мне пришла почему-то фраза Уайльда: «Он, кто хочет быть свободен, must not conform», и я вздохнул ещё раз. Экстремистские советы великих людей прошлого хороши теоретически. Must not — не должен… Я мог уйти, опорожнив стакан с виски, что подумает старушка-динамит, мне было безразлично, жалко мне её не было… Она не всегда была старушкой, и, если верить сообщению Рыжего, не остаётся без удовольствий и в нашу эпоху, «партузит», как выразился Рыжий… то есть участвует в похожих на банные, негигиеничных скоплениях человеческих существ с целью общего секса… Однако, если я уйду, я обижу Рыжего. А Рыжий — друг. Он честно старался, организовывал обед. И дюшессу, пусть и глупую женщину, мне не хотелось обидеть. Она старалась, и они ехали за мной через Париж…
Между тем дюшесса гладила зелёную вазу — новое приобретение синьоры Перронни.
— У моей сестры есть подобная…
— Не может быть, Адриана,— возразила старушка-динамит.— Эта существует в одном экземпляре. Я охотилась за нею несколько лет.
— Хм… Не может быть, чтобы я перепутала…— Дюшесса перевернула вазу и постучала по дну.— Это ведь…
— Скушно тебе, старичок, да?— Рыжий спрыгнул с высокого стула и, обойдя дюшессу, приблизился ко мне. Бокал красного виноградного сока в руке.
— Ни хуя, потерплю…— Мне было стыдно.
— Обед будет хороший. Она так готовит!..— Рыжий причмокнул.— После обеда ты должен за ней приударить.
— У меня на неё не встанет,— сказал я,— предупреждаю. Я не выношу морщин.
— У самого у тебя, старичок, седые волосы, между прочим. И много. Тебе никто об этом не говорил?
— Прекрасно отдаю себе отчёт. Каждое утро вижу себя в зеркале. Но мой женский идеал — молодая женщина. Имею право или нет?
— Имеешь. Ебать, может, оно и лучше молодых, но иметь отношения лучше с опытной женщиной…
— Скажи уж прямо — с богатой женщиной…
— А я и не скрываю своих пристрастий, старичок. Бедность не порок, как говаривали наши деды, но большое свинство.— Рыжий загоготал.— Прожив первые двадцать один год своей жизни в говне, я дал себе слово прожить все оставшиеся годы как можно комфортабельнее.
— Когда в Канаде с корабля сбежал, дал слово?
— В Канаде,— подтвердил он.— Когда плыл к берегу.
— Согласно твоим собственным рассказам, ты ещё долгие годы в говне жил. И в Канаде, и в Штатах, и даже во Франции…
— Не всё, старичок, нам сразу удаётся, но нужно стремиться, стремиться!
Принципы у Рыжего ущербные. Но, к счастью, он не следует букве своих принципов. Лишь духу их. Рыжий, например, охраняет свою независимость от дюшессы зубами и когтями. Он защитил некомфортабельную студию на рю Беоти, где он пишет картины и куда дюшесса имеет ограниченный доступ. Помимо функции храма творчества, студия исполняет функции храма случайной любви — Рыжий затаскивает в студию случайных женщин. Среди начатых картин он соблазняет их, зачастую одновременно снимая сцену соблазнения неподвижной видеокамерой, скрытой среди холстов…
— Вам нравятся картины Егора?— спросила хозяйка, потупив взор.
Первый контакт. Если я не совершил первого шага, то, выждав разумное количество времени, его совершила она. Совсем невинный вопрос прозвучал как бы: «А вы собираетесь пойти со мной в постель?»
— Разумеется, мне нравятся яркие и живые работы моего друга,— ответил я, не решив, пойти ли мне в постель со старушкой или нет. Сколько же ей на самом деле лет? Под шестьдесят? Пятьдесят пять? Может быть, выебать её один раз, сделать приятное друзьям? Следуя моей нерешительности, над баром поколыхивались, если кто-нибудь из нас двигался, свисавшие с потолка стеклянные шарики. У хозяйки было явно нездоровое пристрастие к стеклу. Точнее, к изделиям из стекла.
Мы перешли в противоположную часть гостиной — за низкий стол, и возникшая откуда-то из глубины квартиры темноглазая девушка-португалка в фартучке подала нам первое блюдо: зелёный густой суп и сухарики к нему. Я взял себе только один сухарик, я не люблю их хруста, и подумал, что итальянка-динамит напоминает подобный сухарик. Зелёный суп оказался сладким, как пища для детей младшего возраста. Он выглядел весёлым и здоровым. Вычерпывать его ложкой было не процессом поглощения пищи, но забавой. Вторым блюдом была козлятина со сливовым пюре. Тонко наструганные кусочки серого мяса было удобно и легко жевать. У меня вновь возникло впечатление, что мы компания детей, играющая в игру под названием «обед». Впечатление усугубилось тем, что никогда не пьющий Рыжий и непьющая итальянка поглощали виноградный сок, а дюшесса лишь пригубила бокал с красным вином. Я оказался единственным потребителем вина в хрустальном графине. Было неизвестно, какое это вино. Я люблю, чтоб у вина была этикетка.
— Адриана сказала мне, что вы зарабатываете деньги исключительно литературой,— сказала старушка— динамит.
— Да,— согласился я,— с первой же книги. В первый год я заработал 29 тысяч франков. Сейчас я делаю много больше денег.— Я не стал рассказывать ей подробностей. Например, того, что, растратив свои 29 тысяч в несколько месяцев, я жил затем подбирая вечерами пищевые отходы возле магазинов на рю Рамбуто.— Я продаю немного книг во Франции, но продаю много книг за границей. А вы, мадам, как вы зарабатываете свои деньги?
— Я в паблисити-бизнесе,— соврала она, не глядя на дюшессу и Рыжего.
Я знал от Рыжего, что, дважды побывав замужем, итальянка сумела удержать с обоих мужей определённый капитал с каждого и потому материальных забот у неё нет. Как и у дюшессы, у неё противоестественная проблема — поиски занятия: богатым женщинам нечего делать. Уже с утра пораньше — уже из постелей и потом из ванных они начинают перезваниваться, пытаясь совместно придумать себе занятие на день. Часто они отправляются вдвоём на ланч. Убивая таким образом три-четыре часа. Но впереди ещё целый день! Рыжий жаловался мне, что незнание, как занять своё время,— основной порок его дюшессы. «Скука, старичок,— это самая распространённая болезнь среди богатых баб». Дюшесса пытается сделать так, чтобы Рыжий развлекал её круглосуточно, но Рыжий твёрдо противостоит всем её попыткам. Он наотрез отказался дать ей ключ от студии на рю Беоти и несколько раз не открыл ей двери, когда она являлась туда неожиданно, без телефонного звонка. «Ей абсолютно не хуй делать, старичок, а я должен работать её личным клоуном, а? Ебарем работать я не отказываюсь, это работа по мне, но клоуном нет…»
После кофе мы перешли на две тесные кушеточки. Рыжий в жёлтом ворсистом пиджаке растянулся во всю длину одной из них, положив голову на колени дюшессы. Я сидел вполоборота к итальянке и, вдыхая отдалённый запах Шанель номер пять, исходящий от неё, размышлял. Я думал о том, что она, может быть, и неглупая, и интересная женщина, и в то же время на кой ей посудная лавка, если она неглупая? Кажется, я придумывал причину, чтобы не оставаться с нею…
— Нет,— сказала она решительно.— Я больше всего боюсь неквалифицированных грабителей. Год, нет, два года назад ко мне забрались через крышу и разбили очень ценные вещи. Если б они знали, эти «жовр кон», каких денег вещи стоили, у них дрожали бы полжизни колени! А в две вазы они, представляете себе, нагадили! В две майолевские вазы!..
— Га-га-га…— отреагировал Рыжий с колен дюшессы.
Дамы заулыбались. Рыжему прощается решительно всё. Как чрезвычайно романтической личности. Простой матрос, да ещё советский, он имеет право быть грубым, вульгарным, крикливым, скучным и даже имеет право на осмеяние любимых хозяйкой, религиозных по сути своей предметов культа. Если бы я захохотал в столь деликатный момент, я бы выглядел идиотом. Рыжий вдоволь нахохотался и затих.
Я положил руку на кисть итальянки-динамит. Кисть дёрнулась и замерла. Я погладил её. На ощупь она была одновременно маслянистой и шершавой. Очевидно, поверх шершавой кожи итальянка положила слой крема. Я попробовал представить себе всё тело пожилой женщины. Представленное мне не понравилось. Лишь считанное количество раз вошёл я под сень девушек около пятидесяти лет. Последнее по времени вхождение — в течение года я встречался с рослой контэссой-алкоголичкой. В отличие от дюшессы Рыжего, каковая приобрела титул, выйдя замуж, моя контэсса была настоящая, урождённая от комта и мамы контэссы. Но та женщина была мне интересна своим образом жизни, своим алкоголизмом даже. И она была первой женщиной с приставкой «де» в моей жизни! Мне хотелось знаний, и о контэссах тоже, может быть, у них, у контэсс, секс «поперек»… Но в нынешнем моем состоянии я уже обладаю знаниями…
Поглаживая кисть, я обнаружил, что запах Шанель номер пять усиливается. Сориентировавшись в пространстве, я обнаружил, что итальянка незаметным образом придвинулась ко мне. Полметра кушеточки, разделявшие нас, исчезли под халатиком от Сони Рикель.
— Куда ведёт чёрная лестница?— спросил я, указывая на крупные чёрные ступени, взбирающиеся поверх китайского происхождения ширмы к потолку.
— На крышу,— сказала итальянка и ухватила мою руку. Сжала её.— Если бы было теплее, мы могли бы подняться. Там у меня деревья и шезлонги.
— На крыше очень хорошо, старичок,— сообщил Рыжий, открыв один глаз. С таким выражением, как будто сказал: «На итальянке очень хорошо, старичок».
Я представил себе деревья, неприлично воткнутые в шезлонги.
Я бы остался с итальянкой, если бы она не прикоснулась ко мне щекой. А она, продолжая незримо передвигаться, прикоснулась. Щека была шершаво-масляная и холодная. Я вспомнил всегда горячую щеку подруги Наташки и решил, что, выбравшись из музея, поеду к ней. Мириться. В Наташкиной щеке всегда пульсировала кровь, живая и горячая. Я помирюсь с Наташкой. Она неудобная, неверная, нервная, грубая и вдобавок алкоголичка, но я почувствовал себя как… как в ссылке — высланным к холодным щекам в музей стекла.
Я встал. Прошёлся, осторожно прижимая руки к телу. Дабы не задеть хрупкие предметы.
— Ты, может быть, хочешь в туалет, старичок?— спросил Рыжий, открыв оба глаза. И погладил коленку дюшессы в чулке.
— Вы хотите что-нибудь digestif?5— Хозяйка провела рукой по мелко завитым светлым кудряшкам.
«Мы хотим что-нибудь уйти»,— сложилась у меня абсурдная фраза, но я выбрал сказать другую. Лживую, как полагается в приличном обществе:
— К сожалению, я должен откланяться. У меня завтра раннее рандеву.
— Нам тоже пора.— Вежливая дюшесса подняла голову Рыжего.
— Ох-ох-ох-ой!— Искренне или притворно зевая, Рыжий потянулся, потянув брюки, жёлтый пиджак и даже какао-башмаки с пряжками. Родившись в северной деревне близ Ленинграда, Рыжий обладает вкусом латиноамериканца, бразильца, может быть. Он встал.
— Спасибо за чудесный вечер и чудесный обед.— Стоя в дверях, я пожал руку итальянки.
Она чуть наклонила голову и улыбнулась. Но высвободила свою руку на долю секунды ранее чем следовало. Только в этом выразилось недовольство хорошо воспитанной женщины. Если б она воскликнула: «А постель? Что ж ты, поел и убегаешь, мужик!» и загородила бы мне выход рукой, я бы, клянусь, остался. Я ценю и уважаю искренние порывы.
— Что ж ты, старичок?— отреагировал наконец Рыжий, только когда вывел «Вольву» на Шампе Элизэ.
— Смотрины не удались. Пардон… но женщины этого возраста…
— Хороший охотник,— Рыжий не обернулся ко мне и не посмотрел на меня в зеркало,— должен уметь взять любую дичь, а не оправдываться потом, что дичь показалась ему недостаточно крупна. Так-то, старичок…
*
И всё. Более мы на тему итальянки не разговаривали. Мы побеседовали некоторое время о его «картинках», как неуважительно называет Рыжий свои табло, и я стал опять пугать дюшессу, но на сей раз уже не садизмом, но связями с Компартией. Я рассказал ей о своём визите в «бункер» ФКП, на пляс колонель Фабьен. Результатом моего хулиганства явилось то, что дюшесса попросилась выйти из «Вольвы» на Шампе Элизэ. Я сказал, что выйду я. Я сказал, что меня не нужно отвозить, как собирался сделать Рыжий, что я возьму такси. Но Рыжий заупрямился, проявил свою независимость, и мы отвезли молчаливую дюшессу.
— Гэ-гэ-гэ-гэ…— рассмеялся Рыжий, когда дюшесса удалилась, топая каблучками по авеню Фош.— Ты напугал её коммунистами, старичок! Она боится, что у неё отберут квартиры и деньги.— Лицо у Рыжего было такое, как будто он радовался подобной возможности.
*
Я обманул Рыжего. Я поднялся лишь на первый этаж «моего» дома на рю де Тюренн, и, когда он не спеша отъехал, я спустился. И пошагал по рю де Бретань в направлении бульвара Севастополь. Мне пришлось около часа просидеть на лестнице номера 3 по рю Святого Спасителя. Наташка явилась из кабаре только в четыре утра. Слава Святому Спасителю, одна.
— Ебаться захотел?— спросила Наташка презрительно.
Однако вторичные признаки её поведения указывали на то, что она была рада обнаружить меня поджидающим её на лестнице.
Щеки у Наташки были горячие, как положено певице кабаре 28 лет, исполнительнице русских народных песен и горячих цыганских романсов. И была она умеренно выпимши, потому не злая, но весёлая. И были мы счастливы в ту ноябрьскую ночь в Париже. Вставая ночью, можно было бродить сколько угодно по студии, не включая света, без риска разбить стеклянные вазы. Ваз у Наташки в студии не было. В этой студии вообще было мало предметов. Матрас, на котором мы лежали, был основной её мебелью.
1 Tableau (франц.) — картина.
2 Service de presse (франц.) — то есть для пресс-сервиса издательства.
3 Dur (франц.) — крутые.
4 Gérant (франц.) — менеджер.
5 Digestif (франц.) — алкоголь (обыкновенно крепкий), способствующий перевариванию пищи.
из сборника рассказов
«Монета Энди Уорхола» • 1990 год
Париж-1981
Он обедал со стариком. Ему было очень не по себе в моменты, когда ему приходилось смотреть прямо в серо-бурое, пообносившееся лицо старика, и потому он был счастлив, когда в «Ла Куполь» метрдотель посадил их не напротив, но рядом.
Старик жил в Париже с 1934 года, но не сделался ни Сартром, ни Камю, которых он часто упоминал, он был просто старое человеческое животное, зарабатывающее на жизнь подённым журнализмом. Неудачник.
Ему, обедающему со стариком, было 38 лет, шёл второй год его пребывания в Париже, он только что выпустил здесь вторую книгу и, кажется, имел все основания на то, чтобы считать себя восходящей звездой. Однако, прислушиваясь к мерной, монотонной болтовне старика на полузабытом языке, он, иногда с опаской опять взглядывая в месиво его лица, думал, что не дай бог так вот заканчивать жизнь. «Мне это не грозит,— убеждал себя он,— я — другой, я буду и Сартром, и Камю, хотя я здесь и иностранец. Я не стану подённым журналистом».
«А вдруг нет?— донеслось до него из глубочайших недр его, оттуда, где прятался неуверенный отрок, в своё время на школьных балах так и не решившийся подойти к светловолосой принцессе, которая ему до смерти нравилась.— А вдруг нет? Вдруг я не смогу опять совершить самого главного, того движения, того короткого пути по школьному паркету, когда все смотрят, и очень стыдно, и очень страшно, вдруг так и простою весь бал в углу, у стены?»
В «Ла Куполь» шумела и плескалась бессмысленная жизнь, как она плескалась до этого уже с полстолетия. В добавление к обычной, богатой и сытой «богеме», к дантистам, интеллектуалам и хорошо оплачиваемым служащим больших промышленных корпораций, по меньшей мере, две компании моделей и фотографов оказались сегодня вблизи столика, за который метрдотель посадил старика и медленно восходящую звезду-писателя. Время от времени юные пёзды на длинных ногах, поколыхивая телами, проходили мимо в туалет, освежить краску на губах и мочеиспуститься, и писатель, отвлекаясь от старческих историй, завистливо посматривал вслед каждой пизде. Ещё позавчера он сам настоял на том, чтобы жившая в его квартире, спавшая с ним в одной постели такая же безмозглая двадцатилетняя пизда-модель выселилась немедленно, но вот уже наслаждался видом вихляющихся бёдер, колыхающихся волос и оголённых ног…
Старик больше не смотрел на женское мясо. Хуй, очевидно, у него уже не стоял. Взамен старик с жаром говорил о том, что он убеждённый антикоммунист (двадцать лет уже он три раза в неделю писал скрипты для антисоветской радиостанции, финансируемой американцами, его антисоветизм приносил ему ощутимый доход), вообще о жизни своей, о жёнах своих, о своём двадцативосьмилетнем сыне и отце своём… О том, как меняются галстуки и вообще наряды каждые пять или десять лет, и что у него уже целый чемодан галстуков, которые устарели, и что у него скопилась масса пиджаков, которые тоже устарели… Ещё старик говорил о России, о русском человеке, о русской истории.
— Скажите мне честно, есть ли, по вашему мнению, антисемитизм в России?— спросил он наконец писателя.
Старик должен был платить за обед. Но писатель, проводив взглядом очередную самую яркую пизду в красном коротком платье, с выпуклым маленьким животиком, на длинных ногах, светловолосую, как та школьная принцесса, с яркими губами пизду, всё же сказал, что антисемитизма в России не больше, чем в любой другой стране, в той же Франции его не меньше. Он никогда так и не научился врать в обмен на обед. И даже на пэйпэр-стэйк в обмен он врать не научился. Он огорчил старика. Ещё ему очень хотелось сказать: «Кстати, зачем тебе все эти галстуки и пиджаки, старик, отдай их мне?» — но удержался, может быть, из врождённой порядочности, хотя что такое порядочность?— подумал он с удивлением.
Рядом с ними усаживалась компания бизнесменов и их жён, назойливо оснащённая жилетами и галстуками и иными мелкими деталями туалета, включая автоматические ручки, бумажники, носовые платки, курительные трубки и пластиковые кредитные карточки, которыми они всё вертели и поблёскивали. Двое, помоложе, имели усы, как полицейские. Жены бизнесменов были уже изношенными тенями с сумочками во вспухших венами руках. Тени, однако, покашливали время от времени.
Вокруг четырёх огромных букетов, как всегда возвышающихся в зале, кучевыми и слоистыми облаками плавал перламутровый дым. Строгие официанты в чёрных токсидо и их помощники базбои в белых пиджаках были привычно и деловито заняты производственным процессом. Без эмоций заняты, эмоции проявлялись только в их взглядах, направленных на проплывающие мимо женские крупы.
Парень, похожий на водителя трака, в больших джинсах, пришёл прямо с улицы поссать в туалете фешенебельного ресторана, гордясь своей простонародной наглостью. Доказывал, что он тоже человек. Выходя, он нахально долго теребил зиппер джинсов и агрессивно посматривал по сторонам… Вызов его, однако, никем не был принят, и он вынужден был опять выкатиться на улицу. «Возможно, он повторяет свой номер несколько раз за вечер»,— подумал писатель.
Старик уже говорил о своих встречах с русскими диссидентами и о том, что многие из них, живя во Франции по 10 лет, не умеют даже прочесть меню в ресторане. Писателю было безразлично, умеют ли диссиденты прочесть меню или остаются благодаря своему невежеству голодными, он занимался своим любимым делом — наблюдал с профессиональной ловкостью ресторанную толпу. Ещё он подумал, что хорошо бы заказать очередные полбутылки вина, но почему-то ему стало жалко денег старика, заработанных на антикоммунизме, и он воздержался от изъявления желания.
Старик был, впрочем, вполне обеспечен. Как писатель знал, американцы платили старику хорошо — у него были деньги, машина, молодая, как старик объявил, жена. Он никому не был известен, но и французская цивилизация и культура тоже ценили услуги старика и платили ему определённые деньги за осуществление функций невидимого или плохо видимого винтика культурной машины. Писатель тихо презирал уже старика за то, что метрдотель не знал старика в лицо, и им пришлось на десять минут зайти в бар, в ожидании свободного столика. «Если бы старик был видимым винтом, или болтом, или колесом культурной машины, мы тотчас бы были узнаны, он был бы узнан, и мы были бы усажены»,— зло подумал писатель. Сам он никогда не ставил своей целью быть узнаваемым и усаживаемым метрдотелями в «Куполь» или «Клозери-де-Лила», у него были другие цели, но почему-то вот оказался невероятным снобом в отношении старика. «Если ты приглашаешь меня в ресторан,— продолжал он думать раздражённо,— то потрудись, чтобы метрдотели тебя там знали». Недавно он посетил «Ла Куполь» с приятелем-художником. С художником с полдюжины официантов и мэтров поздоровались за руку. Писателю было приятно прийти в «Ла Куполь» с человеком, которого знают.
Рассеянно, но с вежливой, цивилизованной физиономией, светло озаряемой воротником белой рубашки, специально надетой им по такому случаю, писатель вынужденно выслушивал, не слушая, стариковские истории. И думал о том, что ему очень хочется власти над этим залом, с несколькими сотнями людей в нём, власти над мужчинами и женщинами в зале, полной власти, диктата неограниченного и, может быть, невероятно жестокого. Старик ныл, и недоумевал, и возмущался государственным строем современной России, хотя сам русским и не был, и что, казалось бы, ему Гекуба… а писатель в испорченном воображении своём получил «Ла Куполь» в полную и безграничную свою власть. Ребята его, юноши в чёрных кожаных куртках, жонглируя тупорылыми автоматами, блокировали все входы и выходы, и он, писатель, объявил, кротко улыбнувшись, начал, выйдя к одному из букетов, жуткий бал…
Светловолосая пизда в красном платье, с животиком, дотоле нагло и неприступно-кокетливо улыбающаяся всем и миру, свободная в желании дать своё тело или подразнить только, была прикручена официантскими полотенцами к одной из красных вишнёвого бархата лакупольских скамеек, и по приказу писателя его кожанокурточные ребята и все желающие официанты или метрдотели насиловали её безостановочно один за другим. Её друг — лохматый фотограф гомосексуального вида — был усажен рядом с её телом и принуждён наблюдать происходящее.
В различных углах зала видна была кровь — ребята в куртках для своего удовольствия били и пытали несчастливых жертв, оказавшихся в этот вечер в ресторане. И играл оркестр романтические танго и фокстроты. И послали людей ещё за цветами, чтобы было больше цветов. И время от времени, чтобы поддерживать необходимое безумие и напряжение, кого-нибудь расстреливали у стены, на виду у всех остальных. Писатель расхаживал по ресторанному залу со скучающим выражением лица и время от времени что-нибудь приказывал сделать. Указывал, например, скользя по скорчившимся от нестерпимого ожидания лицам, жертву, кого следует расстрелять, или вдруг останавливался, чтобы отнять у мужчины прижавшуюся к нему испуганно подругу, или ещё какую-нибудь гадость и жестокость приказывал осуществить. Писатель впервые в своей жизни чувствовал себя безгранично свободным и, несмотря на кажущееся его спокойствие, внутренне весь трепетал от обилия открывшихся перед ним возможностей, порой терялся, не знал, что предпринять, но не показывал виду…
В конце концов он успокоился на том, что его кожанокурточные юноши ремнями стали бить по гениталиям оголённого красавчика мужского пола, а лицезреющий эту сцену писатель стал ебать, поставив её в дог-позицию, маленькую некрасивую женщину с кривыми короткими ногами и большим животом, очевидно беременную. Ебал и урчал от удовольствия…
В момент почти оргазма перед ним опять появилось унылое старокожаное лицо старика с двумя морщинистыми пузырями под глазами. Писатель вздрогнул, ужаснувшись мысли, что и он через 25 или 30 лет будет таким же беспомощным, жалким стариком, которого всякий, даже самый несмелый молодой хулиган непременно будет пытаться ограбить на улице или столкнуть под поезд метро. А молодые пёзды будут брезгливо сторониться. Кому на хуй нужен старик. «Если только я не обзаведусь юношами с автоматами к тому времени»,— бесстрастно отметил писатель.
Вдруг он чётко понял, что жизнь есть дело очень серьёзное. 38 лет он уже прожил, питаясь всяческими вялыми иллюзиями, и лишь постепенно очищал себя, как луковицу, слой за слоем, от иллюзий и запретов. Теперь иллюзий не было наконец. Был Париж, весна, холодная, пожалуй, необычно холодная весна, был зал «Ла Куполь», казалось, тревожно ждущий, как и любой другой зал, чтобы некто нечто совершил. Насилия ждущий. Ласки ведь зал не поймёт. Может быть, зал ждал гранаты?
Бога не было, загробной жизни, благодаря существованию которой следовало ограничивать себя и быть примерным в жизни земной, не ожидалось. Было красивое мясо женщин, разбросанное там и сям по залу, мясо, ждущее самого грубого посягательства, неостановимой агрессии, отвратительного нападения, полного превращения в животное, плачущее, стонущее, испражняющееся, чтоб им всем в зале вдруг стало понятно, что они живы, что есть жизнь. Ибо жизнь — это Боль.
Были мужчины — бизнесмены, фотографы, может быть, писатели, журналисты, парижане, иностранцы, всякие шведы и швейцарцы, американцы,— большинство из которых врождённые жертвы. И был он, один из них, и другой, который должен был, каким-то образом выбравшись из хаоса физической жизни, политики, из социальной чепухи, обрушить на мужчин своё всеподавляющее насилие. «А не смогу, значит, и я дерьмо. Жертва»,— сурово признался себе писатель.
Был ещё старик в замшевой куртке и свитере, который пригласил писателя из интеллектуального любопытства к его книгам. Но так как писатель дал ему полную волю, не желая оспаривать неинтересные ему взгляды старика на жизнь, политику и литературу, то старик говорил в основном о себе, как подавляющее большинство людей, он не имел достаточной силы воли, чтобы сопротивляться искушениям мелкого эгоизма. «Старик, как живая картинка, как дюреровский скелет — помни ты, которому ещё 38 и уже 38, что конец близок, и вот что тебя ожидает, если ты не будешь невозможно храбр, как дикое животное»,— сказал себе писатель.
Они заказали кофе, и мимо прошла рослая бледноногая красотка в непристойно плотно обтягивающей живот и жопу кожаной юбке с разрезом — из разреза как бы исходил пар — с вызывающим выражением наглейшего лица. «Не дам, у тебя нет денег!— говорило лицо, обращённое к писателю.— Отдам мои прекрасные внутренности тому, у кого есть деньги, чтобы хорошо за них и мои прекрасные рыхлые ноги заплатить»,— сказала красотка писателю взглядом. Писатель признал, что она права, и стыдливо отвёл глаза, взял чашку в руку, рука у него задрожала. Писатель пил кофе, в кармане у него лежало только 20 франков, и всё, на что он мог надеяться или чего он хотел в этой жизни, было противозаконным. Все его настоящие, самые глубокие желания были криминальны. И насильственны.
Может быть, если бы писатель поработал какое-то время над красоткой в кожаной юбке, пригласил бы её в ресторан и потом в диско или слушать среди других рабов джаз, она бы ему дала. Наверняка не в первый раз, но после некоторого количества унижений, комплиментов и «нет» или «позже», после перелистывания книг писателя, изданных во Франции, статей о нём в разных газетах, после курения гашиша у писателя в доме или нюхания кокаина в доме его приятеля драг-дилера красотка позволила бы снять с себя кожаную юбку и, лениво раздвинув ноги, обнажила бы своё пылающее или непылающее жерло. Но писатель хотел её сейчас, и ничто не мешало ему её иметь, у него был сильный хуй и прекрасный темперамент, если пизда ему нравилась. Ничто не мешало писателю, кроме социального запрета.
Он не хотел ухаживать за красоткой в кожаной юбке, приглашать её в «Ла Куполь» или в другой ресторан, разводить слюни и пробиваться сквозь её выпендривающиеся «нет» или «позже». Он хотел протянуть руку и взять её, совсем ничего не произнося, взять её секс, личность её пусть останется ей, взять её и при малейшем сопротивлении просто изнасиловать жестоко… Так ребёнок, властно улыбаясь, прижимает к себе кошку, совсем не желающую сидеть у него на коленях, и, если она царапается — жестоко давит её подушкой. «Единственное, что удерживает меня от нападения на красотку — жестокость и несоразмерность наказания,— подумал писатель.— Общество сурово наказывает за нормальный секс». Писатель давно уже знал, что он нормальное, здоровое, дикое животное, это они все вокруг были уроды, в «Ла Куполь»…
Старик не оставил официанту на чай ни сантима. До этого в баре он тоже ничего не оставил. Это ещё раз доказывало, до какой степени маленьким неудачником он был. В этом жесте — неоставлении чаевых — сказалась также и его практичность, подумал иронически писатель. Всё равно ему уже недолго ходить в «Ла Куполь», скоро умрёт, посему что ж ему заботиться о его репутации в среде официантов.
Бульвар Монпарнас обрызгивался мелким капельным дождём, и было холодно. Писатель поднял воротник своего бархатного пиджака, внутри вся подкладка была рваной, но снаружи разрушения видно не было, и, зябко поёживаясь, проводил старика до его машины. Антикоммунист, неряшливо мазнув фарами по противоположной стороне бульвара, укатил.
Домой писатель шёл пешком. Шёл и ругался, и обещал себе клятвенно срочно уехать в дикие страны, в степи или пустыни, где люди живут по другим законам, где не нужно подобострастно добиваться мяса наглых и глупых женщин, поддерживать дипломатично-хорошие отношения с жуликами-издателями, где не нужно ничего ждать. Может быть, там, в степях или пустынях, сможет он, наконец, любить людей, если они ему нравятся, и убивать их, если они его враги.
из сборника рассказов
«Девочка-зверь» • 1993 год
Привычная несправедливость
— Хочешь пойти в зал Плейель на конкурс танго?— спросил Джи Джи в телефон.— Наташа в Америке, тебе же, наверное, скучно?
— Никакого желания.
— Пойдём, стюпидо. Это специальный конкурс, знаешь, вроде тех, что были популярны в Соединённых Штатах в период Большой депрессии. Погоди, я скажу тебе, как вся эта затея называется…— Грубо бросив трубку на нечто твёрдое, он оглушил меня резонансом.
— Марафон, что ли? Кто дольше дотанцует, пока не свалится. Шесть дней, десять на ногах?
— Нашёл!— воскликнул он.— Всефранцузский конкурс бального танца. Финал. Участвуют лишь лица в возрасте свыше шестидесяти лет. Двадцать четыре пары. Лучшая пара выигрывает двадцатичетырехдневное путешествие вокруг света на круазьер1.
— Пойду,— согласился я.— Убедил. Возрастом завлёк. А чем объясняется любовь устроителей к числу «двадцать четыре»? Это что, масонский символ?
— Три танца,— подбавил цифр Джи Джи, очевидно глядя в программу.— Танго, вальс и пасодобль…
Джи Джи ждал меня под козырьком Плейель в большой современной куртке из пластика, сделавшей его голубым Мишленом2. Такие дяди из картона стоят у въезда на заправочные станции.
— Смотри, Лимоноф, сколько белых голов…— Из нескольких автобусов сразу выгружались на рю Сент-Оноре белоголовые граждане.
— Из старческих домов, что ли, примчали специальными рейсами?
— Из департаментов, представители которых выиграли полуфинал. Пойдём скорее, а то за этим старым мясом не протолкаешься потом.— И он захромал впереди, одно плечо ниже другого, придавленное сумкой с фотокамерами.
В вестибюле вольно гулял сильный сквозняк и хаотически двигались несколько сотен тел. В зале, сине-сером, тоже гулял сквозняк, но послабее. Мы заняли первый ряд и оказались чуть ниже сцены. Джи Джи стал распаковывать линзы и камеры. Из соседней колонны кресел меня окликнули, и я пошёл поцеловать красивую девушку, не имея ни малейшего понятия, кто она такая. Загадка не разрешилась и после краткой беседы. Протиснувшись мимо пыхтящего Джи Джи, я сел. За нашими спинами с океанским шумом людская масса стала заливать зал. Появился китаец, представляющий конкурирующее фотоагентство, и вклинился между мной и Джи Джи. Молодой китаец, в джинсах и кроссовках, с аррогантной рожей. Я тотчас отнёс его к категории юношей, никогда не читающих книг, но зато способных целый день провозиться с глупым «минителем»3.
Джи Джи стал беседовать с наглым прогрессистом, употребляя залихватские словечки «вашман», «конри», «бордель», «путэн»4, а я приподнял край серого тяжёлого занавеса и заглянул на сцену. Мне удалось увидеть два длинных стола по обеим сторонам сцены. Таблички с фамилиями. Стулья. Бутылки «Виши» — воды коллаборационистов. В глубине сцены возвышалось нечто вроде многоэтажного торта в виде вавилонского зиккурата, и на каждом витке его — кубки в виде ваз и кастрюль. Я сообразил, что это призы. Очевидно, по причине того, что Новый год был близок, призы окружали мини-ели и еловые ветви. Вышел, озираясь, старик в коротком белом сюртучке с приколотым на спине номером «13» и, пробуя паркет, сделал несколько витков, сжимая руки вокруг талии воображаемой партнёрши. Заметил мою физиономию на уровне пола и, смутившись, ушёл. Едко запахло пылью и задуло со сцены, по-видимому, за кулисами открыли большую дверь. Я втянул голову в зал.
Я отношусь к категории личностей, которые, придя в театр, сидят на своём стуле как приклеенные и смотрят во все глаза. Хожу я на зрелищные мероприятия редко, но на месте ничто не заставит меня отвести глаза от сцены. Однако на сцене ещё ничего не происходило. Поэтому я стал глядеть в зал. А он был подёрнут бело-голубой дымкой. Головы старушек сообщали ему этот цвет. Подтянутых, хорошо накормленных старушек было подавляющее большинство. Лишь иногда мелькала розовая лысина.
— Ха,— изрёк Джи Джи,— смотришь на друзей. Ну что ж, привыкай, привыкай, очень скоро ты переберёшься к ним, к труазьем аж5… Тебе сколько исполнится в феврале, пятьдесят один?
— Заткнись, некрофил!
Джи Джи знает, сколько мне лет, но постоянно подъёбывает меня возрастом. И прибавляет когда десять, когда пять лет, в зависимости от настроения. Я же подъёбываю его нездоровым интересом к старым писателям. После того, как «Пари матч» опубликовала на две страницы цветную фотографию Симоны де Бовуар его работы, он охотится за старыми и больными писателями! Однажды он заявил мне, развалившись на стуле:
— Если X. умрёт, как я ожидаю, весной, я смогу поехать в Нью-Йорк. X. очень известный писатель интернационального масштаба, и некрологи с фотографиями появятся не только во французской, но в прессе всего мира. На всякий случай я предупредил девочек из агентства, чтоб они держали фото X. под рукой.
— Монстр, чудовище!— хохотал я.— Как можно желать смерти мирным писателям…
— Я не желаю им смерти,— невозмутимо отвечал Джи Джи,— я лишь желаю быть последним фотографом, фотографировавшим их при жизни. Весь трюк состоит в том, чтобы оказаться последним…
Мне пришлось признать, что профессиональный цинизм Джи Джи сродни профессиональному цинизму полицейских тубибов6.
— На большой бизнес с продажи моих фотографий можешь не рассчитывать,— сказал я чудовищу.— Я намерен пережить тебя. И все возможности для этого у меня есть, ибо моей бабке Вере только что стукнуло девяносто шесть, а прабабка Прасковья умерла в 104 года. Так что удовольствия не будет.
— Но ты можешь попасть в автомобильную катастрофу или сесть в «Эр Франс» с испорченным мотором… Лимоноф…
Занавес пополз в стороны, подымая пыль. Вышли молодой бледный тип в свободно болтающемся костюме и девка в длинном платье (руки её дрожали) и, совместно объявив начало конкурса, стали представлять членов жюри. Актёры (среди них бывший боксёр), актрисы (знаменитость — мумифицировавшаяся Людмила Черина), несколько представительниц женских журналов, присутствовал тип из «Либэ»7, должен был быть директор «Плейбоя», но не пришёл, объявлены были несколько глав малопонятных мне организаций. Всех их вызывали по очереди, и каждый вставал за полагающимся ему стулом. Наконец, с пробегом последней жюри-дамочки через сцену, они уселись.
Пока бледный конферансье рассказывал нам историю конкурса, я разглядывал его. Костюм на общий вкус, чтобы всем понравиться, такая же причёсочка, быстрый отчётливый трёп, профессиональный энтузиазм, рот расползается в стороны ровно настолько же, как рты людей его профессии в Чикаго и Москве. И говорил он, как полагается, глупости. Он и девка разошлись по противоположным краям сцены и стали представлять пары. Чёрная пара с острова Мартиника, департамент «других морей», двадцать три пары были белые, в различных степенях старения. Многие женщины оказались во вполне хорошем состоянии. Джи Джи, стоящий, колеблясь, птицей-журавлём, одна нога в воздухе, локоть на срезе сцены, прицеливаясь в пару номер шесть, успел, обернувшись ко мне, просвистеть: «Кэль кюль!»8
У нескольких дам, мне пришлось признать, были неплохие ноги и фигуры… Мужчин я разделил на пару типов и несколько нехарактерных индивидуальностей. Преобладали небольшого роста, часто усатые моржи в смокингах, некоторые из них почти толстяки. Менее многочисленным отрядом были высокие породистые типы в бабочках, портила их или сутуловатость, или небольшая выпуклость в области живота. Из индивидуальностей бросились в глаза: аккуратный месье в серой паре, похожий на ухоженного прогрессивного бюрократа в отставке, некто вроде миниатюрного министра культуры Франсуа Леотара и жилистый лысый дядька, напомнивший мне балетного танцора, моего приятеля Лёшку Кранца, однако на голову ниже Лёшки. Если «породистых» я самовольно поместил ближе к вершине французской социальной лестницы, сделав их профессорами и даже индустриалистами в отставке, а «моржи» представились мне все владельцами кафе или бушри9, то с «Лёшкой» мне пришлось изрядно повозиться. Он не был ни комптабль10, ни владелец продовольственного магазина, в этом я был уверен… Я представил его представителем вольной профессии, решив позже обсудить с Джи Джи, какой именно…
Участники задвигались в общем танго. Уже можно было выделить несколько пар. Одна «девушка» с крупным лицом, я назвал её для моего внутреннего употребления «Вера» (я имею несносную привычку находить только что встреченным людям эквиваленты в прошлой моей жизни), была похожа на зав. отделом подписки в нью-йоркской газете «Русское дело». «Вера» была большая, она впечатлила меня. Обе были большие, и нью-йоркская, и та, которая из Сен и Уаз. Из породы киноженщин довоенных и послевоенных лет, мечта мужчины, пусть и подержанная. Сейчас на кинорынке мода не на женщину-мечту, но на женщину-реальность. Потому они такие все маленькие и имеют гель11 консьержек, только что поднявшихся на поверхность из метро Вольтер. Я лично предпочитаю мечту, Грету Гарбо, а не беспризорниц, плюющих «супэр», «вашман бьен», «жэ тэ жюр!»12… Я толкнул Джи Джи в бедро:
— Смотри, какая!
Он не углядел, «Веру» скрыли туши труазьем аж. По две пары за раз они стали соревноваться в танго. Зал был в восторге. Уже сам факт, что труазьем аж так отплясывает… Описывать двадцать четыре танцующие пары я не стану. Я остановлюсь на том лишь, что бросилось мне в глаза. Партнёром «Веры» был высокий месье из породистых, по виду много старше её. В смокинге и лаковых туфлях. Горбоносый. У него почему-то не поворачивалась шея, или, может быть, ему не хотелось её поворачивать. Большой в груди, он вёл «Веру» важно и чинно, как мужчина солидной эпохи, ей же, мне казалось, хотелось удариться во всяческие эксцентричности и падать на колено мужчины, как падала партнёрша «Лёшки» — небольшого роста брюнетка в серебристо-чешуйчатом платье русалки, бретелька платья впилась в плечо. Или же «Вере» хотелось оборачиваться юлой в руках партнёра, как женщина мартиникской пары. Мартиникский мужчина — худой креол цвета какао с подсолнечным маслом — выглядел моложе их всех, вот хотя бы одно преимущество чёрной кожи. Танцевали мартиникцы неплохо, но я встречал лучших чёрных специалистов. Эти двигались монотонно, им недоставало воображения.
Обсудив тур танго (был небольшой перерыв, чтобы участники конкурса могли, если хотели, переодеться для вальса), мы с Джи Джи решили, что «Лёшка» и его партнёрша в цирковой чешуе были лучше всех. Энергичнее всех, драматичнее всех и сорвали больше аплодисментов, чем другие пары. Что «у них есть в жопах огонь», как выразился Джи Джи грубо, но верно.
Мы вскоре заметили наших фаворитов в зале. Окружённые народом, они раздавали автографы. Женщина была уже в платье из разноцветного капрона с несколькими слоями пышных оборок у колен. «Лёшка» не переоделся, остался в серой курточке и чёрных брюках. Весёлые, они заметно наслаждались вниманием зала.
Моя пара понравилась мне больше всех и в вальсе. Немеханическое самозабвение, горячий романтизм управлял ими. Они так раскрутились, что не смогли остановиться и когда музыка уже остановилась… Джи Джи выбрал другую пару. «Его» люди вальсировали классичнее, но холоднее. У него был крепкий большой нос, хорошо окрашенные щеки, она, рыжеволосая, отличалась тем, что, вальсируя, поддерживала платье рукой. Я заметил, что седая женщина, танцевавшая танго без очков, вышла вальсировать в очках, может быть, она боялась споткнуться. После вальса на нас в первый ряд опустилось столько пыли, что китаец чихнул и, взяв аппарат, выбрался в проход. «Какой кон!13— сказал мне Джи Джи презрительно.— Врэман кон». Я не стал расспрашивать его, почему китаец кон, а, судя по физиономии, ему очень хотелось мне рассказать.
Пасадобль добрая половина пар вышла танцевать в латиноамериканских костюмах. Моя пара, может быть, бедные, как предположил Джи Джи, не переоделась, «Лешка» лишь снял жилет и накрутил на талию красный кушак. Но они носились по сцене как дьяволы. Он даже грохнулся на одно колено, и она обошла его в ослепительном знойном ритме, с осанкой перченых девушек знойного юга. Обильно намазанное простое лицо её пылало от удовольствия и азарта. Она напомнила мне вдруг подружек моей мамы. В моём детстве они все танцевали до упаду. Мама, отец, подружки. В нашей комнате, с театральными выпадами, с отставлением руки далеко в сторону… Народ зашёлся в оглушительных аплодисментах. Часть стариков покинули свои кресла и приблизились к сцене, залив проходы. Джи Джи, обливаясь потом, крутил большой винт своей камеры с помощью десяти-сантимовой монеты и бормотал ругательства. Две молоденькие пиздюшки, сидевшие рядом со мной, вскочили и запрыгали, выражая восторг. Одна вскарабкалась на сцену. Появился китаец из враждебного Джи Джи агентства. Даже на его презрительном лице выразился некоторый энтузиазм. Он навёл свою пушку на сцену. Уже зазвучала музыка для последующих пар конкурса, а народ всё аплодировал. Протанцевали последние восемь пар, но ни одна не вызвала такого энтузиазма зрителей, как «Лёшка» и… Я подумал, какое бы имя дать партнёрше пятнадцатого номера, и дал ей имя «Надя». «Лёшка и Надя».
Появился конферансье и сообщил нам то, что мы знали и без него. Что сейчас жюри удалится на совещание, где будут выделены лучшие шесть пар. Занавес задвинулся. На сцену ринулась пресса и, путаясь в занавесе, стала искать в нём щели. Зрители разделились на компании и кружки и зашумели, обсуждая претендентов. Задуло теперь уже со всех сторон.
— Многие из дам очень даже бэзабль14,— сказал Джи Джи, наконец отвернув свой винт десятисантимовой монетой.
— Я же говорю, что ты некрофил!
— Глупый кон, что может быть лучше созревшей женщины! Они ценят мужчину. И как они делают это… о!— Джи Джи закатил глаза. Он романтик. Несколько раз в год он объявляет мне, что у него, кажется, «гранд амур»15.
— Некрофил, без сомнения. Как фотограф, ты предпочитаешь старых писателей, как мужчина,— пожилых женщин.
Джи Джи замахнулся в меня камерой. Расхохотался.
— Это не моя вина, Лимоноф, что писатель становится известным к старости… Но ты можешь сделать что-нибудь, чтобы твои фото подскочили в цене. Например, совершить ужасное преступление… Или лети в Бейрут и сделай так, чтобы тебя украла «Исламик Джихад» …
«На хуя я им нужен,— сказал я.— Пусть я уже француз, в паспорте стоит место рождения: СССР. И гражданство, как ты знаешь, я получил вопреки желанию правящего класса. Французское правительство и пальцем не пошевельнёт для меня. Даже довольны будут…»
Конферансье вытащил на сцену толстую старую блондинку и, чтобы занять зрителей, начавших роптать по поводу затянувшегося совещания жюри, пригласил её танцевать. Танцевал он так же механично, как улыбался, но правильно. Нужные повороты, нужные па. В наше время многие личности занимаются не своим делом. Может быть, из этого конферансье вышел бы хороший солдат, а? Зрители нашли танец шестидесятипятилетней блондинки с конферансье двадцати девяти лет трогательным. Она показала ему своё удостоверение. Он сказал ей спасибо за её молодость. Ему подали букет цветов в целлофане, и он преподнёс толстой старухе цветы. Мы с Джи Джи решили, что всё это было заранее подстроено. «Ку монтэ»16.
Повозившись ещё немного, провыв трубадурный марш во все усилители зала, один находился лишь в пяти метрах от нас, устроители вытолкнули жюри на сцену. Члены вышли и столпились. Наглый оператор телевидения вывез камеру и, став к нам толстой задницей, стал снимать жюри.
— Люди телевидения ещё наглее вас, фотографов,— заметил я Джи Джи.
— Та гель17,— лениво отшутился Джи Джи.
Они начали с шестого приза. Серебряный ночной горшок с двумя ручками достался «Вере» и её партнёру, осколку солидного века. Сжимая горшок, они отошли, куда им было указано, к еловой рощице, и стали. Фотографы, танцуя перед ними, один даже присел на корточки, запечатлели их довольные лица. Очевидно, они считали шестое место своим.
— А почему вы, месье, сидите в зале и ленитесь взобраться на сцену?— спросил я Джи Джи.
— Это не мой профиль. Меня интересуют писатели и вообще люди искусства.
Я назвал Джи Джи Обломовым.
Пятое место… Они присудили пятое место «Лёшке и Наде»! Раздалось было несколько хлопков, но аплодисменты были заглушены свистом, и ропотом, и криками протеста. В дальнем от нас проходе, где все двадцать четыре пары столпились, ожидая своей участи, я увидел, как дёрнулся и застыл на месте «Лёшка». Лицо его посерело. «Надя» в чём-то убеждала его и наконец, взяв за руку, попыталась вытащить на сцену. Он зло отказался идти и вырвал руку. Всеобщее замешательство опасно перерастало в скандал. Конферансье спустился в толпу и принялся наговаривать «Лёшке» на ухо, по-видимому, аргументы. Сообща, он и «Надя», под руки подняли злого «Лёшку» на сцену. Актёр — бывший боксёр — вручил Наде серебристый сосуд. Более элегантный, нежели шестому месту, но также с двумя ручками. Их отвели и поставили рядом с «Верой» и её партнёром.
— Ну,— обратился я к Джи Джи,— в очередной раз возобладала привычная несправедливость. Я бы ещё мог понять, если бы им присудили второе место, но пятое! Это уж разительно несправедливо. Посмотри на него — он из серого становится зелёным!— «Лёшка» таки мрачнел на глазах. Запали, зазеленившись, щеки, а у глаз легли чёрные тени.
— Путэн бордель,— сказал Джи Джи, впрочем, спокойно,— ты, Лимоноф, что, первый год живёшь на свете?
— Но ведь пятнадцатому номеру аплодировали больше и дольше всех. Я уверен, что, если бы голосовал зал, зрители,— две третьих — были бы за них. Мне жалко его, Джи Джи, посмотри, как он переживает. Сгорбился даже.
— Да, мэк18 побледнел,— согласился Джи Джи.
Я заглянул в программу. Судя по тому, что я, вовсе не плохо знающий географию моей новой родины, никогда не слышал о городе, в котором живёт пара номер пятнадцать,— это маленький провинциальный город. Вроде городка Боброва в Воронежской области, где родился мой отец. В городке, конечно, скучно, и вот «Лёшка» с «Надей» и ещё несколько пар друзей их возраста развлекались танцами. Дома и в диско… Нет, в диско они, должно быть, танцевали редко. Диско не должно им нравиться. Диско-музыка монотонна, а у них страстный стиль. Какая же у него может быть профессия? Я решил, что он владелец крошечного книжного магазина. Первый приз — путешествие вокруг света на «круазьер», двадцать четыре дня — привлёк «Лёшку» и «Надю» на конкурс. Год они готовились, оттачивали па, сумели победить во всех этапах конкурса, в местном, в региональном и полуфинале… И вот — конец мечте. Всплеск морей и океанов, вечера в салоне, они танцуют, прижавшись друг к другу в ресторане «круазьер»… всё это достанется другой паре. Увенчать жизнь кругосветным путешествием не получилось. Не будет цветных, брызжущих цветом фотографий в ослепительных экзотических портах мира, их можно было бы любовно перебирать скрюченными руками в самые последние годы жизни и затем оставить внукам… Вряд ли у пары номер пятнадцать останется достаточно сил, чтобы участвовать в соревнованиях в следующем году. Да и состоится ли ещё один конкурс?
Презрев недовольный ропот зала, то почти исчезающий, то накатывающий опять, безжалостные устроители продолжали церемонию. Третье и четвёртое места достались парам, которые, очевидно, их заслуживали. Второе место дали паре с Мартиники.
— Прогрессивная новая несправедливость заменила старую, непрогрессивную,— философски заметил я, обращаясь к Джи Джи,— цветным прилично дали второе место. Потому что они цветные. Ещё раз подчеркнуть, что мы любим наших цветных и мы не расисты. Тахар бен Джалулу дали Гонкуровскую премию по той же причине.
— Путэн бордель,— воскликнул Джи Джи,— ты меня удивляешь, Лимоноф!
Первую премию они дали паре… Когда они выбрались на сцену, мне сделался ясен механизм сознания членов жюри. Они выглядели, вот именно в этом ключ к пониманию, выглядели не моложе, но современнее других пар. Они в точности соответствовали городским стандартам хорошо сохранившейся молодящейся пары, принадлежащей к средней буржуазии. Такие в паблисити-вспышках, прилизанные и моложавые, агитируют вас застраховать вашу жизнь. Оба были среднего роста. У него короткие волосы зачёсаны набок, умело подкрашены и сзади, за ушами, чуть длиннее. Серый костюм, казалось, был сшит тем же портным, что и костюм конферансье. Брюки не узкие и не широкие, белая рубашка и красная бабочка. Она, в красном платье, в меру открытом и в меру закрытом, в меру обтягивающем. Причёска а-ля Симон Вейль, член Европейского парламента. Их манера танцевать, правильно, но бесстрастно, не могла им принести выше пятого или даже шестого места, но подсознательно их облик соответствовал стандартам жюри. Ибо никто в этом жюри не был экстравагантен, они тоже все были средние представители своих профессий. Людмила Черина вручила паре билет на круазьер.
— Твои фавориты,— объяснил Джи Джи, отвечая на мою гримасу,— слишком народны для этого жюри. Они как бы, знаешь, олицетворяют стихию «баль Мюзетт», от них несёт карманьолой и этим «А, са ира, са ира, са ира…». Они слишком энергичны, стихийны для такого буржуазного жюри.
— Пойти, что ли, сказать пятому месту, что они были лучше всех, а, Джи Джи?
— Пойди.
Я посмотрел на сцену. Туда уже влезли, может быть, с сотню зрителей и смешались с жюри и премированными парами. Группа седовласых что-то гневно кричала председателю жюри. Множество тел обступили «Лёшку с Надей». Их даже не было видно.
— Видишь, есть кому их утешить. Пойдём,— сказал Джи Джи.— Я ещё хочу успеть купить пожрать у араба. Он открыт до полуночи.
Мы выбрались из зала. На углу Фобур Сент-Оноре и авеню Баграм мы расстались. Я пошёл к пляс Этуаль. Я хотел поразмышлять о проблеме несправедливости.
Мы вернулись к ней вместе с Джи Джи через некоторое время. Джи Джи сидел у меня. У него нет ТиВи. У него в шамбр дэ бонн19 в 17-ом есть сейф для хранения фотокамер, есть электроплитка и туалет, как в тюрьме, но ТиВи нет.
Только что окончился чемпионат мира в среднем весе. Победу получил Шугар Рэй. По очкам… Из троих судей двое приняли его сторону.
Джи Джи со злостью сдавил коробку дистанционного управления, и экран погас.
— Ты знаешь, почему происходят революции, Лимоноф?
— По множеству причин…
— Ни хуя подобного. Причина всегда одна. В обществе, готовом для кровопускания, победу всегда, во всех случаях присуждают слабейшему. Это может продолжаться долго, но в конце концов народные нервы не выдерживают. Ты видел, что претендент был сильнее? Ты видел. Ты видел, что несколько раз он так впечатал Рэю в нужное место, что тот поплыл? Ты видел и все видели, что в конце последнего раунда Рэй еле добрёл в свой угол, а наш мэк танцевал себе по рингу, свеженький? Видел? И что, эти жулики присудили победу Рэю! И ты слышал, что сказал наш человек в микро. «Я знаю, что я выиграл матч, и он — Шугар Рэй, знает. Для меня — я победил». И как он спокойно это сказал, а, ты слышал? С полной уверенностью в несправедливости, в том, что ничего иного, кроме несправедливости, он и не ожидал, с манерами стоического философа. Он супер, этот чёрный ! Настоящий дюр20, и, что нечасто встречается среди боксёров, у него есть мозги и класс… Какой класс, а, «я знаю, что я выиграл матч, и Рэй знает», а, как сказано!
Мы оба болели за претендента с короткой бородкой. Невозмутимый, холодный и сильный, он атаковал все двенадцать раундов. Но они оставили Рэя чемпионом мира.
— На хуя тогда соревнования устраивать, Лимоноф? Если всё так нечестно. Путэн бордель! Коррупция повсюду…— Джи Джи встал и, хромая, заходил по моей небольшой территории, злой.
— Возможно, они позволят ему победить Рэя в следующем матче, через год? Хотят растянуть удовольствие зрителей. И сделать ещё кучу денег. Ведь если бы Рэй потерял свой титул сегодня, то эти следующего года мани от них ускользнули бы. Два матча — это две кучи денег, один матч — одна куча. Вампиры! Я лично уничтожал бы бизнесменов физически.
— Да,— согласился Джи Джи.— Мы — фотографы, писатели, боксёры, крестьяне — производим продукты потребления, а подлое племя бизнесменов перепродаёт наш труд…
Мы помолчали, злые. Он у окна, я на стуле.
— Э, Лимоноф, я забыл тебе сказать.— Джи Джи обернулся ко мне от окна.— Тот мэк, на конкурсе в Плейель, ну помнишь, пятнадцатый номер, ты ещё за него болел, ведь отбросил баскетс тогда на сцене… Мне этот кон-китаец сказал. Мы ушли, а китаец остался для общего фото… Грохнулся и отбросил баскетс прямо на сцене… Не вынес несправедливости… сердце остановилось…
Несмотря на то, что Джи Джи сообщил мне о смерти «Лёшки», употребив вульгарное простонародное выражение «отбросил баскетс», то есть кроссовки, обыкновенно наглая физиономия Джи Джи выглядела грустной.
1 Croisière (франц.) — прогулочный пароход.
2 Michelin (франц.) — фирма автомобильных покрышек, её символ — гигант из дутых шин.
3 Minitel (франц.) — комбинация компьютера, телефона и телевизора.
4 Vachement, connerie, bordel, putain — французские ругательства.
5 Troisième age (франц.) — к третьему возрасту — свыше 60 лет.
6 Toubib (франц.) — доктор.
7 «Libé» (франц.) — газета «Либерасьон».
8 Quel cul! (франц.) — Какая задница!
9 Boucherie (франц.) — мясной магазин.
10 Comtable (франц.) — бухгалтер.
11 Gueule (попул. франц.) — физиономия.
12 «Super», «vachement bien», «j'ai tes jours!» (франц. арго) — Супер, окоровительно, клянусь тебе!
13 Con (франц.) — мудак.
14 Baisable (франц.) — то есть годятся для секса.
15 Grand amour (франц.) — большая любовь.
16 Qu monté (франц.) — подготовленный трюк.
17 Ta guelle (франц.) — Заткнись.
18 Mec (франц.) — мужик.
19 Chambre de bonne (франц.) — комната для служанок; дешёвое жилище под крышей.
20 Dur (франц.) — крутой.
из сборника рассказов
«Девочка-зверь» • 1993 год
Воспоминания
Игорь и Рудольф
Париж чрезвычайно зависит от своей реки — Сены. Туристу, лишь проезжающему через город, в этом трудно разобраться, эта связь проявляется лишь при длительных наблюдениях, однако это так. Даже цвет Парижа зависит от сезонных колебаний цвета воды этой великой реки. Весной — он мутно-клочковато-грязный, так как вода несёт в себе размытые половодьем почвы, ветви деревьев, глину; зимой цвет становится серовато-стальным. Зимой великая река излучает, протекая змеёй сквозь город, серый мёрзлый цвет на его здания и в первую очередь набережные.
Сена даёт направление ветрам. Они свободно гуляют вдоль набережных и поперёк всех её мостов. Летом ветра влажные и мокрые, как в помещениях бани, весной — капризно-пронзительные, зимой — холодные, сильные, с ними приходится бороться всем телом гуляющему по набережным человеку.
Я годами шагал по набережным Сены, через все её мосты: начинал от моста мэрии до самой Эйфелевой башни. Так что для меня понятно, под каким свинцовым небом и сопротивляясь каким жестоким ветрам шёл у моста Искусств Рудольф Нуриев, когда его встретил мой приятель Игорь. Они столкнулись на набережной Вольтера.
Было утро, летели капюшоны, плащи, волосы редких прохожих. Игорь, бывший матрос с советского траулера, сбежавший через иллюминатор в Канаде и вот уже десяток лет тогда — русский художник, муж внучки французского маршала, выгуливал чёрную собачку. Метким взглядом он подцепил под кепкой идущего навстречу прохожего знакомое всему миру скуластенькое лицо. Теперь, правда, исхудавшее и словно обведённое двойной линией. В простой спортивной одежде великий танцовщик был неотличим от обычного прохожего парня, борющегося с зимними ветрами на утренней прогулке. Нахальства Игорю было всегда не занимать, весёлую непринуждённость он с себя сбросил, вспомнив, что читал, будто Нуриев тяжело болен и бежит от общения.
— Простите за беспокойство, Рудольф, но вы ведь Рудольф Нуриев?— Игорю не пришлось бежать за тем, кого он подозревал быть великим танцовщиком. Парень остановился у одного из зданий набережной Вольтера и теперь набирал код двери.
Русский язык сделал своё дело.
— Да, Рудольф…
Собака пританцовывала у них между ног, пытаясь спрятаться от ветра.
— Я — Игорь, русский художник, живу тут неподалёку, на rue de Nesle. Здравствуйте, Рудольф.
— Здравствуйте.— Они подали руки. Далее Нуриев набрал код и скрылся в подъезде.— До свидания.
Но это было не всё. На следующий день Игорь опять встретился с Нуриевым на набережной, и на этот раз они погуляли вместе с полчаса. Холодный ветер. Поднятый воротник стёганой куртки танцовщика. Глубоко надвинутое кепи. Знакомое всему миру, только уставшее лицо. Дойдя до моста Искусств, они перешли автостраду и поднялись на мост. Прошли его до самой набережной Лувра — вернулись. Постояли посередине моста, глядя в серую стальную даль в сторону Эйфелевой башни.
Игорь всегда валяет дурака, смешит знакомых, рассказывает умопомрачительные эпизоды из своей приключенческой жизни. По его словам, ему удалось тогда рассмешить и Рудольфа, рассказывая ему истории из жизни русских художников-эмигрантов в Париже, об их попойках и любовных приключениях, ревности и зависти. По всей вероятности, во вторую встречу Игорю удалось уверить Рудольфа, что он не журналист, не агент жёлтого таблоида, но простой русский раздолбай, только смелый и находчивый. Одна только история о том, как он, буфетчик траулера, разделся, намазался вазелином, но застрял в иллюминаторе в туалете траулера, помню, заставила меня сотрясаться в гомерическом хохоте. Я думаю, за месяц, последний в жизни великого танцовщика (месяц продолжались их совместные прогулки: декабрь 1992 года), Игорь успел рассказать ему не все свои невероятные истории, но большую часть их.
Обезоруженный этим чистосердечным чудачеством, парень в кепке стал делиться с Игорем своими заботами. Из Башкирии к нему добралась юная родственница, и он поселил её над своей квартирой, в квартире, также принадлежавшей ему, когда-то он хотел сделать из квартир дуплекс, но болезнь разрушила планы. Молодая родственница стала, естественно, водить к себе мужчин. Как-то бессонный, настрадавшись от скрипящего над ним потолка, Рудольф не выдержал и поднялся наверх. Застучал в дверь. Дверь открыл французский мужчина. Не понимая, кто перед ним. Приняв его за обычного соседа снизу, он оттолкнул великого танцовщика. Ну не в полицию же было идти…
Правый патриот по своим взглядам, Игорь нашёл в Рудольфе правого патриота. Оба тяжело вздыхали о развале СССР, слава богу, Уфа и Башкирия остались в составе России. (Правым патриотом Игорь и остался. Во время президентской компании Ле Пена был для него расклейщиком афиш и однажды ночью вступил в противостояние с арабским карательным отрядом. Французы-расклейщики сбежали, а он остался один против пятнадцати.)
К концу декабря Игорь отметил, что обыкновенно стремительный Рудольф ослабел. Он прогуливался теперь медленнее, и все его движения теперь выдавали очень большую усталость. Он стал мало разговаривать. Под самый Новый (1993-й) год Игорь, проводив его до двери дома, увидел, что блистательный танцовщик так ослаб, что, набрав код, не может открыть дверь. Дверь была для него уже тяжела. Игорь помог ему, прилёг на дверь. Тот вспыхнул глазами в Игоря, переступил порог и, не прощаясь, ушёл. Для человека, летавшего над сценой, эта сцена у двери была, видимо, унизительна.
В первые дни января 1993-го Рудольф не появился на набережной Вольтера. Игорь и собака гуляли одни. Шестого января французские средства массовой информации объявили, что в Париже умер Рудольф Нуриев: танцовщик русского происхождения, с австрийским гражданством, директор балета в Парижской опере с 1983 по 1989 год.
из журнала
«GQ» • №4, апрель 2010 года
Лиля Брик и Последний Футурист
«Леночке и Эдику Лимонову — не очень красивая Лиля»,— написала Лиля Брик на обороте фотографии — точнее, кадра из фильма, где она — молодая, в балетной пачке — касается рукой мужской руки. Разумеется, это рука её вечного партнёра Маяковского. Не очень красивая, потому что она явно комплексовала перед тоненькой Леной Щаповой, моей тогдашней женой.
Я никогда не был охотником за знаменитостями. Я ни к кому не примазывался и поддерживать нужные отношения не умел. Тем не менее, ко мне стали примазываться, я писал странные стихи, постепенно вокруг меня образовались люди. К Лиле Брик меня привела поэтесса Муза Павлова, жена поэта Владимира Бурича. Бурич был лысый мужик из Харькова, уехал давно, до нашей ещё волны эмиграции из города на Украине, переводил польских поэтов. Муза Павлова была похожа на ведьму из детских спектаклей, но тётка она оказалась хорошая. Потащила меня к Брик, чтобы меня «записали». «Вася должен вас записать»,— сказала она. Мы прибыли. Дверь открыл старичок, последний муж Лили — Василий Катанян, «исследователь творчества Маяковского» — так объяснила мне его Муза Павлова. Квартира была тщательно возделана. То есть обычно в квартирах стариков от культуры каждый квадратный сантиметр возделан. Даже в коридорах, кухне, туалете висят и стоят картины и картиночки или раритеты, штучки, флакончики, абажурчики, накопленные за всю жизнь. (Мне это не грозит, я столько раз лишался всех вещей и начинал сначала, что потери невосполнимы, да и судьба другая). Катанян привычно демонстрировал музей. Точнее, ненавязчиво, вдумчивым экскурсоводом указывал на особо выдающиеся экспонаты. Мыльницы Маяковского, конечно, не было, но, может быть, где-то в недрах дома и хранилась. Вдруг из этих самых недр вышло ярко раскрашенное существо. Я был поражён тем, что старая маленькая женщина так себя разрисовала и так одета. Веки её были густо накрашены синим. Я не одобрил её. Точнее, мораль моей пуританской мамы, жены офицера, самурайская простая этика семьи бедных солдат отвергла её внешний вид. Однако femme fatale Володи Маяковского оказалась умной и насмешливой, и я ей простил её пошлый (я так тогда и подумал: пошлый) вид. Катанян записал меня на какой-то сверхпрофессиональный магнитофон с бобинами, я читал долго — кажется, час.— стихи. «Я думаю, вы ей понравились»,— сказала Муза Павлова, когда мы вышли.
Через много лет, в 1989 году, я встретил Музу Павлову в Белграде. В ещё предвоенном, но уже кипящем, бурлящем от предчувствия будущих бед городе Белграде. Её, как и меня, пригласили на Белградскую встречу писателей. Я не узнал её, потому что вообще забыл об этой области моей памяти. Она напомнила: «Я познакомила вас с Лилей». Мы поговорили, и я убежал с новыми югославскими друзьями. Через два года именно эти друзья помогут выправить мне пропуска — военные «дозволы» на вуковарский фронт. Тот мир уже был чреват войной. Московскую Музу Павлову я ещё помню по эпизоду на чьей-то кухне, когда она, закрыв двери, спросила меня: «У вас нет еврейской крови, Эдуард? Совсем— совсем нет? Может быть, ваша бабушка была еврейкой?» — «Нет,— сказал я.— Ни капли нет еврейской крови». Так что моим бабушкам Вере и Евдокии не пришлось первой — бешено икать, а второй — переворачиваться в гробу. Познакомив меня с женщиной Маяковского, с легендой, Муза Павлова ушла из моей памяти, мелькнула в Белграде. И всё. Потом умерла, если не ошибаюсь.
Я не умею дружить с легендами. Может быть, потому, что сам нахально всегда считал себя легендой, даже тогда, когда не имел на это никаких оснований. Наилучшие наблюдатели «гениев», «живых легенд» и «выдающихся личностей» — это их обожатели, иногда они становятся биографами. Нужно быть профессиональным обожателем, чтобы помнить все их прелести, этих «легенд». Ещё нужно быть ниже их, восхищаться ими. А я чувствовал себя вровень, а то и выше. Это плохо. Когда они останавливали вдруг мой взгляд чем-нибудь необычным в поведении, я непременно откликался. Фиксировал. Как в случае с Саломеей Андрониковой. О ней я написал рассказ «Красавица, вдохновлявшая поэта». С Лилей Брик я бы, наверное, не встретился больше, я бы вряд ли ей позвонил, а она, наверное, не позвонила бы мне, если бы вдруг в моей жизни не появилась Елена, тогда ещё чужая жена. Жену нужно было развлекать, и я вспомнил о Лиле. Лена любила всё красивое, всё знаменитое, всё известное. И она заставила меня дозвониться Брикам.
Они вцепились друг в друга. Живая легенда, размалёванная, как в цирке, и моя «фифа», как называл её злой, ворчливый Бачурин, художник и бард, мой друг. Тогда Лена была экстравагантной, тонкокостной белёсой красивой девочкой, случайным трогательным сорняком, помесью бледного папы-профессора и тяжеловесной мамы; от мамы у неё не было ничего, от папы нос, и только. Лена носила парики, высокие сапоги на шнуровках, шубы, мини-юбки, чёрт знает что. Её можно было увидеть в толпе безошибочно. Правда, толпу она не выносила. Они друг другу подходили. Поэтому старая накинулась на молодую, а молодая на старую, а мы с Катаняном говорили о Хлебникове. Потому что Хлебников интересовал меня много больше Маяковского. Мы говорили о том, что в могиле на Новодевичьем лежат чьи-то кости, перенесённые из деревни Санталово, но вот кости ли это Велимира? Я с удовольствием вспоминал, как Хлебников бросил Петровского в степи, сказал: «Степь отпоёт» — на прощание.
Лена осуществила живую связь, у них, что называется, были общие интересы. Потому мы стали ходить к Лиле, а она стала нас приглашать. В конце концов дело дошло даже до того, что запрещавшая фотографировать себя Лиля согласилась сниматься в компании «Леночки». Фотограф «Литературной газеты» Лёва Несневич приехал с нами в Переделкино и отснял всю нашу компанию.
Перечитав только что написанное, вынужден констатировать, что я очерствел. Если б я писал эти воспоминания о мёртвых раньше (впрочем, кое-кто из них был бы в таком случае ещё жив), я уверен, это были бы более восторженные и куда более добрые слова… Я думаю, что всё-таки справедливо будет каждый раз делать поправку на время и на Лимонова, председателя Национал-большевистской партии, человека, «бункер» которого взрывали, человека, у которого люди сидят в тюрьмах, в «Крестах» и «Бутырках», умирают в бункере, убивают. Что такому Лимонову раскрашенная старушка, увиденная им в юности? Этот человек провёз как-то оружие через всю Боснию-Герцеговину, через сотни шлагбаумов и застав, и на обычный первый же вопрос многонациональных солдат «Оружие везёте?» бодро отвечал: «Нет», и знал, что да, лежит в сумке, в багажнике. Его бы неизбежно поставили к ближайшей скале и шлёпнули, если бы нашли. А он вёз. Двое суток ехал. И что такому человеку, с такими нервами культура и её мифы. И её легенды.
Лиля восхищалась Еленой, особенно её тонкой костью, её элегантными запястьями. «Тоньше я ни у кого не видела,— дальше она перечисляла каких-то давно умерших красавиц 20-х или 30-х годов.— Надо будет вам подарить одну вещь, она мне очень дорога, это память о моём отце. Вы знаете, что он был ювелир. Поставщик бриллиантов ко двору Его Императорского Высочества… Больше никому она не подойдёт, раньше она мне была впору, а теперь рука распухла от старости. Это браслет с бриллиантами, всё, что у меня осталось от папы…»
Елена видела этот браслет. Она сказала, что он стоит чёрт знает каких денег. Но когда мы в последний раз приехали в самом конце сентября (в Вену улетали мы 30-го, это был 1974 год), попрощаться в Переделкино, браслета папы Когана Лена не получила. Я полагаю, Лиле стало жалко расставаться с вещью. Вряд ли это были мотивы материального характера, что не позволили ей расстаться с браслетом. Скорее, старческая сентиментальность. Зато нам выдали несколько рекомендательных писем: к Гале Дали, к Арагону (он только что овдовел, умерла его жена, сестра Лили — Эльза Коган, она писала под псевдонимом Эльза Триоле) и к дочери Марка Шагала. Лиля и Катанян вышли проводить нас чуть-чуть. У Катаняна, на его палке, о которую он опирался, было привинчено велосипедное зеркало. «Это чтобы я мог видеть грузовики и Секретаря Союза писателей и отойти в сторону»,— смеялся сам Катанян. Мы попрощались. Оглянувшись, увидели, как они идут по жёлтым листьям в свою усадьбу, в Вечность.
В Нью-Йорке в 1975 году Бродский привёл меня и Елену к Татьяне Яковлевой (носила она уже фамилию последнего мужа: Либерман). Татьяна поразила меня тем, что оказалась сухопарой, раскрашенной, как клоун, женщиной. «Клоун!» — назвал её я. Потом я вспомнил первое появление Лили и подумал, что наш великий поэт В.Маяковский подсознательно выбирал одного типа женщин, пусть они и были разного роста и облика. Экстравагантность, светскость, яркость, аляповатость и в конце концов кинематографическая ужасность. Из экстравагантного ангела — в ведьму, в фею Моргану. Я думаю, мои женщины тоже станут такими. Лену я как-то в 1996 году увидел в Москве в трусах из пластика, в соломенной шляпе с цветами, крайне дико и дурно, не по возрасту одетую. А в мае в галерее «Реджина» в Москве я увидел вторую свою бывшую жену Наташу Медведеву — кожа да кости, затянутые в панк-одежды ярчайших цветов. Я посмотрел на неё издали и вспомнил бывших девочек Маяковского: Лилю и Таню. У женщин нет мудрости, они много суетятся.
Я забыл было, но вот вспомнил, что тогда же, в сентябре 1974 года, когда Лиля не подарила Елене обещанный браслет, Елена и я были в Харькове, я ездил вместе с ней прощаться с родителями, Елена сняла с пальца кольцо с бриллиантом и подарила его моей первой жене Анне Рубинштейн. Чем вызвала полное молчание харьковской богемы, в основном бедных людей, вместе с которыми мы тогда находились. Выпивали. На следующей неделе мы были уже в Москве, попыталась вмешаться моя мама, она позвонила и сказала: «Анька выдурила у Лены кольцо. Нужно забрать, хочешь, я заберу, сын?» — «Ни в коем случае»,— отрезала Елена, хотя я и видел, что ей было жалко кольца. Анна это кольцо позднее продала. Хотя ей и было сказано, «не продавай». Винить её невозможно, ей порой нечего было жрать. К сожалению, я не помню точной даты, когда произошло это событие, когда совершила свой жест, достойный Настасьи Филипповны, Елена. До того, как Лиля не подарила ей браслет? Если до, то, может быть, она пыталась подражать Лиле. Если после, то, может быть, это своеобразный жест морального превосходства. В первые 25 лет своей жизни Елена была способна на безумные поступки, которые делали ей честь: ушла от богатого мужа и вышла за меня, нищего, замуж, подарила кольцо с бриллиантом седой полусумасшедшей еврейской женщине. К сожалению, у Елены оказалось короткое дыхание на подвиги. У большинства людей бывает короткий и яркий период, во время которого они неотразимы, быстры, красивы, гениальны. После такой вспышки опустошённый человек живёт ещё долго, но скудно и серо, не распространяя никакого сияния.
Так что сама Лиля никак особенно меня не поразила при знакомстве. Гораздо более поразила она меня лет за пять до этого, в крематории Донского монастыря. Там в душный, если я не ошибаюсь, это был августовский день, предавали мы кремации соратника Великого Хлебникова, последнего футуриста Алексея Кручёных. Это был не то 1968-й, а вероятнее даже, 1969 год. Стране было глубоко положить на Кручёных. Только мы, молодые поэты, смогисты Володька Алейников, Саша Морозов, примкнувший к ним Лимонов, да безумная Анна Рубинштейн явились на кремацию. Кроме этого, присутствовали Геннадий Айги, поэт Слуцкий. И в самый последний момент, гроб должны были уже опускать в преисподнюю, чтобы сжечь останки, в последний момент появились — тогда стройный ещё Андрей Вознесенский в кепочке и Лиля Брик в белых коротких сапогах. Она стала на колени и положила цветы на гроб. Помню, что переживал за неё со стороны. Колени её стояли на площадке у гроба, который, я знал, должен будет вот-вот, сейчас, опуститься, а носки её белых сапог были на кафеле зала для прощаний с близкими. Я переживал, что там, внизу, они не могут видеть, что происходит наверху. Они не могут знать, что вот опоздали двое, Лиля Брик и Андрей Вознесенский. Что она в этот момент неудобно стоит на коленях, колени у гроба, ноги вне. Гвозди в это время уже забили. Два символических гвоздя.
Под оркестр слепых музыкантов гроб пошёл вниз. Вывернулись бархатные створки, закрыв яму. Я достоял до последних аккордов музыки, проверяя, что я чувствую: скорбь моя показалась мне неискренней. Мне было 25 лет, у меня были интересные друзья, вокруг Москва и искусство, Кручёных же умер совсем старым, всего лишь из живой легенды стал просто легендой. Жалеть его не приходилось! Помню, что в 1966-м, приехав в Москву попробовать «как тут?», я ел с кем-то чебуреки в «Чебуречной» на углу улицы Сретенки и Сретенского бульвара. Было известно, что Кручёных посещает эту довольно обычную и бедную, скорее, забегаловку. Кручёных мы не дождались, по когда вышли, то наткнулись именно на него: такой себе грязненький в несвежей одежде, с чёрной хозяйственной сумкой, лямки на локтевом суставе, старичок. «Алексей Елисеевич, вот молодой поэт,— представил меня забытый мною «кто-то»,— приехал из Харькова». Алексей Елисеевич поинтересовался, знал ли я Ермилова. И, к моей чести, я художника Василия Ермилова, харьковскую живую легенду футуризма, знал. Я написал об этом в книге «Молодой негодяй»; здесь, чтобы не повторяться, скажу, что Хлебников часто жил у Ермилова в Харькове, что там же жили знаменитые три сестры Синяковых (одна стала женой поэта Асеева, за другой безуспешно ухаживал не умевший ухаживать Хлебников). Сам Ермилов был незаслуженно забыт. Между тем, он был незаурядный художник. В своё время он даже должен был оформлять павильон СССР на выставке 1937 года в Париже, но впал в немилость.
Мы постояли тогда, «кто-то» (о, уже горячее!— с интересом к книжному обмену) предложил Кручёных обменяться с ним какими-то книгами, они договаривались, и потом мы ушли. До того приезда в Москву, в 1966-м, я думал, что Кручёных давно умер. Советская власть таких, как он, не афишировала. И вот, в мокром запахе осенних цветов, под рыдание музыки слепых он опускался под землю. В этом акте он преображался — из старичка в несвежей одежде он становился Последним Футуристом, персонажем Истории.
А кремация тогда началась с фарса. Анна явилась на кладбище одна, раньше нас. Увидев нас в аллее — загорелая, шёлковое платье прилипло к спине, фиолетовые глаза сияют,— она простучала каблуками навстречу нам от здания крематория.
— Где же вы шляетесь, чего опаздываете? Я уже цветы успела возложить.
— Какие цветы?— сказал я сердито.— Его ещё не привозили.
— Как не привозили? Гроб стоит, и уже собрались люди.
— Где?
— Где надо, у входа в зал для прощаний.
Мы, то есть Алейников, статный Саша Морозов, я — мы переглянулись. И пошли к зданию. Гроб был. Люди у гроба были не наши. В гробу лежал сухой старик, но его фамилия была не Кручёных. Анна страшно переживала, что положила свои георгины не на тот гроб. А мы, жестокие молодые люди, смеялись. Мы углубились в аллею, чтобы ждать, когда привезут тело Великого Будетлянина.
— Я пойду и заберу их,— сказала Анна, останавливаясь.
— Кого их?— не понял я.
— Цветы. Я же покупала их Кручёных. Чего мои георгины должны лежать на гробе какого-то чужого старика?
— Не ходи, тебя побьют,— сказал я.
— За что?
— Ну представь, подходит какая-то тётка и снимает с гроба их родственника цветы. Подумают, воровка.
— Да,— вздохнула Анна.— Они ещё на меня косились. Они все друг друга знают.
— Они решили, что вы, Анна Моисеевна, тщательно скрываемая от всех любовница старика,— сострил Морозов.
Анна ничего не сказала. Через некоторое время её среди нас не оказалось. Вернулась она с георгинами.
— Я же покупала их Кручёных. Чего мои георгины должны лежать на гробе чужого старика?— сказала она.
Кручёных никак не повлиял на мою последующую жизнь, а Лиля Брик влияла ещё долго. О том, что благодаря ей установилась связь с Татьяной Яковлевой, я уже сказал. А когда я попал в Париж в 1980 году и стал там жить, я вспомнил о её рекомендательном письме к Арагону. Я снял с письма копию (видите, я уже был осторожен, письмо к дочери Шагала пропало) и отправил по адресу. Ответа не последовало, а к телефону никто не подходил. А когда подходили, то оказывалось, что «мсье Арагона нет». А потом он умер.
Чуть позже я познакомился с поэтом Жаном Риста. Риста — член Французской компартии — издавал литературный журнал «Диграф» и возглавлял «Секцию Вижилянтов Сен-Жюста». И был душеприказчиком Арагона. Так как был его последним секретарём и последним любимым фаворитом. В последние годы жизни Луи Арагона Риста, утверждают злые языки, просто прибрал его к рукам и контролировал все его связи и встречи. Именно Риста, скорее всего, не подпустил меня к Арагону. Однако этот длинноволосый и прямоволосый дородный молодой человек с честью искупил свою вину передо мной. Он втянул меня в круг людей — членов компартии и попутчиков, к 1982 году, помню, я уже вовсю печатался и в «Диграфе», и в интеллектуальном еженедельнике ФКП — журнале «Революсьен». Когда в 1986 году умер Жан Жене, «Революсьен» даже доверил мне написать о нём некролог. Все эти связи были получены через Жана Риста, я даже ходил в те годы пару раз в знаменитый бункер ФКП на площади Полковника Фабьен, я даже познакомился с несколькими членами ЦК ФКП, с Ги Эрмье, например, он был патроном «Революсьён». Но Риста превзошёл самого себя, когда в 1986 году организовал петицию ввиду того, что мне отказали во французском гражданстве. Отказали два раза подряд. Жан сплёл тогда хорошую интригу. Его коммунисты: Шарль Лидерман в Сенате, а вот кто в Палате депутатов, какой именно депутат, не помню — депутаты-коммунисты сделали запросы министру Социальных Аффер: почему Лимонову отказано в гражданстве? Вдобавок к этому Виста организовал подписание петиции среди французских интеллектуалов — в защиту права на гражданство Лимонова. Виста, как светский человек и фаворит Арагона, знал толпы интеллектуалов. Петицию подписали: философ Деррида, старые сюрреалисты Филипп Супо и Пьер де Мандьярг, писательница Франсуаза Саган и ещё сто двадцать столь же крупных интеллектуалов. (Сейчас бы они подписали мне смертный приговор, эти люди отправили бы меня в Гаагу, в трибунал, хотя я такой же, как и был. Ничуть не хуже. Но за последние десять лет я приобрёл репутацию, какой и врагу не пожелаешь: националист, фашист, убийца мирных хорватов и мусульман в Сербии, основатель и руководитель экстремистской Национал-большевистской партии России.)
Это в значительной степени благодаря интригам Риста — ученика Арагона — плюс поддержке «Либерасьён» (эти отдали два раза по два разворота теме «Лимонов и французское правительство») мне дали французское гражданство. Пухленький начальник по специальным поручениям самого министра Социальных Аффер! (Блин, я забыл фамилию министра. Толстый и тучный такой, с тёмными кругами сердечника или почечника под глазами. А, вспомнил: Филипп Сеген). Начальник по специальным поручениям вызвал меня в старое здание министерства, там хорошо пахли натёртым паркетом коридоры, и окна были с бело-золотым обводом рам, обязательным для французских государственных учреждений. Высокий чиновник сказал мне: «Ну зачем же так, мсье! Зачем вы организовали эту кампанию против нас в прессе…» Я невинно заметил, что ничего не организовывал. Да и в самом деле, организовывал Риста, умелый интриган. «Договоримся так, мсье: мы даём вам гражданство, а вы останавливаете вашу кампанию в прессе». Я согласился, но поторговался с ними о дате. Они хотели осчастливить меня в сентябре, я требовал немедленно. И ещё хотел гарантий. «Вы не доверяете нам,— укоризненно сказал специалист по улаживанию специальных дел министра.— Не доверяете французскому государству?» Я сказал, что не доверяю. Он покачал головой. Декретом от 22 июля 1987 года я был натурализован. Риста насильно всучил меня французскому государству. Журналь «Оффисьель» опубликовал декрет в своём выпуске от 30 июля. Декрет подписали Премьер-министр (а ныне Президент) Франции Жак Ширак и министр Филипп Сеген. Представляю, как меня клял Сеген! (Только не нужно думать, что декрет на одного меня. Там толпы Труонгов, Унгов, Вангов, Хонса и Сиссоко вместе со мной натурализовали). Выйдя от высокого чиновника, я ликовал. Со мной торговалось, передо мной отступило само Французское Государство! С помощью верных друзей я победил государство.
Вспоминаю ещё с удовольствием, как каждый год, в годовщину казни Людовика XVI, на том самом месте, где она произошла, на площади Конкорд, у самой близкой к Сене и к саду Тюильри скульптуры (всего их там, если не ошибаюсь, четыре) наша «Секция Вижилянтов Сен-Жюста» праздновала «реджисид» — казнь короля. Где-то там, именно в этом месте, стояла гильотина, на которой был казнён 21 января 1793 года этот самый Луи XVI. Помимо вполне подросткового удовольствия, испытываемого нами — членами секции имени знаменитого якобинца, удовольствия от комедии казни короля, мы чувствовали и настоящий живой thrill оттого, что «правые» — какие-нибудь крайне правые монархически настроенные скины — могут явиться и наброситься на нас с железными прутьями. Я обычно шёл на сборище через сад Тюильри, рано утром, сад был холодный, холодно шумели фонтаны. Я шёл по историческим местам, по Истории и в Истории. (Наташа Медведева в это время спала, дура). На месте обычно уже играл на аккордеоне сам Жан Риста — красный шарф на шее, наши девушки разливали вино, а на раскладном столе лежала свиная голова, фаршированная винегретом. Сразу после казни короля некто «гражданин Ромео» предложил Директории ежегодно праздновать День казни Людовика поеданием в каждой семье обязательного блюда — фаршированной свиной головы. Идея гражданина Ромео принята не была, но мы, бравые члены «Секции Вижилянтов Сен-Жюста», возродили её. Мы пили вино, горланили революционные песни, потом расходились. Подумать только, я вспомнил, что занимался этим лет десять кряду. А «вижилянты» — значит, сторожа, те, кто будит, не спит, охраняет. Как с улетающего вертолёта я вижу нас всех внизу. Риста в красном шарфе, учительница Мартин Нерон, большой Фернандес Рекатала.
Я полагаю, что Риста чувствовал свою вину передо мной за то, что он не дал мне встретиться с Арагоном. Потому он так мною занимался. Письмо Лили так и не попало к Арагону. Начиналось оно так: «Наш дорогой Арагошечка…» Дальше шёл текст по-французски. Письмо я сохранил чудом. Множество фотографий, рукописей и писем погибло недавно в «cave» моего приятеля Мишеля Видо, сожжено его идиотом квартирантом, солдатом, который топил моими вещами камины (Видо уехал в Таиланд, и солдат думал, что Видо пропал там. Зачем солдату бумаги и книги!). Видо вернулся, кое-что солдат не успел сжечь. Но вот что? Праздновал я столько лет «реджисид» — цареубийство, а позднее познакомился, так случилось, с принцем Сикстом Анри де Бурбон Пармским, самым, может быть, прямым наследником Людовика XVI. Во всяком случае, знаменитый бурбонский нос покоился на его лице. Дело в том, что первый свой репортаж с войны из Югославии я опубликовал в журнале «Революсьен», а вот от второго они отказались. И я отдал его в правый журнал «Choc du mois», так я встретился с французскими правыми, с окружением Ле Пена. В 1992 году в сентябре, организуя визит Жириновского в Париж, я организовал ему встречу с Ле Пеном и с Сиксом Анри де Бурбон Пармским. Тогда же я познакомился с ним сам. Но это уже совсем не имеет отношения к Лиле Брик и Последнему Футуристу.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых» • 2000 год
«Там вдали, за бугром…»
С Синявским, думаю я иногда, я так и не познакомился. То есть я его видел много раз, здоровался, разговаривал, сидел с ним за одним столом в его доме, но не более того. Вместо этого я познакомился с Марьей Васильевной Розановой. Я помню, приехал в Фонтене-о-Роз, в пригород Парижа, на электричке (можно было назвать это и метро, и электричкой, плавно переходящей в метро) и потом добирался с сонной платформы пешком по миниатюрным улочкам, состоящим из частных домов с ухоженными деревьями и цветами. Правда, в течение следующего года эту деревенскую красоту разрыли бульдозерами, зарыли в землю какие-то трубы, но в первый год было красиво. Там можно было подумать, шагая от станции. В Париже думать было сложнее. Особенно было красиво осенью, когда к палитре подмешивалась желтизна и красный цвет.
Каменный седой дом о двух этажах в переулке, за металлическими облупленными пегими воротами. Круглый и небольшой, как таз, бассейн перед крыльцом зарос сорными растениями.
Обветшалые ступени ведут к входной двери. За большими окнами видны пачки и слои бумаги, дневной свет сочится полосами. Небрежение запустения и активность одновременно.
На стук вышла Марья Васильевна в балахоне, нечто среднее между лёгким халатом бедуина и рясой отшельника. Крупное лицо, волосы с сединой. Очки. Розанова меня напоила чаем, со мной разговаривала, переходя из кухни в большую комнату, где в недоступном мне порядке хаоса возились несколько сотрудников. Щекастая Лена Афанасьева за компьютером набирала тексты, некто Михаил, ставший позднее моим нечастым собутыльником, приходил откуда-то с грязными по локоть руками: похоже, он налаживал машину. И неохотно скрывался.
Как воспитанный азиат, я не сказал: «А где у вас тут Синявский? А покажите-ка мне Синявского?» Я ждал. Когда Синявский не появился, я уехал, оставив рукопись привезённой из Америки книги «Дневник неудачника». В следующий раз я опять приехал на электричке, опять шёл мимо пригородных садиков, опять открывал калитку в облупленных воротах, заметил в заросшем бассейне лягушек. Я опять пил чай. От диссидентских распрей я был очень далёк, я не знал, почему поссорился Синявский с Максимовым, потом мне часто приходилось осведомляться у Марьи Васильевны: А кто этот? А она с кем? Я с самого приезда в Париж сумел найти и срежиссировать довольно неплохо своих французских издателей: в ноябре 1980 года издательство «Ramsay» выпустило (по-французски, разумеется) «Это я, Эдичка», а «Дневник неудачника» я продал издательству «Albin Michel», впоследствии, следующие 14 лет, у меня появлялась минимум одна книга в год на французском, а то и две. Но русского издателя у меня не было. Именно нужда в русском издателе и привела меня на улицу Бориса Вильде, в дом 8, в пригородный посёлок Фонтене-о-Роз.
— Я дала вашу рукопись Синявскому, он читает,— сказала мне Марья Васильевна и победоносно сверкнула очками. Если бы я ей тогда признался, что книг Синявского вообще не читал, она бы, наверное, выгнала меня из дому.— Все приходят. Всем что-то от меня нужно. Марья Васильевна, сделайте, пожалуйста, то, сделайте это. Вот мне типографскую машину надо в «кав» (в подвал) устанавливать, а подвал забит. Мужские руки нужны. Не Синявского же посылать! Егорка маленький,— пожаловалась она.
Я спросил, чего там ей делать, в кав? Я сделаю. Мы спустились в подвал, он был полон обычной пригородной провинциальной рухляди: ломаных стульев, столов, чемоданов, даже дрова там были. И типографские отходы. Я снял пиджак и за день разгрузил ей кав полностью. Даже подмёл. Надел пиджак, выпил чаю и уехал. И за день труда заработал себе репутацию на всю жизнь. Марья Васильевна рассказала об этом эпизоде широким массам эмиграции. В лестных для меня тонах: дескать, трудяга, каких мало. Синявского в тот день мне опять не показали.
Только в третий раз, когда я опять пил чай и уже не ожидал никакого Синявского, он вдруг театрально сошёл по лестнице со второго этажа, маленький, с седой бородой и моей рукописью. Мы обменялись с ним рукопожатиями, и он задал мне несколько вопросов, в том числе спросил, помню, ощущаю ли я своё родство с Маяковским? Я сказал ему, что Хлебников вмещает в себя и Маяковского, и Кручёных, и Пастернака. Что Хлебников гений, а у Маяковского мне, конечно, нравится «Левый марш» и «Облако в штанах». Но особого пристрастия к нему нет, кипятком не писаю. Понравилась ли рукопись Синявскому, он не сказал, он указал на её, как ему показалось, родственников в литературе. В том числе упомянул и Розанова, и Константина Леонтьева. Марья Васильевна сказала, что «Дневник неудачника» они опубликуют. Мы выпили по рюмке коньяку.
— Лимонову можно ещё одну, а Синявскому хватит,— заявила Марья Васильевна.
— Вот,— вздохнул Синявский,— в родном доме цензурируют.
— Тебе ещё работать,— оправдалась Розанова.
С «Дневником неудачника» не получилось. Они тянули с публикацией, издательство было маломощным, на очереди стояли и книжка «Синтаксиса», и сам Синявский, и другие авторы. Во время поездки в Соединённые Штаты в 1981 году я отдал «Дневник неудачника» Саше Сумеркину в «Руссику», навестил издателя «Руссики», румынского еврея Дэйвида Даскала, и «Дневник» вышел в несуществующем в природе издательстве «Индекс Пресс». То есть в «Руссике» из-под полы в 1982 году. Позднее Розанова признавалась, что жалеет, что не смогла выпустить в «Синтаксисе» две мои книги — «Дневник неудачника» и «У нас была великая эпоха». Действительно, это, пожалуй, мои лучшие книги. Мои шедевры, так сказать. В 1982 году я закончил «Автопортрет бандита в отрочестве» и позвонил в Фонтене-о-Роз. Книжку они взяли, понравилась, обложку заказали художнику Толстому. Толстый повёл меня на набережную Сены, где сфотографировал лежащим якобы в луже крови. Шею мою пронзает кинжал или кортик, а на нём, как на гвозде,— выцветшая фотография. Имелось в виду, что я поражён прошлым. Со скрипом, частыми корректурами, медленно, книга делалась потихоньку. Я участвовал в работе. Раскладывал отпечатанные брошюрки книги, собирал из брошюрок книжки одну за одной для отправки в переплётную. Мишка, тот, что предстал передо мной впервые с испачканными по локоть руками, печатал брошюрки на типографской машине. В перерыв мы все усаживались на кухне, порою мест не хватало. Ели обычно одно блюдо, его уже с утра готовила Марья Васильевна, плюс салат и вино. Спускался со второго этажа Андрей Донатыч, обыкновенно в клетчатой толстой рубахе, после обеда он каждый раз объявлял, чтобы мы не ставили грязные тарелки одна в другую. Дело в том, что его обязанностью было вымыть посуду после обеда. В спиртном Марья Васильевна явно его ограничивала. Скорее профилактически, ибо пьяным я его никогда не видел. Однажды видел пьяненьким. Это когда я как-то приехал к ним с Натальей и мы засиделись до позднего вечера. Поужинали с ними. И я попросил Наташу спеть. Обычно она отказывалась петь без аккомпанемента, но тут, очевидно, нужное настроение было, запела. Она ещё не была тогда запойной Наташкой, с которой надо было бороться и трудно было сладить, но, выпив, становилась страстной и эмоциональной. Накинув русский платок на плечи, спиною к окну, она спела мою любимую:
«Окрасился месяц багрянцем,
И волны бушуют у скал.
Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал»,—
предлагает этакий парусный лодочник-спасатель девушке, идущей по берегу, очевидно, курортного городка.
«Кататься я с милым согласна,
Я волны морские люблю.
Дай парусу полную волю,
Сама же я сяду к рулю»,—
отвечает девица. И садится и правит в открытое море. Лодочник понимает это, когда уже поздно. На лодку наваливается буря.
«Ты правишь в открытое море,
Где с бурей не справиться нам!
В такую шальную погоду
Нельзя доверяться волнам».
И тут Наташка видоизменилась. Гордая, страстная, презрительная, низким горловым голосом она объяснила лодочнику, в чём дело:
«Нельзя, говоришь, дорогой мой,
Но в прошлой минувшей судьбе
Ты помнишь, изменщик коварный,
Как я доверялась тебе!»
И добавляет:
«Меня обманул ты однажды,
Сегодня тебя догнала.
Ты чувствуешь гибель, презренный,
Как смерть, побледнел, задрожал».
Песня заканчивается тем, что
«А утром на волнах качались
Лишь щепки того челнока».
Когда Наташка закончила песню, они молчали. У Андрея Донатовича, как у ребёнка, горели азартно глаза. Именно горели, потому что он сидел на другом конце стола, лицом к Наталье, было уже темно, горел свет и, отражаясь от окна за спиной Натальи, подсвечивал глаза Синявскому.
— Вон какая жена у вас, Эдуард, гордитесь,— сказал Синявский.
— Да я и горжусь,— вздохнул я.
— Опасная вы женщина, Наташа,— сказала Марья Васильевна.— Крайне опасная. Берегите Лимонова.
Наташа попросила вина. Если Мария Васильевна Розанова была женщиной, призванной беречь Синявского, то Наталья Георгиевна Медведева была женщиной, обречённой разрушать и себя, и своих партнёров по жизни. И Лимонова.
В тот вечер я и увидел Синявского пьяненьким. Он был много добрее, физиономия разламывалась надвое, и речь удлинялась, как при переводе с иностранного языка.
«Автопортрет бандита» вышел в мир в 1983 году. Розанова уговорила меня сменить название. Вместе мы придумали «Подросток Савенко», намеренно приблизившись к Достоевскому.
В 1985-м я, на время выскользнув из объятий Медведевой, написал продолжение «Подростка». Книга называлась «Молодой негодяй». Представленная Марье Васильевне, она понравилась ей и была напечатана в 1986 году. По выходе книги я страшным образом напился с Мишкой-типографом и потерял мои десять экземпляров книги в каком-то баре. Ещё я дико подрался, избил ногами крупного наркомана у Центра Помпиду, но каким-то чудом не попал в полицию. История эта изложена в рассказе «Обыкновенная драка». После публикации «Молодого негодяя» мы начали осуществлять следующий проект — стали набирать одну из моих книг рассказов, я тогда усиленно писал рассказы. Однако затея эта расстроилась, и не по моей вине. Я попал меж двух враждующих сторон. Одна сторона — это Марья Васильевна Розанова, вторая — художник Владимир Толстый. Я сейчас уже не помню, в чём заключалась суть ссоры между ними. Кажется, Толстый считал, что Марья Васильевна не заплатила ему за какую-то работу, может быть, за обложку или за корректуру книги, сделанную его женой Людмилой, и в ответ на это они не отдавали Марье Васильевне набор моей книги. Кажется, так. Но я, совершенно невинный, попал в эти эмигрантские страсти и некоторое время пытался примирить их между собой. Убедившись в удивительно серьёзной злобе с обеих сторон, я прекратил всякие отношения с человеком по фамилии Толстый, а от Марьи Васильевны отдалился. К тому же уже с 1982 года я стал сотрудничать с журналом «Revolution», позднее начал работать в «L'Idiot International», так что практически единственная связь с эмигрантской средой — с «Синтаксисом» — постепенно сошла на нет. В самом конце 80-х годов в Израиле неожиданно нашёлся издатель Мишель Михельсон, и у него я удовлетворял свою жажду увидеть мои тексты, опубликованные в оригинале — на русском. Михельсон — художник и типограф в одном лице — выпустил три прелестных книжки: в 1990 году книгу рассказов «Коньяк Наполеон», в 1992-м книгу рассказов «Великая мать любви» и в 1994-м — мини-роман «Смерть современных героев». У книг чудесные обложки, они эстетически красивы,— пожалуй, лучше оформленных книг у меня не было: ни из французских, да на любом языке, лучше не было. Последовал такой глубокий ров времени, лет в десять глубиной, из которого семья Синявских для меня выбралась только в 1996 году, когда они появились в Москве, в качестве соратников Горбачёва. Они участвовали в его избирательной кампании. Горбачёв, на мой взгляд,— деревенский идиот, попавший случайно в императоры великой державы, но с Синявскими, когда они мне позвонили, я согласился встретиться. Моя тогдашняя подруга Лиза, боявшаяся метро как огня (особенно она страшилась со слезами на глазах спускаться по эскалатору, подымалась много легче), сопровождала меня в этом визите. В большой интеллигентской квартире я нашёл энергичную Марью Васильевну и тихого Андрея Донатовича, в клетчатой рубахе и пиджаке. Постепенно собрались гости. Когда мы выпили, я заметил, что руки у Синявского тряслись больше обычного. Вечер мы провели во взаимных уступках, соревнуясь в вежливости. Я не трогал Горбачёва, а в неприязни к Ельцину и его режиму интеллигентская компания со мной сходилась. Происходило это всё на Ленинском проспекте. По-моему, Марья Васильевна по-хулигански наслаждалась некоторым замешательством (переходящим у некоторых в испуг) интеллигентов, вызванным моим присутствием. Было такое впечатление, что она специально пригласила меня, чтобы попугать их мною. Однако я не был настроен агрессивно. Рядом сидела девушка, которую я любил, она мне очень нравилась, а интеллигенты-диссиденты — ну что с ними поделаешь, горбатого могила исправит. Уходя оттуда, мы целовались с Лизой, ожидая такси, долго и тщательно. Я часто жалею о Лизе, у неё были отличные сиськи… С кем она сейчас? Вновь окидывая взглядом тот вечер, я вижу Синявского очень тихим и вспоминаю, что, кажется, до этого он пережил инфаркт, что ли, и потому был такой тихий и ровный. Мы сидели рядом с ним, он положил Лизе кусок пирога на тарелку. «Правильно, Синявский, ухаживай за дамами!» — одобрила Розанова с другого конца стола.
Горбачёв, которого они явились поддерживать, бесславно провалился на выборах того же года. Набрал менее одного процента голосов. Массы к 1996 году поголовно и дружно возненавидели его. И за то, что он сделал, и за то, чего не сделал. Тут Синявские оказались невинны и слишком добры и не поняли, сколько большого зла на совести Горбачёва. Конечно, он не убивал людей лично, но, кромсая по границам, отрезая Восточную Европу, создал предпосылки для войн, убийств, арестов и разгромов на огромной территории. Тут честные Синявские ошиблись. В 1993-м они верно выразили свой ужас и протест против расстрела Белого Дома и подписали вместе с заклятым своим врагом Владимиром Максимовым обращение. Наталья Медведева, тогда в Париже в проблеске сознания (я, муж, был в Москве и в Белом Доме), организовала это обращение. И примирение сторон: Максимова с Синявскими.
В 1995-м мы расстались с Натальей. В феврале 1997 года умер Синявский. В 1998-м, в марте, я расстался окончательно с Лизой, в 1998-м, в апреле, ушёл из коллектива Национал-большевистской партии Дугин. Вся жизнь — это цепь встреч, а затем расставаний и смертей.
Максимов — оппонент Синявского, редактор журнала «Континент» — умер где-то между 1993 и 1997 годами. Раньше Синявского, но, в общем, в одно историческое время с ним.
Довольно унылый человек с сухой рукой, которого я видел несколько раз в жизни, в конце концов написал почему-то пьесу «Там вдали, за бугром…», основным персонажем которой являлся некто писатель Ананасов — юный анархист и ничевок, прототипом для которого послужил Лимонов. Однако режиссёр театра Гоголя, поставивший в конце концов этот нравоучительный спектакль в сентябре 1992 года, уговорил Максимова оживить его, вставив в пьесу обширные монологи Ананасова,— целые страницы из романа «Это я, Эдичка». Спектакль так и начинается — Ананасов в военных штанах с кантом, голый по пояс, расхаживает по авансцене и декламирует куски из романа. «Мы стремились проследить судьбу русского интеллигента, писателя, оказавшегося за границей и не захотевшего стать, как все»,— сказал режиссёр-постановщик спектакля Сергей Яшин газете «Московский комсомолец». Я пришёл на спектакль, когда он уже шёл около года. Прежде чем зайти в зал, я изрядно нагрузился алкоголем в кабинете режиссёра. И к концу действия, когда объявили, что вот, герой спектакля присутствует в зале, и меня позвали на сцену, я задел за последнюю ступень, ведущую на высокую сцену, и полетел горизонтально вперёд на актёра, меня игравшего только что. На ногах я удержался чудом. А зрители, наверное, подумали, что я стараюсь соответствовать образу. На самом деле я был глухо пьян. Но хладнокровие меня не покинуло. Я пожал руку актёру, поблагодарил, и, пока зрители аплодировали, мы постояли там, взявшись за руки.
Автора же спектакля Владимира Максимова я помню ярко в первый раз в доме на рю Лористон, где помещался «Континент». По странной иронии судьбы Шпрингер, западногерманский магнат, оплачивавший счета журнала и его существование, нашёл именно для редакции здание, где помещалось в годы оккупации Парижа гестапо. Что он этим хотел заявить, неизвестно, но совпадения быть не могло. К Максимову я пришёл с разряженной Еленой Щаповой, у нас шёл второй бурный роман, возможно, это был 1980-й или 1981 год. Елена жила с мужем в Риме, но наведывалась ко мне, любовнику, в Париж. Помню смущённого, в сером костюме, серого и молчаливого Максимова. «Континент» печатал мои стихи два раза, один раз с предисловием Бродского. Печатал уже тогда, когда я стихов не писал. Делали это господа диссиденты исключительно для того, чтобы иметь возможность позднее сказать: «Смотрите, мы — свободный журнал, мы даже Лимонова печатаем!» Во второй раз редактор отдела поэзии Наталья Горбаневская сдала в печать листки с моими стихами в перепутанном виде. Так они и были напечатаны. Обыкновенно «Континент» отличался строгой грамотностью. Так они меня не любили, что даже пошли на ошибки. Когда мы уже уходили от Максимова, под одним из письменных столов увидели маленького мальчика — сына Максимова. Дело в том, что на одном из этажей дома по рю Лористон помещалась квартира Максимова, а редакция газеты — выше. Максимову завидовали, он получил в своё распоряжение большие деньги от Шпрингера. Рю Лористон начинается на пляс д'Этуаль, самый центр Парижа, Триумфальная арка рядом. У гестапо была губа не дура.
И Максимов, и Синявский попали во Францию в совсем зрелом возрасте. Лет под пятьдесят. Французского языка они так и не выучили. Английского тоже не знали. Прожили в таком временном состоянии по четверти века. Это не могло не отразиться и на их самочувствии, и на мировоззрении. Отрицая советскую власть, они постепенно стали старомодны, как белоэмигранты. Свою долю в разрушение государства СССР они, конечно, внесли. Не такую большую, как Солженицын или Сахаров, но доля была. Доля Андрея Донатыча и Марьи Васильевны меньше всех. В Синявском было больше здравого смысла и таланта. Максимова читать никто никогда уже не будет, так же как и всех остальных писателей-диссидентов. Если и есть у него крупицы таланта здесь и там, то кто их будет раскапывать? В литературе, как и во всех искусствах, выживает самый яркий. Удивительный, удивляющий. Он и получает весь банк.
Когда стало беспощадно ясно, к чему привело диссидентство, Максимов нашёл в себе мужество покаяться. В последние годы жизни он стал патриотом России. Правда, он утверждал, что и был им, но, конечно, не был: работая против коммунизма, работал против России. Подписав протест против обстрела Белого Дома, он на самом деле перечеркнул всю свою жизнь, аннулировал её результаты. Абсолютно прав оказался я, пария и изгой среди них. Изгой до такой степени, что опасно было «привечать Лимонова», как об этом написал профессор Жолковский в своих воспоминаниях о Синявском, перечисляя его храбрые поступки. Я оказался прав. Уже в 1976 году был прав. Достаточно перечитать «Эдичку» и его монологи.
Синявский — изящный, причудливый критик. Его будут читать, но как в каждой пьесе есть герой-любовник и героиня и второстепенные персонажи рядом с Ромео и Джульеттой, с Отелло и Дездемоной, так по сути роли своей, объясняющей,— Синявский сам обрёк себя на роль №2. Если говорить о посмертной славе, обожании и почитании, об истерии масс, то эти удовольствия всегда достаются героям-любовникам, трагическим брюнетам, Че Геваре или золотоголовому Серёге Есенину. Немудрёному, но в высшей степени трагичному. В их поколении Первого актёра просто не было. Солженицын тоже объяснитель, а не страстный совершатель поступков. Как я когда-то написал, «крови из раны никто из них не оставил».
Когда обиженно утверждают под предлогом святости мёртвых банальное «о мёртвых — ничего или только хорошее» — это продолжение во времени обычного, пошлого обывательского конформизма и ханжества. О мёртвых надо говорить плохое, иначе, не осудив их, мы не разберёмся с живыми. Мёртвых вообще всегда больше, чем живых. Быть мёртвым — куда более естественное состояние. Поэтому — какие тут церемонии могут быть, мёртвых жалеть не надо. Какие были — такие и были. Они имели время, всё, какое возможно. Если не доделали чего-то… ну, разведём руками.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых» • 2000 год
«Высшая» буржуазия
В самом сердце Парижа, на пересечении бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен находятся развалины аббатства Клюни, забранные в решётку. Их специально оставили такими, на римский манер, где развалины — часть жизни Рима. По сути дела, в развалинах Клюни нечего смотреть — камни и камни… Наискосок — по диагонали, там же, на углу одноимённых бульваров в доме номер 104 по бульвару Сен-Жермен находится кафе «Клюни». Рядом с кафе на бульвар долгие годы выходила витрина магазина, торгующего медицинскими инструментами. Именно здесь, на пересечении бульваров, происходили основные сцены студенческой революции мая 1968 года. Есть множество ставших классическими фотографий бурлящей толпы молодёжи, вывороченных камней мостовых, баррикад, дымков слезоточивого газа, наступающих жандармов и прочего прошлого. Если войти в ворота дома 104 и повернуть налево в подъезд, и подняться на шестой этаж, то слева от лифта была бронзовая табличка: «Roussel». Там жила семья владельца магазина и производителя инструментов. И он сам. Так случилось, что судьба связала меня с этой семьёй, и начиная с июля 1985 года я регулярно приходил в эту квартиру раз в месяц. В результате получается: в общем, я нанёс туда около ста визитов. Мсье Русселя я видел всего раза три-четыре, но мне так хотелось написать о мадам Руссель и вообще об их семье, а мадам, возможно, ещё жива, и я придумал такую военную хитрость, воспользовался прикрытием из мсье Русселя. Он-то уж точно мёртв.
Итак, voilà, история. Вот. В июле 1985 года я снял квартиру на чердаке дома 86, rue de Turenne. Розовые, заново окрашенные стены, розовый (!) паркет на всех полах, за исключением ванны и кухни, четыре окна на улицы плюс два во внутренний крошечный, наверху закрытый, двор. Старый, семнадцатого века особнячок. В квартире множество книг на полках (в гардеробной комнате, перед ванной), чёрное пианино. Мебели никакой. Цена три тысячи франков в месяц. Хозяева: небольшого росточка, черноволосая, улыбчивая Франсин Руссель и её муж или бойфренд американец Питер — должны были уехать в Америку, в Нью-Йорк, и мы срочно заключили контракт. Я подписал какие-то самодельные бумажки, выплатил Франсин 9 тысяч франков: за два месяца «секьюрити» — шесть тысяч на случай, если что сломаю или испорчу, плюс три тысячи за текущий месяц. Мы договорились, что деньги я впредь стану платить её подруге, на прощанье она поведала мне, что она буддистка одной из буддийских сект, что была даже секретаршей у её руководителя мсье Икеда, судя по фамилии, японца, они улетели, а я остался пачкать её розовый паркет и портить стены.
Когда они ушли, я спустился вниз — из окна был виден маленький магазинчик «Алиментасьен», купил бутылку красного вина и один отметил своё новоселье. Затем я уснул на двух матрасах, оставшихся мне от Франсин. Она хотела их выбросить, но так как у меня не было постели, то я их использовал ещё девять лет, эти матрацы. На следующий день я перевёз вещи и стал вкалывать. Я, морщась, закончил «Укрощение тигра в Париже». Пришла Наташа Медведева и мне позавидовала. Она всегда во всём мне завидовала. Я стал жить. Квартира мне нравилась. В дождь жёлоба, проложенные вдоль окон, наполнялись водой, и она лениво стекала потом. Летом крыша нагревалась, зимой остывала, и температура в квартире следовала сезону. В самодельных бумагах, которые мы с Франсин подписали, Франсин Руссель была обозначена как «действующая с согласия и по поручению мадам Обенк». Мадам я так никогда и не увидел, так же как и подругу Франсин Руссель. Через месяц, когда я уже было начал волноваться, куда девать мои деньги, кому платить (подруга не объявилась), позвонила из Нью-Йорка Франсин, спросила, как у меня дела, и наказала заплатить деньги в этот раз её матери, мадам Руссель, и дала мне её домашний телефон.
Я позвонил, услышал этакий худенький, хорошо обученный, высокой грамотности и определённой элегантности голос пожилой дамы. Мы уговорились, когда я приду, и я отправился. Собственно, за всю мою жизнь я никогда не имел своей квартиры, не имею и сейчас, потому общение с разнообразными, разноликими и разноязыкими хозяевами квартир или отелей стало моей как бы побочной специальностью. И в Париже с 1980-го по 1985 год я уже успел пообщаться, пожить и «иметь разнообразные отношения» с несколькими «propriétaires». Студио на рю дэз Аршив, 54 (то есть улица Архивов, поскольку была расположена рядом с Национальным архивом) сдавала мне крайне подвижная бойкая старушка мадемуазель Но. Она носила шляпки, постоянно ездила в туристские путешествия по всему миру, жила в том же доме 54, в другом крыле, и даже пару раз приглашала меня на обед, где собирались лучшие люди нашего дома: там, например, присутствовал некий усатый мсье, владелец страхового агентства «Барбара».
В ноябре 1981 года мадемуазель Но должна была поместить своего, приехавшего в Париж из провинции учиться, племянника в студио, где жил я. Но меня она не бросила, а перевела в квартиру своей сестры мадам Упп (можно читать и как Юпп) — на улицу дэз Экуфф. Мне даже не пришлось перевозить мои вещи — мы просто перенесли их, четыре писателя: Саша Соколов, Сергей Юрьенен, Дмитрий Савицкий и я — квартира сестры помещалась в нескольких сотнях метров в еврейском квартале, в Марэ. Действие моей книги «Укрощение тигра в Париже» происходит именно там. (Сейчас я лишь с удовольствием вспомню о моих незабвенных «propriétaires», или на жаргоне «proprio», о милых старушках, и пойдём дальше, один момент!) Мадам Юпп была более тяжеловесна, рассудительна и неповоротлива. Они с мужем долгое время провели в Бельгийском Конго, а потом в 60-е годы бежали оттуда, как и все белые. Тогда они жили за городом, в доме мсье Юпп, а квартиру сдавали мне за 1.850 франков. Студия на улице Архивов стоила мне 1.300 франков. Третья квартира, на рю Поль Баррель, в 15-м аррондисмане, в которой я прожил всего шесть месяцев и которую ненавидел, владельца как такового не имела, ею владела дурная фирма недвижимости. И сама эта квартира, где я прожил с января 85-го по июль, была нечеловеческая — дом из бетонных блоков, дико дорогой, населённый отставными военными и докторами — то есть обиталище средней буржуазии. В спальне — прямо над кроватью — каждое утро было слышно, как ругается между собой пара, живущая этажом выше. Квартиру и даже часть мебели я унаследовал от некоей Элен Марс, американки французского происхождения, она намеревалась вернуться в Америку. Что и сделала вскоре после этого: переехала границу Штатов из Канады. И была арестована, судима и помещена в тюрьму на Rikers Island близ Нью-Йорка за торговлю наркотиками.
И вот я шёл к матери новой «проприо». Мадам Руссель оказалась небольшого роста худенькой старой женщиной. Начнём с того, что бульвар Сен-Жермен — это очень богатый квартал, и анархисты начала века знали это, дом №102 был объектом атаки самого Равашоля. Живёт на Сен-Жермен в основном haut bourgeoisie, то есть высокая (как мода) буржуазия. Повыше рангом, чем выходцы из Бельгийского Конто. Дом и лифт меня особенно не впечатлили, но на каждой лестничной площадке было всего по две квартиры, то есть квартиры были очень большие. Дверь мне открыла горничная, португалка, я думаю. Горничная провела меня в очень большую гостиную, где царил хаос, как будто собирались уезжать или только что приехали. Горничная усадила меня за большой стол в гостиной. Впоследствии я всегда садился за этот же стол и на тот же стул. Справа от меня через многочисленные высокие окна вливался режущий свет дня. Окна выходили на балкон. Балкон сплошным кольцом опоясывал здание. Его можно видеть, этот балкон, на многих исторических фотографиях 1968 года, каждое окно сверху прикрывает красная парусина, колпачок тента. И эти красные выцветшие тенты над окнами тоже можно видеть на исторических фотографиях. Изнутри у каждого окна есть ручка, ею можно развернуть или убрать тент.
Появились два мальчика в гимназических формах. Один совсем крошечный, второй побольше. Посмотрели на меня осторожно. Удалились. Затем появилась небольшого роста, хрупкая старая женщина. Представилась: Жюльетт Руссель. И присела рядом. Я раскрыл пакет с деньгами, только что получил наличные в банке, шесть пятисотфранковых билетов, и началась первая из целой сотни наша беседа.
Я полагаю, в конце концов я стал чем-то вроде духовника или психоаналитика для мадам Руссель. Полагаю, что когда Франсин попросила её получать от меня раз в месяц деньги за квартиру, мадам Руссель наотрез отказалась. «Какой-то русский, они все много пьют, зачем ты навязываешь мне, дочка, свои проблемы,— что-то вроде этого она наверняка сказала Франсин.— Разбирайся сама!» — «Один раз, мама! Потом я найду кого-нибудь! Жанн уехала в Бретань» (воображаемая Жанн и столь же воображаемая Бретань),— уговаривала её Франсин по телефону из Нью-Йорка. Растерянно-расстроенная, поминая недобрым словом дочь и все её эксцентричные выходки, буддизм и неудачливую карьеру актрисы, мадам Руссель согласилась один раз принять деньги из рук русского квартиранта Франсин.
Я, во-первых, не имел выбора, меня никто не спрашивал, хочу я ходить к мадам Руссель или нет. Может быть, если бы спросили: кому ты хочешь отдавать деньги за квартиру, я бы выбрал семнадцатилетнюю красотку. Однако вкус к расследованию, в конце концов, возобладал во мне, как погоня у гончей собаки, и я втянулся в расследование высшей буржуазии.
А мсье Руссель был-таки из высшей буржуазии. Семейное предприятие: фирма, производящая инструменты, существовала с 1818 года и началась где-то в Швейцарии. Фотографии предков семьи в белых халатах, в очках и с моноклями мадам Руссель мне продемонстрировала. Директора клиник, военные врачи… У семьи были также предки оружейники. Руссели находились в родстве с владельцами известных оружейных заводов «Викерс» (тех, что «Викерс-Армстронг») и каким-то боком через них родственны английским королям.
Постепенно обозначились следующие параметры семьи. Мсье Руссель, краснолиций, нос картошкой, сильный, волевой, ежедневно спускался на второй этаж здания в офис и оттуда повелевал производством и торговлей медицинскими инструментами. Его зычный голос и личная энергия заставляли крутиться колёса бизнеса. Он и мадам Руссель родили четверых детей: Франсин была младшая. Ещё одна дочь Женевьев, агент по устройству выставок, конференций, старая дева, жила в одиночестве. Двое сыновей: Жак, толстый человек тогдашнего моего возраста, т.е. около 40 лет, женатый на скандальной женщине, отец двух детей. Плюс старший сын Жан (вот тут я не уверен, что его звали Жан), он работал вместе с отцом в семейном бизнесе, но, судя по оценкам матери, особой энергичностью не отличался.
Папа Руссель боялся умереть и потому превентивно потреблял непропорционально огромное количество лекарств, был мнителен и раздражителен. В тот день, когда я впервые явился к ним, он таки собирался уезжать в их дом в порту Роскоф в Бретани. В поездки мсье Руссель брал чемодан лекарств. В тот день мадам Руссель не могла найти ему нужную коробку, и краснолицый тиран так наорал на неё в присутствии горничной и детей Жака, что довёл её до слез. Потому она и задержалась в глубине квартиры, в своей комнате, пудрилась. Позднее, постепенно, беседа за беседой — после передачи денег мы сидели порою по два, по три и более часов,— выяснилось, что мадам Руссель пришлось несладко. Жизнь её в семье многие годы была испорчена свекровью — мамочкой мсье Русселя. Ранее семье принадлежали ещё несколько квартир в доме 104 на бульваре Сен-Жермен. Свекровь обитала в одной из них, ниже этажом. Судя по воспоминаниям, она была железная старуха, и мадам Руссель должна была минута в минуту спускаться к завтракам, обедам и ужинам. Несколько раз её оставляли голодной за опоздание, уже когда она была матерью четверых детей. Бывали случаи, когда свекрови не нравилось платье мадам Руссель. Свекровь во главе стола изрекала: «Вы выглядите чудовищно! Пойдите переоденьтесь, Жюльетт!» И мадам Руссель, безмолвно глотая слёзы, удалялась. Муж был противоестественным образом привязан к матери и ни разу не вступился за жену. Я думаю, она не преувеличивала ничуть. Когда она мне это рассказывала, настоящая боль была в её глазах.
— Вы знаете, когда моя свекровь умерла, я почувствовала облегчение, я радовалась… Это плохо, да, скажите мне?
Я сказал, что нет, желать смерти мучителю своему нормально.
— Но почему вы терпели эту казарму?
— А куда я могла уйти с детьми?— сказала она.— Да и его я любила и люблю, хотя он невыносимый деспот. Вы знаете, он был очень храбрый. Он женился на мне, когда ещё был курсантом в военном училище в Сомюр. Вы слышали когда-нибудь о сомюрских курсантах? Ах да, я забыла, что вы русский. Сомюрские кадеты были единственным подразделением французской армии, которое оказало немцам серьёзное сопротивление в 1940 году. Да, как это ни горько, наша великая культурная нация была подавлена и перепугана потерями в Первой мировой и во Вторую мировую драться не захотела. Только мой муж и его товарищи стали на пути вторжения бошей. Большая часть сомюрских кадетов погибла.
Я рассказал ей про своего дядю Юру, на которого, говорят, я похож. И про то, как он погиб и не нашли его кусков, так как всё снарядами было перемолото, как мясорубкой. И что мы, русские, потеряли 25 миллионов убитыми!
— Так много!— ужаснулась она.
Детей своих она тихо презирала и относилась к ним снисходительно.
— Жак слишком толст,— говорила она печально,— никакие диеты не помогают, он выглядит, как тюфяк. Почему? Вот вы с ним одного возраста, но вы выглядите лет на двадцать пять, у вас вон мышцы какие,— она как-то даже опасливо поглядела на мои обнажённые по-летнему бицепсы.
— Посоветуйте ему заняться железом, я, поскольку профессия писателя сидячая, ежедневно после работы делаю упражнения с гантелями.
— Да он не будет,— она покачала головой.— Жена заставила его ходить в клуб, она — современная, играет в теннис. Он сходил несколько раз и бросил. Сослался на занятость. Он и правда много работает.
С женой Жака у мадам Руссель бывали столкновения. В конце концов дошло до того, что они стали пользоваться летним домом в Росткоф в разные смены, чтобы не встречаться друг с другом. Изучив мадам Руссель за девять лет, я не могу увидеть её с агрессивной стороны.
— Представляете, она хочет модернизировать наш дом, разделить две большие комнаты наверху стенами, чтобы было четыре. Правда, пока муж жив, он ей этого не позволит.
Мадам Руссель подозревала, что жена изменяет Жаку. Правда, она сказала это в деликатной обтекаемой форме:
— Я догадываюсь, что она может быть неверна Жаку. Вокруг неё слишком много мужчин — партнёров по теннису…— Мадам Руссель замолчала.— Вы знаете, она ведь его бывшая секретарша. Мы были против, неравный брак, знаете. Хотя у вас в России, я слышала, все равны,— она извиняясь поглядела на меня.— У нас по закону тоже, но знаете, когда человек не нашего круга, то как-то не доверяешь ему. Не то что я не знакома с простыми людьми, но я их плохо знаю…
Дочь Женевьев пошла в мсье Русселя. Ширококостная, большелицая, в зелёном шерстяном германском пальто, агентша недоверчиво разглядывала меня, явившись ко мне на рю де Тюренн. Я угостил её кофе.
— Вы знаете, наша мать в восторге от вас. Только о вас и говорит. Вы ей нравитесь. А понравиться нашей матери невозможно. Можете считать себя особенным человеком. Мать прожила свою жизнь, закрытая, как улитка. И всем недовольная, особенно нами, детьми.
По какому поводу являлась ко мне Женевьев? Скорее всего, из любопытства, но предлогом послужила, если не ошибаюсь, протекция мадам Руссель. Женевьев работала порою со звёздами шоу-бизнеса, кажется, она хотела познакомить меня с одной из звёзд. Вот с какой, я запамятовал, так как всё равно не познакомила. Не получилось. Несмотря на ширококостность и большелицесть, Женевьев была болезненна. Через некоторое время после визита ко мне ей оперировали внутреннее ухо, операция прошла неудачно, и она чуть не отдала Богу душу. С её агентскими делами она не зарабатывала больших денег. Квартиру в районе Монмартра ей купил отец.
О Жане мадам Руссель говорила, как о тени отца.
— Я боюсь,— сказала она однажды,— что Жан не вытянет на себе завод, фирму и магазин, если муж оставит бизнес или, не дай Бог, умрёт. Он хорошо работает с мужем, он как тень повторяет его действия, но кого он будет повторять, если не будет мужа?— Она смотрела на меня, как на арбитра.
Однажды она суммировала своё недовольство детьми:
— Как вы думаете, мсье, почему все четверо, все мои дети такие получились неудачные, как бракованные?— Её большие глаза вежливо и грустно в наклоне смотрели на меня.— Может быть, мы вырождаемся?— вдруг спросила она и улыбнулась.
Я отделался тогда снимающей напряжение шуткой, перевёл стрелки на господина Карла Маркса, однако они таки вырождались, я был с ней согласен. Не она, она была что надо: рассказывая ей о литературной жизни Парижа, о своих издателях, о французских писателях, которых я встретил, я умел вызвать её смех и интерес. Она реагировала на жизнь как надо.
— Франсин, кажется, довольна своей жизнью в Нью-Йорке. Только у неё несчастье, у них погиб кот. Франсин говорит, что его убили пуэрториканцы. Вы знаете, они с Питером живут на авеню «В», и там дешёвая квартира, но ужасное соседство — пуэрториканцы. У них первый этаж, и к квартире примыкает садик, обнесённый стеной. Кот выбрался, видимо, из садика, и Франсин нашла его через неделю, раздутый труп и разбитая сплющенная голова. Ужасные люди эти пуэрториканцы, да, вы ведь жили в Нью-Йорке?..
Я сказал, что пуэрториканцы стоят на иной ступени развития, нежели Франсин. Конечно, театр Антонена Арто они не изучали, и книгу Успенского о Гурджиеве, о которой болит голова, они не читали. Встречаются всякие пуэрториканцы…
— Франсин столько раз начинала новую жизнь… вот ещё одна попытка…— мадам Руссель задумалась.— Этот маленький Питер… Вы заметили, какой он маленький? Он доучивается, делает Пэйдж Ди, так это у них называется. Потому ей и нужны ваши деньги,— она извиняющимся взглядом остановилась на мне.— Они платят из этих денег за квартиру там. Питер ничего не зарабатывает, Франсин работает в ресторане, ну, знаете, девушка, которая принимает и рассаживает… Ей не очень легко. Но она сама себе это выбрала. В который раз она сменила судьбу. Отец отказался ей помогать. Вы ведь знаете, она пыталась стать актрисой, была буддисткой, даже ездила в Японию, служила некоторое время секретаршей у пророка Икеды. Муж сказал: нет, хватит мне всего этого… Франсин чуть младше Жака, но ей уже под сорок. Буддизмом она, впрочем, занималась серьёзно… Одно время в вашей квартире даже жил у неё буддийский святой…— мадам Руссель заулыбалась.
— А, вот что!— воскликнул я.— Вот и объяснилась загадка неведомых зёрен, рассыпанных на полках в кухне. Очевидно, это святой питался зёрнами.
— Да-да,— поддержала мадам Руссель,— он привёз с собой всякие мешки с зерном…
В самом конце 80-х взбурлила, неразумно открытая Горбачёвым, как бутылка, где содержался джинн, Россия. Моё внимание всё более переключалось на северо-восток. В 1989 году я впервые съездил в Россию, тогда же в Сербию, потом были войны, я всё реже стал бывать в Париже, хотя за квартиру платил исправно на много месяцев вперёд. В результате мы стали видеться с мадам Руссель реже. В одно из моих возвращений в Париж я узнал, что умер мсье Руссель. В их квартире на Сен-Жермен стояли ящики. Мадам Руссель как бы почернела кожей и быстро ссохлась. Тенты на окнах были опущены, потому в квартире стоял полумрак.
— Ох, никак не привыкну, что его нет,— сказала мадам Руссель, когда мы сели.— Иногда утром проснусь, вскочу, думаю, ой, его уже нет, опоздала ему кофе приготовить, спустился в офис без кофе, а потом вспомню: его же нет, потому что умер он. Некому и кофе готовить.
Она выглядела очень растерянно. Крикливый тиран организовывал её жизнь, придавал ей смысл.
А теперь жизнь разваливалась, не держалась вместе. Простая операция: кофе для мужа, а вот нет её — и день остался без головы.
— Бизнес возглавил Жан,— ответила она на мой немой вопрос.— Посчитал и объявил о сокращении штатов. Половину персонала уволит. Муж знал, что надо увольнять, но не хотел, там были люди, которые с ним поколениями работали. От офиса на втором этаже фирма отказалась, дорого обходилась аренда, теперь офис перенесли в помещение завода.
— А почему так плохи дела?
— Фирма всегда выпускала высококачественные штучные инструменты для хирургии. Они стоили недёшево, однако служили долго и имели репутацию. Последние годы существует огромная конкуренция со стороны производителей более дешёвых и менее качественных инструментов… А как вы? В газетах вас здорово ругают. Вы что, собрались жить в России? Теперь это, говорят, возможно…
Потом случилось неожиданное. Дом на рю де Тюренн перешёл в руки агентства недвижимости, поскольку умерла старая владелица дома. На мой адрес несколько раз поступали письма на имя мадам Обенк с просьбой прийти и урегулировать деловые отношения. Я позвонил мадам Руссель, она позвонила Франсин. Франсин позвонила мне. Я рассказал ей детали и сообщил, что не далее как вчера приходили люди из агентства недвижимости и, поглядев на мой договор с ней, сказали, что это не более чем клочок бумаги, и что если я не представлю им мадам Обенк в течение десяти дней, они меня выставят из квартиры.
— Мне нужен адрес мадам Обенк, срочно, Франсин,— сказал я.
Выслушав меня, Франсин помолчала и сказала:
— Эдвард, я вынуждена тебе признаться. Тут с самого начала был небольшой обман. Дело в том…
— Ты хочешь сказать, что мадам Обенк не существует?— перебил я Франсин.
— Существует, во всяком случае, существовала. Где она сейчас, я не знаю. Скорее всего, умерла. Дело в том, что когда-то за определённые услуги она пустила меня пожить в эту квартиру. Квартира подпадала под действие закона от 1948 года…
— О!— только и сказал я. Квартиры, подпадающие под закон от 1948 года, стоили копейки и «proprio» не имели права повысить квартплату.
— Я брала с тебя немного,— сказала Франсин грустно.— Такая же квартира в этом же районе, в Марэ, стоила бы тебе дороже.
— Ну и что будем делать?— спросил я.
— Пойди в агентство и попробуй их уговорить сдать тебе эту квартиру.
Так я и поступил. В агентстве сказали, что я переплачивал каждый месяц 2.500 франков, что на мадам Обенк и мадам Франсин Руссель я, если захочу, могу подать в суд. И выиграю дело. Мне сделали договор на мою квартиру, и я улетел на очередную войну.
Вернувшись, я обнаружил, что чёрное пианино — все эти годы его безжалостно эксплуатировала Наташа Медведева — исчезло. «Франсин забрала»,— безучастно сказала Наташа. У неё была любовь с алкоголем. Ей было не до меня. А ещё в следующий приезд исчезли и книги Франсин.
Мадам Руссель я видел в последний раз, когда пошёл забирать те самые «секьюрити»: деньги, которые заплатил ей в 1985 году, в июле.
— Я всего этого не знала, мсье,— сказала она мне обессиленно.— Какая мразь эта моя дочка!
Я утешил её:
— Всё равно, мадам, мне нужна была квартира, и за меньшую цену я бы не нашёл.
— Вы хороший человек,— сказала она.— Из-за Франсин я вынуждена чувствовать стыд.
И она отдала мне деньги.
— Как дела у фирмы?— спросил я. Меня и в самом деле интересовало, как дела.— Жан справляется?
— Ушёл главный бухгалтер. Сам. В знак протеста, что его лишили самых профессиональных сотрудников. Жан не умеет ладить с людьми. При отце бы это не могло случиться. А у вас как дела?
— Еду на войну, в Республику Книнская Краина.
— А где это?
— Это на территории Республики Хорватии.
— Сейчас наделали много новых государств,— стеснительно заметила она.— А вам не страшно? Там ведь могут убить…
— Могут,— согласился я.— Но пока доберусь, страх пропадёт. Там интересно. А здесь — как жизнь после смерти. Когда я приехал сюда, первые 8–10 лет я был здесь эффективен. Теперь не эффективен. Пора перемещаться.
— Молодец вы,— сказала она.— Иностранец, приехали в культурную столицу мира и сумели здесь прославиться, сделать карьеру без чьей-либо помощи. Вы выгодно отличаетесь от моих детей. У них были все возможности. Они все закончили привилегированный лицей на рю д'Ассас.
Она посмотрела на меня с удивлением оттого, что лицей на рю д'Ассас не произвёл на меня впечатления.
— Это элитное учебное заведение,— объяснила она и вздохнула.— Вот, собираюсь в Росткоф,— показала она рукой: в гостиной опять стояли ящики.— Там такой хороший ветер. Когда я была молодая, мы так любили гулять у моря, когда был ветер.
Мы попрощались. О дальнейшей судьбе мадам Руссель я ничего не знаю. Когда я последний раз был в Париже, медицинский магазин рядом с кафе «Клюни» исчез.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых» • 2000 год
Матью Галей и Натали Саррот
В «Дневнике» покойного критика журнала «Экспресс» Матью Галея за 1984 год несколько страничек посвящены мне. Один из друзей прислал мне эти ксерокопированные странички. Он пространно описывает свой визит ко мне, тогда я жил на rue des Ecouffes в Париже. Недавно я наткнулся на эти странички, на своеобразный далёкий привет с того света и вот перевожу их тут.
«13 августа, Париж
Лимонов. После его книг я ожидал встретить этакого грязного хиппаря, нечто среднее между мужиком и старым студентом. Сюрприз, начиная со строения, дома на rue des Ecouffes, который ничего общего не имеет с теми жалкими нью-йоркскими отелями, которые он описывает в своих книгах. Красивый дом XVIII века в перестроенном гетто. Простая, но чистая лестница и небольшой апартмент, приятный, несмотря на ужасную мебель хозяина. Он сорока лет, но имеет облик молодого человека, очень «подключённого» (то есть современного, употреблено выражение «des plus branches»), стиль причёски 50-е, пиджак с плечами, рукава завёрнуты до бицепсов, тишотка, чёрные брюки, остроносые ботинки. Элегантность «блошиного рынка» очень в моде. Тонкое лицо, гладкая кожа, подростковые ямочки и очки. Скорее пунктуальный профессор, чем маргинал-эмигрант. И всё хорошо разложено в помещении, несмотря на хозяйские вещи. Сам он также симпатичен, очень красивая улыбка и ужасный акцент, которому невозможно противостоять. Он охотно говорит о себе, о своих книгах — ни фанфаронства, ни ложной скромности. Тип, который хорошо руководит своей богемой, и которого я тоже немедленно бы взял в свои мажордомы, будь я на месте его миллионера. Вообще, он всегда был хорошо организован, далеко от нормального. Рембо без беспорядочности, который работает свои пять часов каждое утро, как функционер. Самостоятельный с тех пор, как ушёл от своего папы-капитана в пятнадцать лет. Что не мешает ему любить военных и даже диктаторов: Каддафи его зачаровывает.
Никакого бешенства в нём, просто желание быть независимым, это всё. Именно это привело его к тому, чтобы быть там профессиональным «вором» некоторое время, затем «портным» (по-чёрному, неофициально), каковой спокойненько занимался своим бизнесом в Москве. Если бы КГБ не заинтересовался им, потому что он общался слишком со многими иностранцами, он был бы, наверное, сегодня королём системы D (теневой экономики). Но он не захотел превратиться в шпиона, и когда представилась возможность покинуть СССР, этот асоциальный тип с нею справился скорее хорошо, чем плохо. Своим призванием обязан стараниям советских функционеров.
Открыт Повером. Всегда сравнивают его с Генри Миллером, что его несколько нервирует. Он мыл (в Нью-Йорке) посуду до последней минуты, превратившись из слуги в писателя в один прыжок. Не Зиновьев, не Солженицын, и плохо рассматриваем всеми.
Дебют (начало).
Я умру в один из этих дней от экстравагантной инфекции, болезни, столь благородной, что она носит фамилию и даже дворянскую частицу. Конец».
«Дебют» означало мой дебют, моё начало. «Конец» означало его конец. Он и умер вскоре, от этой экстравагантной инфекции, он тогда уже хромал. Успев пригласить меня к нему домой на обед, на авеню Фрошо (вход с рю Массе, 26 — помечено у меня в записной книжке). Там я увидел, что у него есть слуга. На обеде присутствовал драматург Жак Одиберти — о нём я когда-то читал в советской критической книге — и ещё какие-то, наверное, очень важные, но мне неизвестные люди французской культуры.
Из приведённого отрывка было ясно, что он хорошо ко мне отнёсся и увидел меня таким, каким я и сам себя вижу — вполне положительной, светлой личностью. Действительно, очень хорошо организованной в последние четверть века.
Вот ещё что… После его визита в мой апартмент мы с ним пошли в кафе на rue de Rivoli и долго сидели с ним, болтая. К статье его обо мне в «Экспрессе», справедливо названной «Организованный бунт», имеется фотография, где я в белом пиджаке, в тишотке с изображением пуль стою на углу rue des Ecouffes, как кролик, открыв рот. Действительно, светлый такой молодой человек. Наивный даже.
А в его «Дневнике», в тех страницах, которые мне прислали, есть ещё запись начала октября, где он передаёт свою беседу с Натали Саррот. Говорили они о литераторах, она много говорит о Клоде Симоне — своём коллеге по «новому роману» (лет пять назад Симона сделали Нобелевским лауреатом), о Маргарит Дюрас (Натали Саррот с ней соперничала). Потом она заявляет, что русский язык, на котором она говорит «свободно, но как ребёнок», ей дальше французского. Затем она сообщает, что однажды писала Солженицыну, протестуя против того, что его книга показывает только палачей евреев. (Очевидно, речь идёт об «Архипелаге ГУЛАГ».) «Ох, эти русские!» — восклицает Натали Саррот (Черняховская её настоящая фамилия) и без паузы переходит ко мне:
«Это как этот маленький Лимонов! Восхитительный и очаровательный. Он мне приносил свою рукопись для того, чтобы я её опубликовала. Там у него была еврейка в книге, с чёрными волосами на пальцах, которая совершала повсюду свои надобности. Я не захотела заниматься этим. Он очень хорошо понял».
Новая романистка тут передёргивает, или врёт, или забыла. Я полагаю, она имела в виду персонаж Соню из первого моего романа «Это я, Эдичка». Однако я приносил ей рукопись другой моей книги — «Дневника неудачника», в то время «Это я, Эдичка» уже был опубликован. Об издателе я её не просил, это издатель и послал меня к ней, речь шла о том, чтобы она написала несколько слов для blurb jacket, всё та же история: издатели всегда хотят, чтоб на книге стояла известная фамилия и текст, смысл которого сводится к простому: «За качество товара ручаюсь!» Подпись: «Бродский». Или «Солженицын». Или «Натали Саррот». А ещё лучше, скажем, «Шекспир», «Данте» или «Иисус Христос». Хотя и тотально невозможно. Романистка имела в виду трогательную, симпатичную и закомплексованную эмигрантку, девочку Соню. Диковатая, советская, юная девочка не только не брила себе под мышками и там завелись кусты волос, но несколько тугих волосков я обнаружил у неё на её больших грудях. Под «своими надобностями» мадам Черняховская имела в виду несчастную сцену из романа, где бедная Соня после скитаний по улицам ночью захотела в сортир, а туалета в округе не было, и герой книги принудил её сесть в пределах заброшенного строительного участка. Бытовая неприятность, неудобство и только. А волосы брить или выдёргивать Соню не научила мама, только и всего. Причём тут Солженицын, Лимонов и русские?
Чуть менее двадцати лет тому назад я шёл к ней на авеню Петра I Сербского, шёл от метро Иена, по тротуару имперского квартала, замёрз в своём бушлатике и дивился мощным коробкам зданий. Дом №12 оказался чуть ли не самым огромным. Особенно меня впечатлили двери, размером с ворота, которые я едва отодвинул. На первом этаже (французском, т.е. втором советском) налево, сказано мне было по телефону. На всём этаже было только две квартиры. Вот в каких циклопических постройках живёт настоящая французская grande bourgeoisie,— сказал я себе. И позвонил. Открыла горничная. Испанская или португальская. Тогда в Париже было модно держать горничных с Иберийского полуострова. Так что «просто Марии» наводняли Париж.
В коридоре квартиры, как в учреждении, сновали занятые люди. На звонок вышла сама писательница и оказалась желтокожей и морщинистой старухой. Приблизившись, жёлтая кожа лица оказалась ещё и крокодиловой. Есть такое заболевание кожи, когда она трескается на крупные куски. Заболевание не зависит от возраста, есть несчастные, которых заболевание одолевает и в тридцать лет. Старуха сказала: «Bonjour monsieur», и мы перешли с ней на английский, так как французский мой был тогда ещё крайне рудиментарен. Она впустила меня в свой кабинет.
Там были, разумеется, книги по стенам, несколько растений, диваны, два или три электрорадиатора, в беспорядке помещённые по полу, пара столов и запах. Сладковатый и неприятный. Внюхавшись, я определил его как запах разогретой мочи. Писательница, подогнув ноги в чёрных брюках, довольно легко подогнув, уселась на софу и жестом усадила меня на канапе напротив. «Здесь холодно, квартира очень большая,— оправдалась она и накинула на плечи что-то вязаное — может, свитер испанской горничной.— Хотите виски?» Я, естественно, хотел виски (и сейчас тоже) в те годы всегда. Я ел мало, пить мне было не на что. Я любил ходить в богатые дома. Издательство «Albin Michel» заплатило мне аванс за «Дневник неудачника», но заплатило мало, я стоил тогда ещё мало, деньги уходили на оплату студио.
— Какое виски любите?
— Предпочитаю «Гленливет», но можно и «Шивас-Ригал» или «Джей энд Би»,— привычно ответил я. Я уже знал, что среди французских литераторов определённого возраста развито янколюбие, или, если хотите, американофильство.
«Джей энд Би» было у неё прямо в комнате, даже не пришлось звать служанку. У неё были и подходящие к виски стеклянные чаши. Мы выпили, она тоже, что я отметил как позитивный поступок, ибо по моим подсчётам Натали Саррот должно было быть около восьмидесяти лет. Выпив, я понял, как я замёрз на этих блистательных широких авеню, добираясь до её дома.
Поговорили об Америке. Запах, сладковатый, стал ещё более выразительным и мешал мне с ней разговаривать. Разогретой мочой несло всё сильнее. А может быть, она только перед моим приходом включила все свои радиаторы, чтобы согреть комнату, потому, всё более нагреваясь, они и давали такую удушающую симфонию. А радиаторы обгадили коты?
— Вы работаете в кафе? А вам не мешают посетители?— начал я с дальней целью отправиться с ней в кафе, потому что запах мучил меня. Превращался в наваждение.
— Более того,— сказала писательница.— Они мне необходимы. Без присутствия людей вокруг я, как обнаружила, не могу работать.
Вдруг она встала, подошла к столу и повернулась ко мне… с сигарой в руке.
— Хотите сигару, молодой человек?
Я радостно вскочил и принял из её рук сигару. И тотчас запалил её. Запах мочи стал исчезать в запахе отличного «Упмана».
В Россию она ехать не собирается. Она боится, а вдруг этот самый КГБ с ней что-нибудь сделает. Ведь вот какими ужасными были судьбы уехавших в советскую Россию репатриантов…
— Вас там примут с распростёртыми объятиями, мадам Саррот,— заверил я её.— Вы же не в политике! Если даже в 60-е годы они разрешили напечатать ваш роман в «Иностранке», то сейчас… (А сейчас это было начало 1982 года, скорее всего, январь, потому что «Дневник неудачника» вышел в марте 1982 года). Да вас великолепно встретят, я уверен.
— Нет, я им не доверяю,— сказала она.
Допитую бутылку (нет, мы не выпили её всю, она была початая) унесла горничная, и мы открыли вторую. Я с удивлением понял, что романистка, может быть, пользуется моим визитом, чтобы легитимно надраться. Постепенно из разговора выяснялись для меня размеры её небольшой вселенной. Французская писательница оказалась полна страхов и предрассудков. Живя за богатым мужем-адвокатом как за каменной стеной, женщина имела возможность культивировать целый огород страхов и предрассудков. Как у деревенской простой бабки, у неё их оказалось множество.
— Вам нравится Джек Лондон?— спросила она.
— Наверное… Я давно читал, в детстве.
— По типу вы напоминаете Джека Лондона,— она пристально вгляделась в меня.
Уходя, я встретил в коридоре розоволицего весёлого старикана в шерстистом пальто. Это был её муж-адвокат, у которого, я увидел, совсем не было ни страхов, ни предрассудков.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых» • 2000 год
Смерть на морском курорте
Он погиб в том же фешенебельном, богатом стиле, в каком прожил свои шестьдесят. Слепой (лишь один глаз едва-едва видел), взгромоздился на велосипед в курортном городке Довиль в Бретани, о нём много писал Марсель Пруст, об этом городке, его обильно рисовали импрессионисты. Взгромоздился, поехал, упал, ударился головой о бордюр тротуара и умер мсье Jean-Edern Hallier, фрондёр, бонвиван, французский литератор и журналист, бывший мой патрон, директор радикальной газеты «L'Idiot International». Смерть на морском курорте. Холодные устричные волны лизали его любимую малую родину — Бретань.
Передо мной на столе его последняя книга: «Силы Зла», она вышла в сентябре 1996 года, а он погиб в Довиле в январе 1997 года. Вот последняя страница книги:
«Во время, когда мне надо заканчивать эту книгу, я позвонил вчера вечером Кларе. В мою искалеченную ночь Клара, я хочу сказать — Шахерезада, напомнила мне, что проститутки Венеции мажут себе лица спермой, как кремом красоты. Это любимый писатель Миттерана — Казанова вспоминает этот спектакль в своих мемуарах: как они прогуливаются на площади Сен-Марка и медленно дефилируют к Большому каналу. Последний раз, когда я видел Клару, а это случилось тридцать лет назад на мосту Искусств,— как могло быть с Беатрис Данте на мосту через Арно. Сена текла внизу, жёлтая и мутная. Вмёртвую пьяный, я явился к ней в три утра, после того как употребит все мои телефонные жетоны, звоня напрасно другим девушкам. Она бывала почти всегда на месте, ожидая меня. Это была машина для того, чтобы кончить, готовая всегда, моя метафизическая опустошительница яиц. Она мне сказала в ту ночь, что это последний раз, когда она принимает мой визит. Но я ей не поверил. Хвастливый самец, гордящийся своей силой, я был уверен, что кину ей третью палку, и я не понял, что её решение убежать от меня было неизлечимо. Вся робость исчезла, побеждённая алкоголем, я её зло трахал, работая без конца, не уставая делать любовь па протяжении трёх часов. Я обладал ею, как никогда ранее, и диван её маленькой комнаты на пляс Фюрстенберг, плот класса люкс, был постоянно взметён непрекращающимися волнами наших разбушевавшихся чувств. Перед тем как я её покинул, я бросил ей последнюю палку в рот, как бы оказал ей высшую порнографическую честь, и заляпал по-дикому её лицо. Вместо того чтобы позволить мне уйти, она встала, желая меня сопровождать. Я должен был прибыть очень рано в Национальную библиотеку, чтобы изучить тексты ренанских (очевидно, рейнских, германских) мистиков. Это на той стороне Сены, которую она не форсировала никогда, оставаясь приклеенной к мосту Искусств. Это последний образ, который я сохранил о ней, зафиксированный, незабываемый. Её веки казались приклеенными к бровям. Она едва имела время одеться. На ногах были простые сандалии, и она была голая под платьем ржавого цвета. Её рыжая шевелюра пылала над глазами. Её кожа, белая, молочная, лоснилась от тонкого слоя исторженного мной семени, который зафиксировался навсегда, как если бы тонкий слой кристаллизировавшейся пудры дал ей блеск божественного мейкапа. Кожа покрыта этим фильтром любви и вечной юности, она стояла неподвижная, в то время как её зелёные глаза сосредоточились на мне с подчёркнутой провокацией от того чувственного безобразия, которому я её подверг. Здесь и сейчас, когда я мастурбирую, это всегда она, опёршаяся на перила, неприличная и предлагающая, кто увековечивает мою страсть. Сила звериности юного быка, которым я был некогда, зафиксирована навсегда в этом вечном видении острой и непристойной меланхолии. Читатели, отныне вы не узнаете более ничего. Из адского пота я сделал мою книгу. Ворота ада приоткрылись, они закроются навсегда на их тяжёлых дверях мрака».
Вот и закрылись. Среди прочих (в числе прочих и Фидель Кастро) книга посвящена и нам, «лёгкой бригаде, моему маленькому коллективу» редколлегии «L'Idiot» и мне лично. Рыжая немка Клара — любовь его юности, другая его любовь-ненависть — Миттеран, президент и «Принц», в макьявеллиевском смысле. Миттерану посвящена добрая половина «Сил Зла». После смерти президента и ещё до смерти Жан-Эдерна Аллиера выяснилось, что разговоры нашего патрона и его сотрудников нашей редакции «L'Idiot International» — прослушивались, и президент отдал приказ убить Жан-Эдерна. В этом позднее признался один из сотрудников французских спецслужб. Посредником заказчика Миттерана послужил Ролан Дюма, сегодня он стоит во главе Конституционного Совета Французской Республики. Причиной для столь суровой меры наказания, которой предполагалось подвергнуть директора «L'Idiot», было то, что в конце 30-х годов будущий президент-социалист состоял видным членом правой фашистской организации «кагуляров» (от слова «кагуль» — капюшон). «L'Idiot» публиковал материалы о кагуляре Миттеране ещё десять лет назад. Потому совсем не удивительно, что суровый, спокойный, насмешливый фараон Франсуа Миттеран предполагал прихлопнуть модного писателя и скандального журналиста.
А он таки был скандальным. И с самого юного возраста. Во время Второй мировой войны его отец был военным атташе Франции в Венгрии. Там в возрасте восьми лет, если верить самому Жан-Эдерну, он потерял глаз. «От русской пули»,— смеялся он, передавая мне этот эпизод. Скорее всего, так и было, но мистификация тоже возможна. Великий Насмешник, он любил вводить в заблуждение.
В дни майского студенческого бунта в 1968 году в Париже Жан-Эдерн разъезжал на красном «Феррари» и раздавал антиправительственные листовки. Позднее поехал к красным кхмерам, к полпотовцам, повёз им какие-то деньги, собранные для них французскими ультралевыми. После его приезда разразился скандал с этими деньгами. Его обвинили, кажется, в присвоении этих денег. Вряд ли он мог их присвоить, он был в любом случае твёрдо убеждён, что весь мир всё равно принадлежит ему. Жан-Эдерн мог их пропить и прокутить с красными кхмерами или без, в это я свято верю. Тогда все ездили в героические страны. Режис Дебре поехал в 1967 году к Че Геваре в джунгли Боливии и остался в его дневнике под именем «француз», посидел в боливийской тюрьме и тем обрёл бессмертие. Я полагаю, с той же целью ездил и Жан-Эдерн к Пол Поту. Что касается Режиса Дебре, то позднее я встречал его на нескольких литературных сборищах: этакий себе полусонный человечек в серых костюмах.
В 1973 году вместе с Жан-Полем Сартром и Симон де Бовуар Жан-Эдерн основал «L'Idiot International». Традиция сатирических газет во Франции сильная и давняя. Достаточно поглядеть па долгожителя «Le canard enchane», этому еженедельнику уже за восемьдесят лет. «L'Idiot» повыходил после 1973-го немного и закрылся. Жан-Эдерн возобновил его выход только в 1989 году. Тогда же он пригласил в редакторский совет меня. Я пошёл. Компания мне нравилась. Нравился Патрик Бессон — молодой автор из «моего» издательства «Albin Michel», путавшийся тогда с коммунистами, печатавший свои памфлеты и литературную критику в издательстве ФКП — «Мессидор». Нравился остроумный и насмешливый Marc-Édouard Nabe — правый анархист, нравился Morgan Sportes — его документальная книга о компании юных убийц, возглавляемой соблазнительной девицей, наделала шуму. Книга другого нашего парня — Christian Laborde — «Кость Диониса» была запрещена. Michel Houellebecq сейчас самый популярный автор во Франции. То есть в «L'Idiot» собралась талантливая компания. Некоторое время членами редколлегии состояли скандальный адвокат Жак Вержес, пролетарский певец Рено, новый-новый романист Филипп Соллерс, глава «новых правых» Ален де Бенуа. В конце концов нас «забили насмерть», разорили судебными процессами и уничтожили в атаке СМИ на национал-большевизм летом, осенью и зимой 1993 года. Я, собственно, тогда уже большую часть года проводил вне Франции. Я достаточно подробно описал это убийство в моей книге «Анатомия героя», потому не стану здесь к ней возвращаться. Властям не нравилось, что у нас в газете сошлись левые и правые. Коммунисты и лепеновцы. Я сам писал тогда, помимо «L'Idiot», для журнала коммунистов «Revolution» и для журнала лепеновцев «Le Choc du mois».
Это Жан-Эдерн заставил меня писать статьи по-французски. Газета выходила уже пару месяцев, а я так и не нашёл себе переводчика.
— Когда же ты для нас напишешь, Лимонофф?— поймал меня Жан-Эдерн.
— Проблема с переводчиком, найдите мне переводчика.
— Зачем тебе переводчик, ты отлично говоришь, во всяком случае, я тебя понимаю. Пиши, как говоришь, я сам тебя откорректирую. Давай, тащи в следующий номер.
Беседа состоялась в кафе, в двух шагах от типографии, где печаталась газета. Там же она первое время и набиралась и макетировалась. Где-то на северо-востоке Парижа. Жан-Эдерн сидел в мятом шёлковом костюме, очень дорогом, на столе стояли несколько пустых рюмок, на колене у него устроилась пухлая школьница Элизабет, а вокруг на пластиковых стульях расположилась редколлегия.
Меня тогда только что высмеяли за мой письменный французский моя литагентша Мэри Клинг и директор коллекции в издательстве «Фламмарион» — Франсуаз Верни; потому я боялся быть поднятым на смех второй раз. Дело в том, что я принёс план книги «Дисциплинарный санаторий» двум эти женщинам, написав его по-французски. Они качали головами и улыбались.
Попотев над текстом, назывался он «Две Сибири», я принёс его Жан-Эдерну в типографию. Наверху, в июльской жаре, при открытых окнах состоялось моё посвящение во французские журналисты. Я даже помню, что там были металлические дачные стулья с дырочками, настолько необычно я волновался, застревая взглядом па деталях — на этих дырочках. Я отдал Жан-Эдерну текст, всего две страницы, он надел очки и стал читать. Помню, что я старался не смотреть на него, настолько меня объял ужас. Я ожидал, что он сейчас засмеётся, позовёт народ, и все они посмеются, насколько же невразумительно глуп мой текст. Но он только два раза спросил у меня: «Что это?» Я два раза вставал и с облегчением объяснял ему, «что это». Это были смысловые непонятности. Закончив читать, Жан-Эдерн позвал девушку «клавиетку» (то есть наборщицу — ту, что ударяет по клавишам, набирали на компьютере) и отдал ей текст. «Выйдет в следующем номере»,— только и сказал он. Я чувствовал себя, как очень отсталый школьник, диктант которого только что проверили и, против ожидания, не нашли ошибок. Я чувствовал себя больше чем школьник. К тому времени были опубликованы, наверное, уже десять моих книг во Франции, но я (за исключением выхода первой) никогда так не дёргался. Я готов был расцеловать потного, воняющего алкоголем Vieux («старика», так мы за глаза называли патрона). Дал, что называется, путёвку во французский язык.
Статья вышла в №13 «L'Idiot» 2 августа 1989 года. Я не утверждаю, что в ней не было ошибок. Конечно, наверное, были перепутанные времена, может быть, артикли, роды слов. Но всё это было читабельно, остальное исправила «клавистка» по ходу набора. Я в тот день хорошо выпил за здоровье Vieux и своё новообращенно. Так я стал, с его лёгкой руки, французским журналистом. И, может быть, пошёл бы далеко, если б не выманила меня оттуда моя старая Родина. Так и вижу его, в холщовых брюках, каких-то тапочках, одна под стулом нога переплела другую, чудовищные ногти больших пальцев, жёлтые, как рог животного, рубашка-поло — расстёгнута, дужка очков перебинтована.
У его жены была квартира на пляс де Вож — это исторический культурный ансамбль из одинаковых старых домов XV века, квадратом окружающих сквер, в котором стоит памятник Людовику XIII — тому, что поощрял мушкетёров. Когда-то этот же Людовик принимал на площади военные парады. Один из домов принадлежал кардиналу Ришелье, и перед его окнами после запрещения дуэлей отмороженные французские аристократы скрещивали шпаги в знак протеста, а потом на Гревской площади им за это рубили головы. В одном из домов па пляс де Вож жил Виктор Гюго, ещё один дом купил для себя велеречивый и позитивный (чем-то напоминающий российского Немцова) министр культуры у Миттерана — Джек Ланг. В общем, эксклюзивное место. Воняет историей. Я назначал там свидания у статуи Людовика лет десять подряд. Дело в том, что я жил совсем рядом. Выйдя с площади на рю Франк Буржуа (переводится как «улица Честных обывателей»), следовало сразу повернуть налево на «мою улицу» — на rue de Turenne, и через несколько минут я был дома, дом стоял на пересечении rue de Turenne и улочки Капустного моста. (Конечно, никакого моста и никакой капусты). Так что когда Жан-Эдерн решил, что для большего сближения редакционного совета нужно нас приглашать еженедельно к себе на пляс де Вож, кормить и поить, то я стал ходить к нему еженедельно. Было удобно. К тому времени у него были плохие отношения с женой, повсюду открыто демонстрировала свои юные прелести высокая и крупная Элизабет, потому он вёл уже, в сущности, холостяцкую жизнь, окружённый алжирской кухаркой Луизой и секретарём Омаром. Похожий на улыбчивого марсианина — глаза всегда до упора распахнуты, рот тоже,— Омар возил Жан-Эдерна на мотоцикле или в автомобиле. Как водится, Луиза и Омар дружески переругивались. Третьим неизменным персонажем, сопровождающим Жан-Эдерна, был его брат Лоран — бизнесмен P.D.G (генеральный директор, по-нашему). Чего он был генеральный директор, я так и не узнал, но он был верным братом и, я думаю, угрохал немало денег на затеи своего единокровного.
Еженедельные же сборища проходили весело и шумно. Обычно Луиза готовила что-нибудь простое: макароны с мясом, обязательный салат в огромном тазу, выпитые бутылки вина исчислялись десятками. Кроме членов редакционного совета, приходили все авторы, какие-то спецприглашённые. Один раз был Пьер Карден, часто бывал Франсуа Хилсун, глава издательства «Мессидор», бывали адвокаты, члены Французской академии, даже был человек, поменявший крышу в замке Аллиеров в Бретани. Сам чрезвычайно остроумный, любитель пряных выражений и очень литературный, Vieux не выдерживал всеразрушающего скепсиса тандема Патрик Бессон — Марк Эдуард Наб. Этим удавалось заставить нас хохотать постоянными шквалами. Хотя газета называлась «L'Idiot International», на самом деле я был самый international, были, правда, и американцы, некая Мэри Мортимер, помню, но они появлялись и исчезали. Я был постоянен, как и сейчас. Моё постоянство в выборе дела, которому ты служишь, и людей, с которыми ты идёшь, уже доставили мне в жизни немало неприятностей. И ещё доставят. Но я горжусь, что участвовал в авантюре «L'Idiot» и был там «не из последних удальцов», а из первых. Как сейчас восхищаются авантюрой «сюрреалистов», или экзистенциалистов, или «ситуационистов» (Ги Дебор стал легендой), так не меньшее право на легенду имеем мы, ребята из «L'Idiot». Мы шли впереди своего времени. Нас будут изучать в школах.
Дверь на балкон бывала всегда распахнута. На балконе под пальмой сидел деревянный, в натуральную величину негр. Внизу туристы с подобострастным обожанием подымали головы на наш балкон. О, где вы, златые дни! Сейчас тоже златые, но всякий раз нужно чуть-чуть расстояния, чтобы дни заблистали.
Ещё один эпизод с ним, когда в машине маленького, как Мук из сказки, ужасного фракционера, члена компартии Марка Коэна (он тогда стал главным редактором «L'Idiot», а Жан-Эдерн стал директором) мы поехали в Бретань, в замок Аллиеров. Мы, потому что поехала и Наташа Медведева. Это было в 1992 году, в короткий перерыв между войнами. В авантюре «L'Idiot» Наташа не участвовала (или мало участвовала: кажется, одна или две её статьи всё же были опубликованы) из ревности. Я думаю, она и сама не могла бы и не может ответить на вопрос, почему не участвовала. А вот я могу. Там никто не занимался женщинами. Там высмеивали весь мир, пили винищу, хохотали и обращались с женщинами, как с «копэнами», то есть с товарищами. Наташа же хотела старомодного поклонения или желания её со стороны «мужиков», поэтому, что ей там было делать?
Генералы и священники выходили из семьи Аллиеров. Деревушка Эдерн, попавшая в имя Vieux, была как бы их наследственным доменом. Правда, защищаясь от обвинений в антисемитизме, яростный Жан-Эдерн однажды бросил своим обвинителям, что у него мать еврейка и что якобы у Аллиеров был обычай брать в жёны евреек. Но пресса проинтервьюировала его отца, генерала, и тот в гневе отвечал, что выпорет сына, а все мужские предки, предполагает он, перевернулись в гробах от кощунственного заявления его сына.
Близ деревушки Эдерн находился замок Аллиеров. Он стоял, как ни странно, в низине. И представлял собой этакий массивный комод, по двум сторонам сохранились остатки вала, всё это обильно поросло различной, как сейчас говорят, «зелёнкой» и шелковицей. Там были даже грибы во дворе! Как утверждал хозяин, над замком — микроклимат, собираются облака и постоянно идёт дождь. Бретань страна суровая и красивая, постепенно превращённая цивилизацией в курорт. Однако каменистая почва, суровые каменные надгробия, окружающее Бретань суровое море сообщают ей нахмуренный и неприветливый вид. Южная Бретань чуть приветливее.
В замке нас встретила Луиза. Из каменной прихожей каменная винтовая лестница вела вверх. Слева и справа — были два здоровенных зала с такими циклопическими каминами, что в каждом внутри по сторонам были две скамейки. Обжитым был только зал слева. Там мы нашли Луизу, Омара, Жан-Эдерна в очках, который в этот вечер ожидал в гости соседа Ле Пена. Денег у него никаких не было, поэтому он уговорил Луизу занять ему денег. Ле Пену нужно было устроить обед. Нормальная история — обнищавший, разорённый социалистами аристократ занимает деньги у служанки. Мы похлопали друг друга по спинам, Жан-Эдерн поцеловался с Наташей (30 марта случилось это несчастливое нападение на неё, рука у неё была на перевязи и в дощечке, лицо в шрамах, пить ей было нельзя — чувствовала она себя дерьмово).
Нам показали замок. Везде дичайшим образом дуло — перманентный сквозняк. Многие стёкла в гигантских, состоящих из отдельных рамок, как пчелиные соты, окнах отсутствовали. Жан-Эдерн сказал, что нужно, по меньшей мере, 800 тысяч франков только на замену дряхлых рам и окон. Под спальню нам отвели огромную залу на втором этаже, над гостиной и кухней. Чудовищного размера постель, какие-то шкафы, портреты и холод плюс перекатывающиеся под ногами гигантские половицы — всё это походило на пещеру бабушки людоеда. А в остальном это был настоящий замок. Было даже привидение — толстый Альберт, участник одного из Крестовых походов. Я, правда, сознаюсь, так его и не увидел. Мы выпили несколько бутылок и отправились в рыбацкий городок, куда ожидалось прибытие траулеров с лова. Ле Пену решили приготовить рыбу.
Траулеры вышло встречать всё население. В дымном море из светлого неба моросил дождь. Показались вначале мачты, продетые сквозь тучи чаек. Эти прожорливые паразиты ором возвестили о кораблях раньше, чем мы их увидели.
С траулеров стали свозить рыбу прямиком на рыбный оптовый рынок. Какой-то местный начальник не хотел нас пустить, и Жан-Эдерн устроил с ним французский скандал. С удовольствием вспоминаю его, бронзоволицего, высокого, клок волос треплется у очков, холщовые брюки, рубашка, сандалии, и сквозь них — ужасные роговые жёлтые ногти. Слова «республика», «французская литература», «семья», «Бретань» так и летели у него со слюной в сторону чиновника, хотя речь шла, как оказалось, даже не о рыбе, не о рынке и не о нас. Оказывается, свой автомобиль (наш мы запарковали поодаль) Жан-Эдерн запарковал на паркинге местных рыбных чиновников. На самом рынке: розовые чудные креветки, скользко-серебряные рыбищи, древние крабы — всё это покоилось в пластиковых белых корытах, и некие типы с блокнотами и карандашами за ухом, в фартуках, орали цифры. Толпа покупателей подымала пальцы. Торговля не шла, но летела. Луиза выбрала нужную нам рыбу.
Ещё один эпизод, на пляже, спустя несколько дней, когда вышло солнце, жёлтое, как маргарин, и не горячее. Лёжа у воды, глядя на меня, Vieux сделал мне комплимент. «Он отлично сложён, твой мужик»,— сказал он Наташе. При этом он употребил два жаргонных словечка: «вашман», которое я перевёл как «отлично», на самом деле было модным тогда эпитетом, оно бессмысленно, «ваш» — это корова. Примерно как у нас говорят «пиздатый». Второе словечко «мэк» — я его перевёл как «мужик». То же, что и «мэн» по-английски.
У него были манеры феодала. Он заводил себе фаворитов. Потому я старался не очень к нему приближаться, хотя он мне нравился. Он был похож одновременно и на героя книг Скотта Фицджеральда, персонажа какой-нибудь «Ночь нежна», с добавлением скандального взрывчатого американского типа журнализма. «L'Idiot» предвосхитил многие скандалы. О «кагулярстве» Миттерана мы заявили первыми, так же как о незаконных детях Миттерана и актёра Ива Монтана. Мы счастливы были считать, что это «L'Idiot» свёл в могилу Шарля Эрню, бывшего министра обороны, умершего через две недели после того, как мы опубликовали ксерокопию документа начала 40-х годов, свидетельствующего о том, что Эрню состоял в фашистской организации.
При всём при том Жан-Эдерн был феодалом. Сварливым, когда его что-то не устраивало, предательским, вероломным. Он платил нам как мог, иногда я получал пять тысяч франков за статью, а порой месяцами не получал ничего. Он носил белые фуляры, сидел в дорогих ресторанах, был жутко светским, знал весь Париж, спал со школьницами, пил свою водку до посинения. Точнее, он был всегда привычно пьян. Вставал он ужасающе рано, в 6 часов, и отправлялся на завтрак в кафе в сторону, противоположную от пляс де Вож. На рю де Сент-Антуан. Кафе называлось «Мушкетёры». Я думаю, он пил с утра. Но его хватило на шестьдесят лет, и умер он не от этого.
Как ни странно, умер он от последствий политических преследований. В 1991–94 годах я бывал в Париже всё реже, хотя держал там квартиру, и жена моя, с которой мы всё более отдалялись, жила там. В один из приездов братва из «L'Idiot» вызвала меня защищать апартмент Жан-Эдерна на авеню Grande Armee (Великой Армии) — в фешенебельном квартале в 16-м аррондисмане, где жил Vieux после того, как разошёлся с женой. Судебный пристав должен был прийти и описать апартмент. За долги «L'Idiot», не за долги Жан-Эдерна. К зданию на авеню Grande Armee собралась толпа. Все «наши». Несколько академиков из Французской академии, авторы «L'Idiot», туча журналистов, просто ребята с окраин, все, кому он был дорог и любопытен, плюс его адвокаты. Судебных приставов Жан-Эдерн не пустил. Силой. Не пустил даже в ворота, в само здание, хотя сам он жил на последнем этаже.
Через несколько дней после очередного судебного заседания (с нас продолжали требовать деньги эксминистр Жак Ланг, адвокат Миттерана Кижман и другие могильные черви) он внезапно потерял зрение второго, живого глаза. Осталась какая-то 1/60 часть от нормального. Я видел у него спецтелефон с огромными цифрами. И лупу, через которую он смотрел на телефон. Но это не конец его истории. Он вылез, стал дружить с Шираком (у него всегда были широкие связи с правыми, с крайне правым Ле Пеном, с мэром 15-го аррондисмана). Его книга «Потерянная честь Франсуа Миттерана» (в своё время её неуспешно, в форме газеты, издавал «L'Idiot») стала бестселлером, продано было более 300 тысяч экземпляров. Когда Ширак пришёл к власти, Жан-Эдерн стал шоуменом. Он вёл две телепередачи: одна из них литературная. В последний мой приезд в Париж (я жил уже в Москве) он пригласил меня на свою телепередачу. Там присутствовал старый, как камень, Жан Марэ (но очень достойный), какой-то ирландский нобелевский лауреат, остальных не помню.
Вспомнился ещё один забавный факт. Когда в 1992 году в Париж, приглашённый на Форум в Сорбонне под названием «Куда идёт Восток?», приехал полковник Алкснис, я поместил его у Жан-Эдерна Аллиера, на авеню Великой Армии, в пустующем апартменте на том же этаже, что и апартмент Vieux. После Омар и Жан-Эдерн с восторгом вспоминали, как «чёрный полковник» спал, а рядом стояли его коричневые ботинки из пластика.
«Силы Зла» также имели ошеломляющий успех. Подводя итог его жизни, можно вспомнить эпизод в зале «Мютюалите», я не помню точно, было это в 1990-м или 1991 году, но было в момент наибольшего успеха «L'Idiot», когда нас начали продавать в лицеях, с рук, а общий тираж некоторых номеров достигал 250 тысяч, это для Франции с её 56 миллионами жителей! Мы тогда сделались культовой газетой, единственной, говорящей всю правду в ансамбле: и левую правду — её говорили Жак Димэ или Марк Коэн — коммунисты; и правую — её говорили Ален де Бенуа, некоторые авторы газеты «Минют», Марк Эдуард Наб; и культурную правду (Жан-Эдерн ещё в 1974 году основал Антигонкуровскую премию). И вот осень, ноябрь, кажется, и зал «Мютюалите» набит людьми. «Такого не было с 1968 года»,— говорит служитель с восторгом. Пришли и старые, разуверившиеся в осторожной политике ФКП коммунисты, и радикальная молодёжь, и правые скин-хэды, и одинокие народные мстители. Все пришли, как оказалось в ходе вечера, на политическое сборище. Они, бедняги, стали видеть в нас, в «L'Idiot» — политический авангард. Они явно хотели, чтоб мы их возглавили и повели громить это пресное и по тому отвратительное общество. Да, отвратительное — несмотря на все исторические красоты Прекрасной Франции.
И тут оказалось, что этой роли многие из наших испугались. Не пришёл в «Мютюалите» «пролетарский» певец Рено, не появился попутчик коммунистов, мой друг Патрик Бессон, не пришёл правый Наб и многие другие. Жан-Эдерн пришёл, но поручил вести собрание Марку Коэну, дёргался. На вопросы зала отвечал ёрнически, закончил всё буффонадой. Он, как сказал мне Омар, боялся бейтаровцев: те якобы послали ему предупреждение, что приедут и разгромят зал. В отличие от России, во Франции «Бейтар» действительно какое-то время существовал, хотя высовывался не часто, избивал ревизиониста Форрисона (отрицающего существование немецких газовых камер) и ещё какие-то мелочи совершал. То есть выяснилось, что, имея мужество интеллектуальное, феодал не имел мужества физического. Мы оказались в тот вечер ниже зала. Я уверен, что тогда, ни много ни мало, в зале «Мютюалите» решилось будущее Франции: народ хотел, чтобы мы запустили новую лево-правую партию, а у бравого сообщества лево-правых журналистов не хватило храбрости, желания, силы духа. Жан-Эдерн укатил, сидя на мотоцикле сзади Омара, впившись руками ему в спину! У того потом были синяки! И осталась Франция без нового политического движения. Вот прошло семь лет после нашего окончательного разгрома в 1993 году, но настоящий саморазгром мы себе учинили раньше, в зале «Мютюалите». Больше всех виновен, конечно, Vieux. Или мама, родившая его.
Надеюсь, что сидит он сейчас в Аду, стаканчик с водкой, пухлая школьница на колене. Как-то в такой же позе он сидел в кафе «Липп» в компании его брата, меня, журналистки Фабиенн Иссартель. Мы так сидели в баре за столиками, а из ресторана, из глубины, вышел в горчичном пальто (у Vieux тоже было горчичное) развесёлый Шарль Трене лет так около девяноста, со свирепым черноволосым не то охранником, не то любовником.
Шарль Трене был из Эпохи Гитлера и Эдит Пиаф, далёкий, как Крестовые походы. Жан-Эдерн остановил Трене и побеседовал с ним. Представил «Поющему дурачку» (такое у него было самопрозвище) нас всех по очереди. Я пожал ему руку.
Всё это было не так давно, но быстро становится далёким, как Крестовые походы.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых» • 2000 год
Балканский писатель
На обеде у моего издателя Ивана Набокова в семейном особняке Жоксов на набережной Часов (quai d'Horloge на самом деле переводится: большие часы, башенные часы), в двух шагах от средневекового «Нового моста», я познакомился с пьяной светской дамой. Там у Набоковых все сидели за отдельными столами, и мы с ней оказались рядом. То был ещё 1981 год, и я говорил исключительно по-английски. Потому Жаклин де Гито и посадили рядом со мной, она свободно говорила по-английски.
В окнах особняка семейства Жоксов плескалась мутная река Сена. Если пойти по набережной направо от особняка, то через несколько сот метров стоят исторические башни тюрьмы Консьержери, а за ними Дворец Правосудия и средневековые лабиринты зданий, набитых французскими ментами. (Там, во Франции, «менту» соответствует слово «флик».) Ментам во Франции отвели самое центровое и дорогое место — на острове Ситэ, там, где, собственно, и возник Париж. Напротив Дворца Правосудия помещается префектура полиции. А рядом Нотр-Дам и Госпиталь Бога. Что касается башен Консьержери, то под ними и под Дворцом Правосудия до сих пор помещается следственная тюрьма. Говорят, вонючая и отвратительная (рядом средневековая канализация), не лучше наших «Крестов» или «Бутырки» — правда, там у них посвободней, такой, как у нас, скученности нет. Я всё это поясняю, чтобы стало понятно, что эта за семейка — Жоксы, раз живут в таком месте. Иван Набоков — мой издатель и литературный директор издательства «Albin Michel», хотя он и племянник Владимира Набокова — знаменитого писателя — и сын музыканта Николя Набокова, сам Иван никогда бы, конечно, не заработал на такой особняк. Но он женился на Клод Жокс, дочери старого Луиса Жокса — соратника Де Голля, министра, посла и всё такое прочее, короче, знатного вельможи. Брат Клод — Пьер Жокс, очкастый коренастый типчик, не стал голлистом, а пошёл к социалистам. В описываемое время (в марте 1981 года социалиста Миттерана избрали Президентом Французской Республики) Пьер Жокс стал министром внутренних дел. Впоследствии он переехал из особняка, где занимал верхние этажи, в апартаменты, предоставленные государством, где его было легче охранять жандармам. А сразу после его назначения у особняка на тротуаре поставили наряд полиции.
Когда мы с пьяной вдребезги графиней Жаклин де Гито вышли из дома №39, она резко и конвульсивно махала сумочкой, и «флики» с их автоматами одобрительно зацокали языками. К счастью, жила она рядом, на рю де Савой. Так что я транспортировал её по ночному Парижу (мы ушли последними, по-моему, изрядно утомив хозяев) без крупных проблем. Хотя мелкие были.
Это я уже потом узнал, что Жаклин — графиня из старого бургундского рода, и, в отличие от всяких смазливых птичек, она не получила титул, выйдя замуж за графа, а получила его от графа папы. Это я уже потом узнал, что она была женой известного издателя Кристиана Бургуа и вместе с ним была замешана в скандале, известном во Франции как «афера Марковичи» (впрочем, французы произносят «Марковики»). Марковичи (или Маркович, теперь уже трудно разобраться, как писалось это имя) был телохранителем известного киноактёра Алена Делона и однажды был найден мёртвым. Полиция стала копаться в этой смерти и раскопала весёлую компанию, развеивавшую скуку жизни оргиями, или «партузами», как их называют во Франции. В числе участвовавших фигурировали Ален Делон, Кристиан Бургуа, его юная жена Жаклин и… президент Французской Республики Помпиду… «Афера Марковики» произошла в самом конце 60-х годов, но она до сих пор волнует французов своей очаровательной смесью убийства, похоти, власти (Помпиду), яркой славы (Делон) и юной красоты (Жаклин, да и Делон). Таща её через Париж, я всего этого не знал. Это был 1981 год, значит, ей могло быть лет 20–25, когда Помпиду стал президентом в 1969 году, а умер в своём офисе, внезапно, в 1974 году, следовательно, в момент нашей встречи ей было от 32 до 37 лет. Физиономия у графини де Гито была, конечно, испитая: некоторые набряклости «мешков» под глазами, какой-то напряг с шеей, но у неё была отличная фигура высокой аристократки и большие шикарные сиськи при тонкой талии. На лодыжке правой ноги она носила цепочку. Волосы она красила в цвет красного дерева — такой цвет волос меня раздражал, помню.
Вообще, в ней была оригинальная смесь пьяндыги и деловой женщины, аристократки и алкоголички. Мы ложились с ней в чудовищное корыто из дерева, обшитого кожей,— подарок безумного дизайнера, с него съезжали все простыни, а простыни у неё были шёлковые — чёрные и фиолетовые, класс, а не простыни! Люкс, мечта… Эстетство, куда там «Плэйбою»! На ночь возле кровати она ставила литровую бутыль рабоче-крестьянского пива с ядовито-зелёной этикеткой. За ночь она успевала осушить бутыль. Она работала в фирме «Нина Риччи», помощниками у неё были смешные гомосексуалисты. У «Нины Риччи» она занималась аксессуарами. Целая комната в квартире на рю де Савой была увешена одеждами Жаклин. Во множестве рядов на тремпелях висели платья, костюмы, брюки, блузки. Внизу под одеждами теснились шеренги туфель. Большую часть этих вещей она не покупала или покупала у друзей, известных дизайнеров, за смехотворную цену. У неё там висело немало и полосатых зебр от Сони Рикель, зебровых её одежд. Однажды мы с ней сходили на обед к писательнице Реджин Дефорж, там мы встретили уже пожилую Соню, «Старой девочкой» я её назвал про себя. Куст рыже-седых волос, брюки, объёмистые груди под раздутой розовой блузкой и некий Пьер, черноволосый, сладкий, в бархатной куртке, не то любовник, не то телохранитель, не то сотрудник. Вероятнее всего, всё вместе. Яркие сочные губы Пьера и бледные промокашки у Сони, помню, меня озадачили.
Югославский писатель Данила Киш тогда ещё не появился. Он вообще появится после меня, Жаклин подберёт его, по-моему, там же, где я подобрал её, у Ивана Набокова. А в тот вечер нашего знакомства я её выебал с удовольствием, надо сказать, держа за большие сиськи. У неё был хороший зад, отличные ноги. Она была излишне загорелой, ну и физиономия, об этом я уже говорил.
Сжимая меня в объятиях (иначе не скажешь, именно сжимая), она счастливо повторяла: «Му muscular man… my muscular man»,— очевидно, в отличие от её прежних любовников, я был мускулист для неё. Мы стали с ней встречаться. Рю де Савой находится в Латинском квартале, чуть в стороне от оживлённой днём и ночью рю Сент-Андре дез-Арт. Окна её спальни выходили во внутренний сад и с той стороны были обвиты плющом. Квартира скрипела старым паркетом, хорошо пахла не только духами Жаклин, но и каким-то слабо-огуречным запахом. Очевидно, это пахло так одно из её растений. Растений было изрядное количество, некоторые были очень большие.
По её словам, растения принадлежали её брату, одна из комнат — также (она мне показала её), но брат здесь давно не жил. Вряд ли было иначе. Всего было не то шесть, не то семь комнат драматически неравной величины.
Она пришла ко мне на улицу Архивов, первую мою квартиру в Париже — это была длинная, как трамвай, комната: камин, два окна впереди, хвост трамвая утопает во тьме, ванна сидячая, туалет работает, как насос: по длинной узкой трубе он выкачивал дерьмо в широкую вертикальную трубу канализации. Она принесла мне бутылку виски и большой, как одеяло, чёрный шарф из кашмирской шерсти. Шарф был тёплый, от знаменитого дизайнера, но я его очень скоро потерял, о чём сожалел. Она наполнила мою студио запахом духов, и мы, высадив бутылку, стали ебаться.
Она, я думаю, видела меня этаким Джеком Лондоном, самородком, талантливым дикарём, свалившимся в Париж с русской берёзы. Дополнительную интересность моей биографии придавал тот факт, что до того, как попасть к ним, я на шесть лет задержался в Америке. Её поколение было подвержено американской блатной романтике. Они читали битников, слушали твист и рок, а их певцы называли себя Джонни Холлидей и Эдди Митчел. Так что я отлично вписывался в её внутренний мир. У меня в студио, конечно, было не очень уютно, хотя я вовсю жёг камин, потому удобнее было встречаться у неё. В конце концов образовалась такая рутина. Я приходил к ней, она (или её приходящая служанка) готовила обед, а я помогал. В том случае, если готовила служанка, то помогали мы оба. Помогая, мы пили отличное белое вино «Сансер» (даже только произнося сейчас это название, я вспоминаю его колющую пряность во рту, когда пьёшь его холодным, проглатывая устрицы: всё равно какие, дешёвые «португез» или дорогие плоские «белой №1»), и к моменту обеда бывали уже навеселе.
Подав нам обед, горничная не уходила, а ждала, пока, отобедав, мы перебирались в спальню. Вымыв посуду, горничная покидала квартиру, и мы слонялись по ней пьяными привидениями. Перед тем как выебать её, я выкуривал небольшую самокрутку марихуаны. А она продолжала пить. Всё это происходило в конце дня. Ибо «контесса» (то же, что и графиня) работала и отправлялась в «Нину Риччи» если не к 8 утра, то к 11-ти или 12-ти, но отправлялась, как нормальная труженица. Очень скоро обнаружилась странная привычка графини пускать струю вместе с оргазмом. Подумав над этой проблемой, я решил, что мне это даже нравится. Член только пощипывало.
У неё была свора знакомых гомосексуалистов. Всех я не упомнил, но вот с Пьером Комбеско, будущим лауреатом Гонкуровской премии, я познакомился до Жаклин и ещё долго дружил с ним после. Не подумайте плохого, ядовитый, сварливый, сногсшибательно остроумный Пьер нравился мне своими хулиганскими выходами, экзотизмом, преувеличенными манерами опереточного гомика. Помимо этого, он был эрудированный, смелый человек и хороший друг.
Все своих «гомо» — и тех, с которыми работала, и тех, с кем нет — Жаклин время от времени приглашала к себе. Готовила она изысканно, помню её приготовления: сливовое пюре с кусочками жареной козлятины, например. Думаю, что даже не мог до конца оценить её кулинарные таланты. Правда, к началу обеда она была уже вдребезги пьяна. Один раз она села мимо стула.
Время от времени мы куда-то ходили. К Реджин Дефорж, я уже упоминал; муж у Реджин был урождённый Вяземский, ходили мы на всякие выставки. Один раз, помню, присутствовал Энди Уорхол. И мы, пьяные, стояли с Жаклин и долго с ним разговаривали. Уорхола я видел лет пять назад на нескольких парти у Либерманов и был ему Татьяной представлен. Но я позволил Жаклин познакомить меня с Уорхолом вновь, да и вряд ли он узнал бы в парижском писателе, любовнике скандальной контессы, русского эмигранта 1975 года. Галерея помещалась в конце рю Мазарин. Нагрузившись шампанским, мы пошли к бульвару Сен-Жермен. В жёлтом брючном костюме, с поднятыми вверх волосами, на сверхвысоких каблуках Жаклин качаясь дошла со мной до кафе «Флёр». Там сидел опередивший нас лунноволосый Энди Уорхол. Не в самом кафе, а на бульваре. Мы нашли себе место неподалёку, потому что у их столика был полный комплект, человек пять с обожанием ловили слова мэтра.
— Вот, ещё один подламывается под Уорхола,— сказал злой молодой человек своему собеседнику, тоже злому и молодому человеку за соседним столиком.
— Идиот!— возмутилась Жаклин.— Эй ты, идиот, это настоящий Уорхол!
И, встав, чуть не упав, закричала:
— Эй, Энди, ça va?
Уорхол покачал рукой. Молодые люди оскалились.
Ещё, помню, я повёз её в мастерскую к художнику Куперу. До 1972 года он назывался Юрием Куперманом, и у него была мастерская во дворе дома на улице Кирова (ныне Мясницкой), в том же дворе, где когда-то была мастерская отца Пастернака, художника Леонида Пастернака. Потом он жил в Англии и в конце концов стал модным художником во Франции. Его «табло», как называют картины французы, изображали сливающиеся с фоном куски стульев и вообще всякое старое барахло. Очевидно, в детстве Юрий увидел где-нибудь на чердаке бабушкиной дачи в гнилой соломе старые вещи — сломанные стулья, скрипки, колотые чернильницы,— и это навеки ударило его по голове. Уже тогда он внешне выглядел, как старое кожаное седло из музея Востока, большой и старообразный. Мы напились у художника до такой степени, что, втиснувшись на четвереньках на водительское место, Жаклин на четвереньках вылезла через пассажирскую дверь. Да, она водила машину, и неплохо, у неё никогда не было аварий.
Потом она рассказала мне, что Купер пытался увести её у меня. Он звонил ей, встретился с ней, убеждал её бросить меня и жить с ним! Если бы я не знал Купера, то мог бы заподозрить, что Жаклин набивает себе цену. Но я наблюдал в России, Италии и Америке его роман с продюсером NBC, американкой Люси Джарвис. Той было лет под пятьдесят, и как она за ним бегала, чего только она для него не делала! Пьесу по его книге (он был и автором книги) Люси уговорила поставить бродвейского продюсера Харольда Принца! Впоследствии постановка не состоялась, но Люси приложила массу усилий. Она сдвигала для «Юрочка» горы. Очевидно, Купер увидел в Жаклин де Гито французский вариант мадам Джарвис. Но Жаклин настучала мне на него. И я только смеялся. Вот мерзавец! Купер принадлежал (пока ещё он не умер) к категории мужчин, которые обожают несвежих женщин. В моём меню Жаклин была исключением, я стал с ней спать вначале из хулиганства, продолжал из удовольствия и тщеславия — как же, ведь «контесса» и участвовала в «партузах» самого Помпиду! В меню Юрия Купера она была бы основным блюдом.
Осенью 1982 года я уехал в Штаты. Там я познакомился с Наташей Медведевой. Провёл с ней целомудренно первую ночь за просмотром странного испорченного гениального фильма «Ночной портье» и незаметно для себя втянулся в мрачную трагедию этой 24-летней женщины, опрометчиво дал ей обещание увезти её в Париж. Наташа прибыла в Париж 12 декабря 1982 года.
На Жаклин не оставалось времени. И мы отошли друг от друга, без разрыва. Потому что нас связывало её деревянное корыто, отделанное в кожу, её и мои оргазмы, её струя. А планов у нас никаких общих не было.
Через какое-то время, прошло лет пять, Пьер Комбеско, уже Гонкуровский лауреат, сказал, что Жаклин велела ему привести меня на обед. Я пошёл. Без Наташи. Было ли что у меня на уме тогда, я не помню. Скорее всего, нет, захотелось увидеть смешную Жаклин, вдохнуть запах старого паркета, огуречный острый запах нашей любви — бывшего рабочего салтовского завода «Серп и Молот» и контессы из старого бургундского рода. Захотелось побыть в приятном месте.
У меня плебейская привычка приходить вовремя. Даже если я пытаюсь опоздать, то не получается. Я пришёл, когда там был только один приглашённый — югославский писатель Данила Киш. Определить точно, кто он — я думаю, он не мог и сам: в его жилах текли венгерская, сербская, цыганская и еврейская крови, как минимум. Небольшая морщинистая носатая морда на сутулом костяке. Узковатые плечи. Шумный нрав! Я с ним уже мельком виделся в суете парижской литературной жизни: на каких-то коктейлях, должно быть. С Жаклин мы поцеловались. Она уже была вся парадно одета, фартучек поверх селёдкой охватывающего её костюма, она только отвела мокрые руки за спину и стала говорить со мной по-французски: «Бонжур, Эдуар, теперь ты, сказал мне Пьер, отлично говоришь на нашем туземном!»
Гопник Данила стал сразу называть меня на «ты» и налил мне белого вина. Нет, это был не «Сансер», но в остальном он явно занял у Жаклин то место, которое занимал я. И контесса де Гито демонстрировала их отношения. То положит руку ему на плечо, то коснётся кисти руки, то обопрётся на него. Одет он был, как мог одеваться ещё только Бродский,— гулаговского стиля жёваный пиджачок, мятая рубашка, брюки, вздувшиеся в коленях. Я слышал, что он неплохой писатель, позднее мне попала его небольшая книжка в карманном формате, изданная в «Пингвине». Тематика была диссидентская: война, лагеря, история его семьи, но во всё это добавлено было несколько вёдер добрых балканских ужасов и сюрреалистических изуверств. Этим славятся югославы, стоит поглядеть на фильмы Эмира Кустурицы, а до него посмотреть «Свит-Муви» Душана Маковеева…
Слава Богу, вскоре появились гомосексуалисты, во главе с Пьером, стали сплетничать, злословить и потом ссориться с Данилой. Даже для меня, сурового джеклондоновского героя, Данила Киш был тяжёл, с его тыканьем, прерыванием собеседника, привычкой тыкать кривые, не очень чистые пальцы в грудь собеседника, а уж на них он оказал прямо мрачное влияние. Они с ним сцепились. И нельзя сказать, что победили. Потом мы сели за стол. Еда была восхитительная. Жаклин всё время бегала на кухню, инструктировала служанку. Блюдо подавал нанятый официант. Возвращаясь с очередного похода на кухню, Жаклин села мимо стула. Думаю, ей было очень больно, может быть, сломала копчик, по когда её уводили в спальню, скорее уносили, она стоически хотела остаться. «Ce rien, ce rien»,— повторяла она.
Когда её выносили, Данила продолжал словесную баталию с лысым сотрудником Жаклин — гомосексуалистом, конечно. Балканские мужские обычаи я знаю: теперь, когда я воевал на вуковарском, боснийском фронтах, в Книнской Краине, когда я посетил Черногорию. Но это было позже, Данила Киш тогда уже умер. В 1987 году я встретил его в Будапеште. Под скрипки цыган он плясал какой-то дикий танец. И был очень недурён. «У него рак,— сказал мне кто-то из присутствующих за столом.— Он знает».
В октябре 1989 года югославы пригласили меня в Белград на ежегодную традиционную Белградскую встречу писателей. Были русские из России, и были русские из эмиграции. Муза Павлова соседствовала с Войновичем. В последний день моего пребывания там меня отвезли на старое Белградское кладбище: хоронили умершего от рака Данилу Киша. Стояла широколиственная, медленная осень. Красивое южное кладбище. Ризы священников сияли, если вдруг из-за туч появлялось солнце. Особенно красивы были чёрные одеяния священников, расшитые золотом. Тучи лежали низко, но часто раскалывались, и в просветы проникали ещё обжигающие лучи. Я задумался о нём.
А потом его страну разорвали на части когтями. И смерть совсем молодых людей стала обыденной. Когда я в следующий раз приехал в Белград в 1991 году, по пути на фронт, в отеле «Славия», где я останавливался в первый приезд, жили беженцы.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых» • 2000 год
Труп, найденный в парижских кустах
В ноябре 1980 года появилась в магазинах Франции моя первая книга, роман «Это я, Эдичка», под французским названием «Русский поэт предпочитает больших негров». Мной стали интересоваться журналисты. Механизм был простой: они получали мой телефон у пресс-атташе издательства, у девушки Коринн, и звонили мне. Тогда под предлогом, что они журналисты, ко мне проникли несколько отличных людей и потом надолго остались в моей жизни. Пришёл ко мне Доминик Готье, тогда он представлял газету XIII аррондисмана, позднее образовал вместе с друзьями издательство «Dilettante», в своё время они опубликовали несколько моих книжек, а сейчас они — раскрученное модное издательство. Появился тогда впервые в моей жизни Тьерри Мариньяк, явился вместе с неизменным его другом Пьер-Франсуа Моро. Пришли они с «радио-либр», то есть с негосударственного «свободного» радио. Радио тогда закрыли, страна жила ещё под Жискаром д'Эстеном, в газете «Фигаро» на последней странице время от времени печатались фотографии гильотинированных, так что какие там свободные радио. Позднее свободные радио расцвели уже при Миттеране. Тьерри был в рваной кожаной куртке, Пьер-Франсуа — в длинном плаще, ботинки их оставляли желать лучшего. Мы сдружились. Сдружились так крепко, что за Тьерри только что, всего лишь какие-нибудь две недели назад, закрылась дверь в квартиру, в которой я пишу в Москве эти строки.
Интервью со мной они всё же пристроили, но не на радио, а в журнал «Актюэль». Через некоторое время они пригласили меня «к себе». Пьер-Франсуа снимал квартиру на Пигалле, в знаменитом квартале проституток и секс-шоу. Так что, чтобы найти его, мне пришлось несколько раз спрашивать дорогу у раскрашенных трансвеститов и просто проституток, они там гуляли по всем переулкам. Вот не помню, был ли там Ален Браун, в тот вечер. Мы все сидели на полу, курили гашиш и пили виски и джин. Французское вино парижские юноши презирали. Вместе с нами присутствовало очаровательное создание — тонкие ножки в белых чулках, хрупкие плечи, гривка блондинистых волос, юное подкрашенное личико, её звали Николь. Порок в таком обличье, как у Николь, меня всегда безудержно привлекал, поэтому всё внимание моё было направлено на эту парижскую девочку. Жила она где-то рядом, была соседкой Тьерри, и когда он выразил желание показать мне свою среду обитания, я пошёл. Там был арабский квартал, полчища детей, а его каморка, как полагается — голая, матрац на полу, книги в изголовье. Показывая мне своё жилище, как я понял, он как бы хотел обозначить, что они тоже живут, как я, что у них ничего нет. Братья по классу. А меня интересовала Николь.
Чётко помню нас на площади Республики в полупустом обувном магазине отца Алена. Среди коробок с обувью лежат связки брошюр — тираж первого номера журнала «Acte gratui», то есть «милосердный удар», удар, которым приканчивают. Редакторами были, конечно, Тьерри и Пьер-Франсуа. Тираж оплатил отец Алена: мсье Браун. Как потом выяснилось, мсье Браун был готов оплатить любое дело, лишь бы Ален занимался делом. Носатый, тоненький, насмешливый, гладко зачёсанные назад чёрные волосы, всегда подчёркнуто элегантно одетый, Ален есть у меня в книге «Укрощение тигра в Париже», там он выведен под именем Фернана, а его подруга названа Адель. На самом деле его звали Ален Браун, а её Сесиль. Её до сих пор зовут Сесиль, а его звали Ален, ибо не так давно его нашли в кустах в Париже мёртвого. Он несколько дней уже лежал в парижских кустах дохлый, и даже стал, как рассказывают, вонять.
А в 1981 мы склонялись над «нашим журналом», радостные. Там был и мой материал, и затем я участвовал во всех номерах, кажется, их вышло семь. Там были фотографии Сержа Ван-Поока, и он находился вместе с нами тогда, разглядывая журнал, наш журнал. Судьба Сержа также трагична: он умер в 1984-м, в ванной, внезапно, от опухоли мозга, этот здоровый высокий парень с крепкими ногами, бывший всем остальным ребятам как папа. Сдох, словно муха! Умер, когда стал уже знаменитым фотографом — например, вышел огромным тиражом путеводитель по Парижу, на обложке его остался на память нам сам Серж и его подруга. На фоне Эйфелевой башни, в носках, с вытянутыми лицами… так он и ушёл в вечность. По какой причине его туда вызвали, оторвав от успешной жизни, от подруги и обожавших его двоих приёмных детей, конечно, узнать невозможно. Вечность — там ждут, впрочем, всех.
До того как умереть в ванной, Серж успел однажды спасти Алена. Случилось это вот как. Надо сказать, что их история — компании талантливых молодых, но гнилых парижских ребят — есть и история их поколения. Франция — старая страна с жёсткими на самом деле нормами жизни, там нет места для молодёжи. Её стараются спешно состарить, загнать в режим «работа-досуг-уикэнд». Ален хотел сплошного досуга, деньги были у родителей, ему было скучно. Все они родились ещё в старой вертикальной структуре старого Парижа. Это когда в одном здании внизу жила консьержка с детьми, этажи выше занимали буржуа, а на самом верху жили самые бедные, там и потолки были ниже, и в chambre-de-bonne, то есть комнатах для служанок на чердаке, жили служанки, часто с детьми, и студенты. И вся детвора играла в одном дворе, то есть дети буржуев с детьми консьержки и с детьми служанок и рабочих с верхних этажей. Там они все и познакомились. Тьерри, Пьер-Франсуа, сын добропорядочных евреев-обувщиков Ален Браун, Серж Ван-Поок, и сын армянских эмигрантов Габриэль, и сын консьержки Фернан. Настоящий Фернан (я уже сознался, что почему-то передал в «Укрощении тигра» это имя Алену) — настоящий Фернан был вором, сидел в тюрьме, торговал наркотой и умер от передозировки в 1990-м, будучи продавцом газеты «L'Idiot International», вот какие бывают повороты судьбы! Кстати сказать, феодал, директор газеты Жан-Эдерн хитро и коварно использовал его смерть от овердозы, выдав её за героическую смерть на боевом посту распространителя опасной, субверсивной для государства газеты «L'Idiot International». Он зашёл так далеко, что подкупил жену Фернана — несчастное создание, оставшееся в одиночестве доращивать ребёнка, подозрительно любившего стрелять из пока игрушечных пистолетов. Более того, Vieux недоплатил жене Фернана, чем до сих пор возмущается Тьерри.
Вертикальная структура города — человечнее, слов нет. Вместе с детьми буржуа, я помню, мы ходили к жене Фернана в квартирку с ободранными до деревянных рёбер стенами. Сопливый ребёнок, холод, ребята отнесли ей немного денег, Фернан сидел в тюрьме.
Последующие поколения жили уже по горизонтальной схеме: кварталы рабочих — за пределами Парижа; буржуа все в хороших кварталах. Так что следующему поколению воров Фернанов будут помогать только такие же Фернаны, поскольку маленькие буржуи вырастают уже по горизонтальной модели городского общества города Парижа и не знакомы с ворами.
Ален постоянно читал. У него была отличная эрудиция, чувство юмора, элегантность, он был добрый мальчик. Но делать ему на земле было абсолютно нечего. К тому же его первая любовь — некая Лулу — умерла в нежном возрасте от овердозы героина и сломала жизнь Алена, он остался вечным вдовцом. В те годы его сопровождала верная Сесиль, готовая с ним в огонь и в ад, но Сесиль была тоже носатенькая, небольшого роста, аккуратная девочка с ирокезом, выжженным спереди до желтизны подсолнуха. Какая была Лулу, я не знаю. Если такая или подобная юной бестии Николь (я постоянно встречал её тогда, но у неё был хмурый мужлан-парень, говорят, он даже бил её), то она стоила вечной тоски. Ален честно и настойчиво несколько раз пытался покончить с собой. В тот случай, когда его спас Серж, он обставил своё самоубийство исключительно по-эстетски, красиво, в лучших традициях французского дендизма и декадентства. Ведь он был очень культурный мальчик. Это он рекомендовал мне прочесть книгу фашиста Дриё ла Рошеля «Безумный огонь», крайне эстетское, умное и немыслимое по-русски творение. Такой себе самоучитель для фашиствующих эстетов. Это была, оказывается, его любимая книга. Ален обставил своё самоубийство: он хорошо пообедал, снял номер в хорошем отеле, купил и расставил повсюду цветы. Слушая «Кози фан тутти» Моцарта, он впустил в кровеносную систему порцию героина. Послушал ещё и добавил героина. Затем он честно выпил содержимое целой банки таблеток и стал ждать встречи с Лулу. Что-то не сработало, или Лулу сказала ему, чтобы он жил, или наказала попрощаться с Сержем, но он позвонил Сержу сказать последнее «Прости!». Сказал.
— Где ты находишься, идиот?— заорал Серж.
— В отеле грёз и цветов,— отвечал Аден.— На седьмом небе.
И, продекламировав несколько строчек Бодлера, выронил трубку.
Видимо, интуитивно понимая своего друга и за пределами человеческих смыслов, Серж взял такси и объездил отели седьмого аррондисмана. В одном из них, в название которого, да, входило слово «цветы», он нашёл своего друга Алена Брауна. Доктора откачали юношу. Затем погиб Серж.
А потом появилась Сесиль. С какой-то фамилией вроде Айзеншпиц. Они сняли квартиру на рю Жозефа де Местра! На улице мистика и философа, где Ален уснул с пушкой гашиша в зубах и проснулся в эпицентре пожара. Проснувшись, он спокойно взял кота и вышел. Выгорела вся квартира, вся мебель, купленная молодожёнам папой Брауном. Перед самой свадьбой весёлых молодых людей (они оба выкрасили себе свои светские ирокезы на головах в жёлтый цвет и ходили в ретро-пальто на три номера больше, чем следует) у Сесиль умер от овердозы брат. Безумный огонь? Навалом, один только огонь. Я тоже попал в это пламя, ненадолго, отделался сотрясением мозга. Впрочем, благодаря сотрясению, я месяц лицезрел апельсинового цвета волосатую гусеницу, ползущую на меня не спеша. История эта описана мною в «Укрощении тигра». Позволю себе привести кусок о гусенице:
«Больной глядел на всегда ползущую и разжимающую тело гусеницу, и ему было хорошо. От гусеницы, исходил вечный ровный покой. Её пушистая оранжевая шёрстка одним своим видом говорила больному, что всё хорошо, и всегда было хорошо, и будет хорошо. Что умереть так же хорошо, как и жить, и что умереть сегодня и сейчас так же хорошо, как умереть через тридцать лет».
А случилось вот что. Приглашённые художником Вильямом Бруем на выставку его работ в зале ресторана, находящегося на острове Сен-Луи, мы с Наташей Медведевой быстро там напились. К концу вечера в ресторан явились Ален и Сесиль. Ален, сидя за одним столом с нами, выпил, размешав его в воде, белый порошок. И предложил выпить другой пакетик порошка мне. Привычный к американским экспериментам, когда все предлагают всем таблетки, пилюли и прочую гадость, я выпил. И погрузился в бессознание. В результате чего меня с просто пьяной Наташей, скорее всего, задел автомобиль, когда мы переходили с острова, добираясь домой. В результате: жесточайшее сотрясение мозга, синяки и ссадины, месяц в постели, гусеница. Про порошок я забыл, вспомнил через полгода, найдя в кармане смокинга (я его надевал в ту ночь) второй пакетик с порошком. Знакомый доктор сказал мне, что это сильнодействующее шоковое антиалкогольное средство.
— Ваш друг или безумен, или мерзавец — заявил доктор.— Вы могли умереть.
Я попытался позвонить Сесиль и Алену, чтобы… я даже не знал, что: выразить своё негодование? У них в квартире никто не отвечал, в конце концов от Тьерри я узнал, что отец решил удалить Алена из Парижа и купил блудному сыну бутик, магазинчик на Кот д'Азур (на Лазурном берегу), где теперь Ален и Сесиль живут, дружно и весело продавая тишотки, рубашки с пальмами, яркие бикини, сандалии, солнечные очки и прочую курортную атрибутику. Потому моё негодование повисло в воздухе. Пораздумав, я решил, что Ален явно имеет отношение ко Злу и к носителю этого Зла, Дьяволу. Что Ален даже нежится в адском огне, и что он, конечно, чрезвычайно опасен и для себя, и для окружающих, и ещё более опасен, потому что обаятелен.
«Мотылёк в горошек под горлом, кадык и горбатый нос образуют симпатичную пилу, гортанный голос вместе с улыбками и ухмылками составляет чарующую цветочную смесь…»
— таким я его описал в ночь подсыпания порошка. И ещё:
«Из-за головы Алена, показалось писателю, выглянула, подмигнув Лимонову, физиономия старого французского дьявола. Интеллигентного бисексуального брюнета с крашеными волосами. Дьявол очень походил на Бодлера, может быть, он старался походить на поэта, как современные юноши пытаются походить на Джеймса Дина, а девушки на Мэрилин Монро…
— У каждой нации своя национальная модель дьявола,— решил писатель.— Американский дьявол — скучный и толстолицый масс-мюрдерер, с непропорционально большим задом, затянутым в непристойные джинсы, щёки и кисти рук — веснушчатые. Узкоплеч и животаст. Французский собрат его старомодно приятен, развратен, как старый граф или Жан Кокто».
Так как я писал «Укрощение тигра» в 1985 году, то уже тогда понимал, что дружба Алена со Злом крайне опасна. На Кот д'Азур у них образовались сложные отношения с мафией. Чего-то, кажется, Ален им недодал или вообще не захотел платить, но бутик ограбили два раза подряд. Пришлось покупать оружие, чтобы отбиваться. Ален купил целых три револьвера и пугал Сесиль, клацая у неё над ухом, зазывая играть в русскую рулетку. Револьверы их не защитили — бутик спалили. Сесиль умолила Алена продать револьверы. Два он продал, а третий, самого мелкого калибра, оставил. В городе Бордо, приморском, славящемся вином Бордо, они проживали в отеле. Сесиль уснула в тот вечер, а Ален в соседней комнате колол себе героин. По его позднейшему признанию, ему стало скучно, Сесиль спит, потому он взял револьвер. И выстрелил себе в голову два раза. Одна пуля не причинила особого ущерба, а вторая аккуратно вошла в один висок и вышла через другой. Ален остался жив, в здравом уме (насколько можно назвать его здравым), но ослеп. Ставший Алену другом Вилли Бруй сообщил мне тогда с восторгом, что Ален держится прекрасно и получает от своего слепого состояния большое удовольствие. Что теперь, когда он ослеп, у него появилось желание жить. Что он счастлив.
Я выразил недоверие по поводу счастливого состояния Алена, но не отказался пойти проверить. Напросился на обед, где должны были присутствовать Сесиль и Ален. Она привезла его на автомобиле. Сесиль была девушка верная, исполнительная, рабочая и деловая. Ален был одет в отличный чёрный, с вызывающей белой полосой костюм, красный платок соплёй стекал из визитного кармана, очки слепого ему шли. Персонаж Тарантино или Дэйвида Линча. Он улыбался, демонстрировал часы, говорящие время женским голосом по-английски. Пробовал разливать вино, но в конце концов, после пары удачных наполнений бокалов, слил часть бутылки на платье Сесиль. Ещё он затушил окурок о руку соседки, и в конце концов заблудился, идя обратно из туалета. Держался он, как реинкарнированный вампир, но потом устал и просто уснул в кресле.
В 1996 году я съездил по делам в Париж на шесть дней. Как-то ночью я шёл по площади Бастилии и увидел, как блистательный, в белом фуляре, с полуобнажёнными двумя красотками по бокам, шествует светский молодой человек в тёмных очках. Он что-то кричал своим спутницам, весёлое, а они хохотали.
Парижская ночная публика, которую трудно чем-либо удивить, поворачивала лица, группа была экстравагантная. Когда они поравнялись со мной, я узнал Алена. Сзади шёл наш общий знакомый, такой себе скиняра из той же компании Тьерри, кажется, его звали Жан-Поль. Жан-Поль меня, конечно, не узнал. А слепой не мог узнать, поэтому в духах и в алкогольном облаке они прошли мимо.
Когда именно настал конец, когда именно закончилась жизнь Алена Брауна, я не знаю. Нужно будет спросить у Тьерри. Последние годы жизни Алена были быстрыми и ещё более безумными. Отец, жалея слепого ещё более, чем любил зрячего сына, в деньгах его не ограничивал. Вначале Сесиль, а потом Жан-Поль покупали ему героин. Сесиль несколько раз обнаруживала своего слепого в постели с приходящими проститутками, потому, в конце концов, верная Сесиль всё же сбежала. По другим сведениям — и я верю этим версиям больше — Ален выгнал её. «Раз уж я слепой,— наверное, подумал он,— зачем мне семейная благопристойная жизнь, когда я могу иметь столько грязных девок, сколько захочу!» После ухода Сесиль он заболел СПИДом. Окружающие его люди стали жить за его счёт, воровали у него деньги и героин. И вот однажды слепой пропал, и его нашли через несколько дней в пыльных парижских кустах. Мёртвого. Он так хотел к своей Лулу. Надеюсь, он попал к ней.
«This is very good for you…» — слышу я его голос и вижу руки, высыпающие мне в воду чудовищный порошок. А из-за плеча его выглядывает французский элегантный Дьявол.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых» • 2000 год
Американский саксофонист
Так случилось, что все мои четырнадцать лет в Париже я прожил в одном районе города, в Marais, в Третьем арондисмане. Первая квартира — на rue des Archives, 54, дом рядом с комплексом Национального Архива Франции, вторая — на rue des Ecouffes, в самом сердце еврейского квартала, и третья — на rue de Turenne, 86. Три эти пункта образуют небольшой треугольник. Внутри этого треугольника и вокруг него и прошла моя парижская жизнь. Множество замечательных исторических зданий, одна только place des Vosges с одинаковыми средневековыми особняками чего стоит! Там принимал свои парады Людовик XIII, там находился особняк кардинала Ришелье, перед которым гвардейцы и мушкетёры намеренно устраивали дуэли. Мэрия Третьего арондисмана была построена из камней разрушенного Храма тамплиеров. Вблизи моего жилища на rue de Turenne проходили улицы Темпля (Храма) и улица Сторожевой башни Храма. Это мистические места. В мэрии Третьего арондисмана я и Наташа Медведева оформили однажды наш брак, прожив до этого без брака десять лет. Что произошло после оформления — все знают. А затем она погибла.
Вот на улице Сторожевой башни Храма и жил Стив Лэйси, саксофонист, гражданин Соединённых Штатов. Встретил я его, правда, не на улице Сторожевой башни Храма, но на пересечении rue Rambuteau и rue Beaubourg, уже на той стороне улицы, где Центр Помпиду. Я ещё не перешёл, только подходил к переходу, а он уже перешёл. Он вгляделся в меня и остановил меня.
— Если я не ошибаюсь, Эдвард Лимонов?
Я утвердительно признался, что «Yes».
— Я читал о тебе в «Herald Tribune» недавно.— Он протянул мне руку.— Я саксофонист Стив Лэйси. Я живу тут, давно уехал из Америки, там не заработать, для джаза там плохие времена. Слушай, вот тебе моя карта!— Пока он рылся в кармане, я рассмотрел его: худой, высокий, похожий на «Боги», актёра Хамфри Богарта. Серый костюм, поблёскивает ткань, значит, костюм полиэстеровый, белая рубашка, узкий чёрный галстук. В руке футляр саксофона.
— Вот,— он дал мне визитку.— А я побежал. Еду в Амстердам, там у меня несколько концертов. Позвони.— И он быстро ушёл, неся футляр так, что не размахивал им. Исчез серой спиной в яркой толпе у Центра Помпиду.
В тот же вечер я попал в компанию своих литературных друзей-американцев, к паре Кэрол Пратлл — Джон Стрэнд. Эти миниатюрные, оба небольшого роста ребята со среднего американского Запада издавали в Париже журнал. Американцев вообще во Франции тогда жили толпы. Ибо доллар стоял высоко, авиабилеты не были дороги, потому судьбы трагических Генри Миллера, Эрнеста Хемингуэя или Скотта Фицджеральда с удовольствием пытались повторить многие тысячи американцев. Кэрол и Джон, выслушав моё короткое сообщение о знакомстве с их соотечественником у Центра Помпиду, среагировали с небывалым энтузиазмом. Сказали, что Стив Лэйси — выдающийся джазовый артист, живая легенда американского джаза. Что множество джазовых музыкантов переселились во Францию ещё в семидесятых…
Подхлестнув моё воображение, Кэрол и Джон способствовали тому, что я не забросил визитку Лэйси на кладбище визитных карточек, в картонную коробку, а уже через неделю позвонил ему. И отправился к нему в гости. Помню, что время он назначил позднее, после концерта. Жил он в доме 57 на улице Вьей дю Тампль, Сторожевой башни Храма, на первом французском (втором, следовательно, русском) этаже. Открыла мне подруга Стива — Ирэн, рост у неё был соперничающий с ростом Наташи Медведевой, а вот рот был даже больше, чем у Наташи, просто огромный. Ирэн выглядела очень эффектно, хотя нельзя было назвать её красавицей.
— Стива ещё нет, он в Концерте,— сказала мне Ирэн и, протянув руку, втащила в квартиру.— Проходи. Have a drink, and whatever you wish.— Я вошёл. Квартира оказалась огромной.
По квартире беспорядочно бродили люди. Многие из них держали в руках напитки: кто пиво, кто виски. Напитки можно было найти в двух местах: в большой living room, на столе, накрытом белой скатертью, и в кухне. На кожаном диване сидел толстый негр в ярком, цвета кофе с молоком, костюме и на низеньком столике на большом зеркале делал кокаиновые линии. Негр улыбался, вертел головой и зазывал всех желающих. Он кричал:
— Drags for free! Drags for free! Only for musicians!
Я подошёл к негру и сказал:
— Почему только для музыкантов? I am writer.
— For writers also,— сказал он и захохотал. Протянул мне коктейльную трубочку.
Я присел, взял трубочку. В этот момент к нам подплыли ноги Ирэн в чёрных чулках. Ирэн согнулась и познакомила нас с негром.
— О, you that famous Eddie!— весело воскликнул негр, и мы пожали друг другу руки. Его рука была обильно украшена перстнями. Оказалось, я уже был известен в их кругу, поскольку они были американцы, а действие моей книги «Le poète russe…» происходило в Америке.
Стив явился с концерта только через час. Все его гости были уже очень оживлены. И те, кто пил, и те, кто нюхал кокаин, и те, кто делал и то, и другое. Увидев меня, он сказал:
— Рад тебя видеть, Эдди.— И в этом внешне сухом приветствии была глубокая дружественность. Я же говорю, он был похож на Хамфри Богарта, а когда такой как «Боги» приветствует тебя сурово, то ты таешь от удовольствия. Ушёл я часа в три ночи. А они ещё остались, железные люди.
Во второй мой приход я познакомился там с белёсого цвета стариком, похожим на очень старого Мамлеева. Старик пришёл с молодым человеком, который мог быть и медбратом, и бывшим любовником старика. Представил нас Стив:
— Эдди, это легендарный Брайан Гузн, учитель Уильяма Берроуза. Это Брайан изобрёл метод cut-ups (нарезки текстов) и потом подарил его своему ученику Берроузу.
— Брайан, это Эдди. Ты слышал, конечно, о нём, только что была статья в «International Herald Tribune»?
Брайан выцветшими глазами с любопытством глядел на меня, как на памятник. Он кивком головы подтвердил, что слышал. Я смотрел на Брайана. Брайан на меня. Подумав, Брайан сказал:
— Я не читал ваших книг. Но уже много слышал о вас.— Он помолчал.— А я давно оставил литературу.— Опять замолчал.— Если у вас есть экземпляр вашей книги, передайте Стиву. Стив передаст мне. Стив очень хороший человек. Музыканты сейчас все безграмотные. Стив всё читает, всё знает…— Затем Брайан отправился к негру и его кокаину. Негр подвинулся, и Брайан сел рядом. Он был уже очень стар тогда, Брайан Гузн. Двигался замедленно.
Каждый приход к Стиву дестабилизировал мою жизнь. Находиться там и не употреблять предлагаемые алкоголь и наркотики, было невозможно. После каждого посещения квартиры Стива мне приходилось отлёживаться сутки. Это бы ещё было выносимо, но я тогда энергично работал ежедневно и упрямо, и ночи, полные огня, у Стива (алкоголизировавшись и накокаинившись, все начинали танцевать) вышибали меня из ритма работы. У Стива собирались хорошие, весёлые люди, друзья его и Ирэн (Ирэн была певицей, она иногда выступала с ним, жутко завывая какой-то звуковой модернизм под его саксофон), однако то, что служило стимулом им в их творчестве, меня резало без ножа, как говорят.
Я был намного моложе их всех и уже очень известен. К тому же я был русским, тогда русские считались в Европе экзотикой. Я мог бы заякориться в этой необыкновенной, сверхнациональной компании, мною бы они гордились. Но я не заякорился. Я любил заглядывать повсюду, но не принадлежать никакому кругу. Поэтому я инстинктивно отодвинулся от стиля жизни, угрожающего моему литературному труду. Стал бывать у Стива реже. Отстранение облегчалось ещё и тем, что Стив часто исчезал на гастроли по Европе. Ненадолго каждый раз, но постоянно.
Наташа Медведева у Стива не побывала ни разу. В 1985 году мы с ней временно разошлись и разъехались по разным квартирам. Это обстоятельство, а также то обстоятельство, что она не любила ходить со мной в одни компании, потому что ревновала меня к людям, а людей ко мне, помешало, может быть, состояться её музыкальной судьбе уже тогда, за десяток лет до того, как она состоялась. Ведь у Стива была толпа музыкантов, я, простофиля, был неучем в области американского джаза, там, видимо, с дринками в руках расхаживали живые гении. Благодаря знакомству с ними могла сложиться карьера Наташи Медведевой. Да не судилось. Всегда потом жалеешь, что ты не пошёл в боковую аллею жизни, или что твоя женщина туда не углубилась.
В 2004-м русский «Rolling Stone» заказал мне текст о музыкантах моей жизни. Я написал. Написал и о Стиве Лэйси. Текст о нём заканчивался так:
«Таких, как он, теперь можно увидеть только в фильмах. А рыжая носатая дылда Ирэн — его подружка! О, какие типы! Не удивлюсь, если он ещё до сих пор живёт там, в доме 57 по рю Вьей дю Тампль, проходит через двор в сером костюме, при галстуке, саксофон в футляре мерно покачивается в такт походке. Здоровается с консьержкой:
— Bonjour, madame!
— Бонжур, мсье Стив,— отвечает ему консьержка».
Как оказалось, он умер 4 июня 2004 года.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых 2: Некрологи» • 2008–2009 гг.
Наследница Майоля
Честно говоря, я думал, она умерла давно. Но 23 января увидел в I-net, что в блогах обсуждают тему «Скончалась Дина Верни». Оказалось, она умерла пару дней назад. Возрасту ей дают кто восемьдесят девять лет, следовательно она родилась в 1919 году, кто утверждает, что она родилась в 1917-м. В любом случае могу свидетельствовать, что она была очень старая бабушка уже давно, ещё в начале 1990-х.
Я познакомился с нею в 1974 году, в мастерской Ильи Кабакова, что находилась на крыше дома страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. Стояло лето, на ней была белая юбка, шёлковая блеклая пастельная кофточка и летняя шляпа, на ногах туфли с множеством переплетений ремешков. Такая себе немолодая парижская светская женщина. Я прочитал свою концептуальную, как её представил Кабаков, поэму «Мы — национальный герой» и вызвал этим моим текстом неподдельный интерес Дины. «Это не стыдно показать в Париже, это замечательно»,— энергично прокомментировала парижанка. Мы (я пришёл с красавицей Еленой, уже моей женой) понравились Дине и она дала нам свой адрес и телефон. Мы уже знали, что уедем, ждали только разрешения на выезд из ОВИРа, потому лихорадочно коллекционировали европейские адреса. Я очень рассчитывал на мою поэму, мне казалось, что мифологизированные образы Эдуарда и Елены и необыкновенная их судьба (они становятся супер-звёздами, знакомятся с Сальвадором Дали и Папой Римским, вообще эта конфетно-приторно-чуингамовая история, я не видел этого текста лет тридцать) вызовет интерес издателей всего мира. Талантливый провидец (мы действительно познакомились вскоре с Сальвадором Дали, а Елена позднее отдельно побывала на аудиенции у Папы, я действительно стал в 1993 году кандидатом в депутаты Российского парламента, но не был избран, как это и предсказал в тексте), я оказался никаким практиком. Авангардистские тексты не становятся бестселлерами. Я, впрочем, вручил свой текст Дине.
Что она с ним сделала, я впоследствии не спросил. Она улетала в тот же вечер.
С Диной я встретился через шесть лет. Перебравшись в Париж из Нью-Йорка в 1980-м, я однажды отправился в её галерею на rue Jacob, недалеко от аббатства Сен-Жермен-де-Пре и кафе «Флор». Из Москвы представлялось, что галерея должна быть как минимум размером с музей изобразительных искусств имени Пушкина. На деле это оказалось цокольное помещение скромных размеров. Его нельзя было назвать полуподвальным (sous-sol), но несколько невысоких ступеней вели вниз. Хозяйка сидела в глубине помещения на тёмном диване, затянутом в материю с огурцами либо баклажанами. Было лето, немного душно. Хозяйка беседовала с женщиной помоложе. От неузнания Дины и последующего конфуза (я её не узнал), меня спасла лишь молоденькая служащая либо посетительница галереи, встретившаяся мне у двери:
— Могу я говорить с мадам Верни?— спросил я у служащей.
— Да, конечно, мадам на диване.
И только тогда в те недалёкие десяток метров, что я шёл к сидящей на диване, я уверил себя, что это она. Почему-то в шесть лет она преодолела барьер между категориями «зрелая женщина» и «старая женщина». На ней был балахон, их обыкновенно и напяливают старые женщины, когда приходит старость, бесформенный, не скрывающий фигуру, как им кажется, а напротив, безоговорочно на неё, тяжёлую, указывающий.
— Здравствуйте, Дина,— сказал я по-русски.— Я — Эдуард Лимонов, мы с вами познакомились в Москве в 1974-м в мастерской Ильи Кабакова.
Она улыбнулась, встала и подала руку.
— Вы надолго в Париже? О вас пишут газеты.
Это надо было слышать: «пишут газеты»… Старомодно, но с каким уважением, как респектабельно это прозвучало. Несомненно, всю её жизнь эта женщина из Одессы (вначале девочка из Одессы) делила людей на тех, о ком пишут газеты, и на тех, о ком газеты не пишут. И ей-богу, в этом разделении был огромный смысл.
Дело в том, что мою первую книгу, ещё не вышедшую (появилась она в магазинах только в ноябре), тем летом стала печатать в своём приложении «Sandwich» популярная газета «Libération». Главы из книги вызвали интерес и очень большой. О ещё не вышедшей книге вовсю говорила пресса. То есть Париж меня принял и потому приняла Дина Верни.
Я сказал, что я в Париже до самого конца года. А далее, может быть, и останусь.
— Я же вам говорила, что у вас всё будет в порядке в Париже. У вас мировоззрение западного человека. Это редкость среди русских…— Она вдруг вздохнула.
Я подумал, что недавний дебош Шемякина у неё в галерее и их разрыв, о котором мне рассказал сам Шемякин,— именно он вызвал вздох Дины и её замечание о том, что мировоззрение западного человека встречается у русских крайне редко. По смущённым и хмурым комментариям самого Шемякина, дебош случился в результате совместного запоя с его другом Владимиром Высоцким. Оба запойных таланта, это уже свидетельства эмигрантов в тот год, допились в этот раз до того, что Шемякин влез на крышу движущегося такси и якобы размахивал на крыше саблей, требуя, чтобы его везли на rue Jacob, в галерею Дины. Он, якобы, намеревался с ней расправиться. После того запоя, в июле, вернувшись в Москву, умер Высоцкий. А Шемякин навсегда поссорился с Диной, потому что (вероятнее всего без сабли и не на крыше такси) всё же приехал тогда, пьяный, к ней объясняться и бегал за нею по галерее, крича «сука!» и «убью!». Меня там не было, сам Шемякин подробностей своей пьяной удали не рассказывал, однако всякие отношения, и деловые, и личные, между сторонами прекратились, и иначе как с ужасом Дина о нём не вспоминала. Между тем, это именно она сумела вывезти из России ещё в 1971 году (по другим данным — в 1972-м) красивого петербуржского парня-художника вместе с семьёй: женой Ривой и дочерью Доротеей. Как это Дине удалось, бог весть, но вся биография этой дерзкой одесской девочки, дочери меньшевика-музыканта, была серией блистательных авантюр. Закончим с Шемякиным, а затем вернёмся к авантюрам. Вероятнее всего, он был её любовником, вряд ли только из уважения к таланту можно было вступить в битву за выезд человека из брежневского СССР. Страсть должна была бешено ударять во влюблённое сердце влиятельной женщины, чтобы совершить такой подвиг, как вызволение из советского плена. Причиной же их разногласий, говорят, послужили их финансовые отношения. Шемякину нужно было много денег, он жил на широкую ногу. Шестикомнатная его квартира глядела окнами на Лувр, рядом находились церковь Святого Варфоломея, откуда католики ударами колоколов подали сигнал к началу резни в Варфоломеевскую ночь, а через улицу находился дворец главного гугенота, адмирала де Колиньи, где его убили. В квартире Шемякина даже у попугая была своя комната. После разрыва с Диной Шемякин стал готовиться к бегству в Соединённые Штаты, между тем перебиваясь пока у малоизвестных галерейщиков. Помню, что осенью 1980-го, когда вышла моя книга «Le poète russe préfère les grands nègres», Шемякин уже жил в Америке, хотя семья ещё обитала у Лувра.
Теперь о блистательных авантюрах Дины Верни. Ей было пятнадцать лет, когда её познакомили со скульптором Аристидом Майолем. Невысокого роста, крепенькая, с сильным торсом, сильными ногами и сильной шеей Дина не была красавицей. Она была здоровенькая, упрямая еврейская девочка. На некоторых фотографиях того времени (а это то ли 1932-й, то ли 1934 год), у неё на голове выложен сильный такой бублик косы. Майоль был рождён в 1861 году, то есть был на пятьдесят шесть лет старше одесской девочки! Много лет разницы, бормочу я себе под нос,— я, у которого подружка всего лишь на сорок семь лет моложе меня, она 1990 года рождения. Неудивительно, что Аристид Майоль (Maillol, чтобы быть точным) завещал своей натурщице всё своё состояние и все свои богатейшие коллекции. Когда Майоль погиб в автокатастрофе в 1944 году, двадцативосьмилетняя Дина стала очень и очень богатой.
Я не совсем понимал её исторический масштаб в то далёкое лето 1980 года, понял я её масштаб только тогда, когда Дмитрий Савицкий, мой приятель тех лет, повёл меня в сад Тюильри и показал выставленные там несколько скульптур Майоля — натурщицей послужила Дина. Своеобразная Марианна, мадемуазель Франция в мраморе, лежала и стояла в траве сада Тюильри.
По-русски она говорила хорошо, с простонародным акцентом одесской торговки с Привоза. Легко, конечно, отпускать неуважительно насмешливые реплики в адрес старых и умерших дам, но в строптивую крепенькую еврейку, когда ей было от пятнадцати до тридцати, я бы и сам почти наверняка влюбился. И думаю, подошёл бы ей. Но время развело нас по разным поколениям в невыгодную для неё сторону.
Кажется, ещё до того, как я увидел её в Москве впервые, я уже слышал её пластинку блатных песен. Её исполнение произвело на меня впечатление и производит до сих пор. Дина тут лучше всех. Может быть, это лучшее, что она могла делать — вот так пронзительно, просто с трагичностью Медеи в голосе, петь. (Может быть, её таланты в постели были ещё выше, но этого мы никогда не узнаем. Наверное были высоки, раз зажгла национального скульптора!). Голос у неё как одна простая строчка на тюремном ватнике, как поморский бабий плач над потерянным ребёнком, что говорить: сильна, сильна. Так никто не пел и не поёт. И, видимо, не будет петь, как эта тётка.
В последний раз я видел её в 1994-м. Зашёл, не предупреждая, в галерею. Она сделалась совсем бесформенная в своём балахоне, как большая жаба. Лицо стало плоское, почему-то огромное, как у каменной бабы. Откуда вдруг такое лицо? За что? Это её упрямство и сила воли расползлись, материализовавшись? Я уверен, что в старости все плюсы и минусы характера человека выползают ему налицо. Если он слаб, то исчезает подбородок, череп показывается хрупким, становится крошечным, как перепелиное яйцо. Торс тех, кто был неумеренно силён, расползается, занимая пространство. А Дина Верни была, полагаю, очень сильная еврейская девочка. Вот и превратилась в большое, раздутое, приземистое существо.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых 2: Некрологи» • 2008–2009 гг.
Агроном
Я пропустил его смерть, а он был для меня важен. Дело в том, что ещё в СССР у меня образовался такой небольшой пантеон иностранных «гениев», загадочных, непонятных и потому притягательных.
Я помню, что когда симпатизировавший мне журналист Matthieu Galey пригласил меня на обед, это был, по-моему, 1983 год, меня познакомили с показавшимся мне обычным коротышкой-буржуа, седовласым и добродушным, тот протянул мне руку и вполне обычно произнёс: «Жак Одиберти», я вздрогнул. Я помнил, что читал об этом типе в книге советского журналиста, может быть, Жукова, о литературном Париже и как там не по-марксистски выпендриваются. Тот Жак Одиберти из разгромной критической книги сидел в кресле, мрачный как дьявол, на руке у него была грубая рукавица, а на рукавице сидел нахохлившись большой птиц, то ли сокол, то ли орёл, то ли стервятник с огромным клювом.
— Я о вас читал ещё в Москве,— сказал я Жаку Одиберти. И он был польщён. Польщён был и я, так как все собравшиеся в тот вечер на обед в мою честь читали меня, благодаря пригласившему нас хозяину квартиры, жаль, что он рано умер тогда от AIDS.
*
Луи Арагон был жив, когда я приехал в Paris, у меня даже было письмо к нему от прославленной Лили Брик, но к Арагону я не попал, по-моему, это Жан Риста, его душеприказчик, не звал Арагона к телефону, когда я ему звонил несколько раз. А потом Арагон умер, а я подружился с Риста и его ревю «Digraphe». Свёл нас товарищ Рекатала, коммунист с испанской кровью.
Жан Жене, это уже гений без кавычек, жил в ту пору в Paris, однако встретиться с ним не было возможности. Он спустился на дно, спрятался, обозлённый на Францию, в дешёвых арабских отельчиках. Официальная Франция его прокляла за его engagement на стороне палестинцев, а он в свою очередь проклял официальную Францию.
Перебравшись в Paris, я первым делом спросил у появившихся у меня издателей Жан-Жака Повэра и Жан-Пьера Рамзэя, Жан Жене ведь жив? Как с ним можно познакомиться? Оба уныло покачали головами. Он жив, но общество делает вид, что его нет.
В 1986-м Жан Жене умер в захудалом арабском отельчике в Paris — вот как повествует о его конце французская Википедия:
«15 апреля 1986, один и съедаемый раком горла, писатель неловко упал ночью в комнате 205, в «Jack's Hôtel», номер 19, авеню Stephen-Pichon в Париже, и умер».
Когда он умер, французская власть немедленно оприходовала его славу и его гений. Министр культуры того времени Джек Ланг бросился в «Jack's Hôtel». Однако ненависть Жене к Франции была столь велика, что он завещал похоронить себя на старом испанском кладбище La Rache в Марокко. Мне заказали его некролог. Журнал «Révolution».
А вот с Роб-Грийе мы пересеклись в 1987-м в Будапеште. К этому я успел.
Нужно признаться, я был разочарован. Предо мною предстал седобородый, вполне дружелюбный, разговорчивый мужчина, сопровождаемый знаменитой его подругой Jeanne de Berg. Вот она, злая, в сигаретных клубах, имевшая в прежние времена славу сексоманки и извращенки, произвела на меня большее впечатление. Постаревшая и помрачневшая, она сохранила тайну.
В Будапешт нас всех созвала долговязая Ann Getty, жена старшего, если не ошибаюсь, сына старого нефтяного магната из Америки, сына звали не то Роберт, не то Ричард. Ann Getty возглавляла в те годы «Wheatland Foundation», и её хобби была литература. Очень высокая, думаю, она была выше 185 сантиметров, с очень правильными чертами свежего лица, намекающими на операции plastic-surgeon, Анн без устали собирала литературные конференции в столицах Восточной Европы, я побывал по крайней мере на двух, в Вене и в Будапеште. Ещё Анн стала владелицей издательства «Grove Press» и тем загубила его. Поставив во главе издательства старика Weidenfeld'a, липового лорда, потому что никаким лордом он не был, получил лорда за бог весть какие заслуги, в СССР сказали бы: «по блату». Урождённый в еврейской семье в Вене ещё до войны, Weidenfeld, став издателем «Grove», с энтузиазмом взялся издавать книги своих стариков-приятелей о любимом городе Вене, чем, на мой взгляд, и разорил издательство. И ведь какое! Так, они первые в USA издали «Тропик Рака» Генри Миллера.
Возвращусь к Алену Роб-Грийе. Итак, Будапешт, 1987 год, отель Hilton. В Будапеште уже был отель Hilton, но ещё стояли советские войска. Конференция была интернациональная, где-то восемьдесят литераторов со всех стран мира, даже писатели из Индии, и среди них даже писатель-сикх в тюрбане. На той конференции я умудрился совершить несколько скандалов, нужно сказать, что эффект скандала происходил от того, что мои вполне себе справедливые воззрения на тот или иной предмет истории или политики сталкивались с неправильными, ханжескими, недостоверными воззрениями моих коллег.
Далее я, может быть, расскажу об этих скандалах, если не забуду.
С Роб-Грийе же мы сблизились как раз после этих скандалов. Хорошо, вот тезисно, что это были за скандалы, раз уж они вызвали интерес мэтра «нового романа» ко мне. Для начала я, как холодный северный ветер, ворвался в их тёплое собрание во время речи Нобелевского лауреата Чеслава Милоша. Когда тот стал клеймить позором СССР за пакт Молотова–Риббентропа, я напомнил ему, что ещё в 1935 году Германия и Польша заключили подобный пакт, и что в 1938 году Польша участвовала па стороне Германии в разделе Чехословакии и захватила тогда район Щецина.
Второй скандал, это когда я дал по голове бутылкой из-под шампанского британскому писателю Полу Бэйли. Бэйли стал кататься по полу, выкрикивая, что его убивают, а на меня набросились многонациональные писатели. Помню, что мне на помощь пришёл суровый американский парень в ковбойской шляпе и ковбойских сапогах, фамилии его не помню, знаю, что он жил в пустыне.
Где был в этот момент Ален Роб-Грийе, понятия не имею, но после этой драки в холле отеля он и его Jenne de Berg подошли ко мне и заговорили. К нам присоединился ещё тогда совсем молодой французский écrivain Jean Echenoz. Так, кажется, он пишется.
Помню эпизод, когда мы катим куда-то в автобусе, на некую экскурсию, вот не помню, какую и куда, записались среди прочих писателей. Автобус полупустой, вероятно, эта экскурсия не привлекла большинство писателей.
Я сижу у окна. Пара Роб-Грийе — впереди. Эшеноз — рядом. Рядом, оказалось, едет защитного цвета открытый газик. В нём двое военных: водитель и офицер. Офицер курит сигарету.
Роб-Грийе поворачивается: «Ваша Красная Армия. Оккупанты»,— улыбается он.
Вглядевшись в офицера, я, наконец, понимаю, что это советский офицер. На нём нет фуражки и ветер свободно треплет его волосы.
Внезапно я чувствую прилив воинственной гордости. «Да, это наша армия». Офицер докуривает сигарету и бросает окурок. Окурок уносит ветер. На автобус он не обращает внимания.
Дальше я помню, что мы стояли у какого-то пахучего дерева и Роб-Грийе, добрый и бородатый, объяснял нам, что это за дерево и чем оно знаменито.
Из нескольких коротких бесед с Аленом Роб-Грийе я внезапно понял, что наш Бродский весь вышел из него, из Роб-Грийе. Это Роб-Грийе сформулировал впервые идиому, что Родина писателя это язык. Бродский щеголял этой идиомой всю свою жизнь.
Все большие люди, признаюсь, неизменно разочаровывали меня при личных встречах. То же самое случилось и с Роб-Грийе. Он показался мне слишком добрым. И потому сразу же перестал быть моим героем. Потому что герой не может быть добрым. Подумайте сами, и придёте к выводу, что я прав.
Мы обменялись телефонами с агрономом Роб-Грийе. Я помню, несколько дней надеялся, что они мне позвонят, и, возможно, в конце концов я расширю свои знания о французских растениях. Этого не случилось, звонок не последовал. Тогда я набрал их сам. Ответила мне Jeanne. Мы недолго поговорили. Но так и не встретились. Помню, кто-то из знакомых предостерёг меня от встречи с парой. Дескать, они захотят войти с тобой в отношения «ménage à trois, Edouard…»
C Jean Echenoz я встретился в Paris. Возможно, я был ему интересен. Мне он был умеренно интересен. У меня были друзья в издательстве «Dilettante», и в журнале «Digraphe», и в журнале «Actuel», и в издательствах «Ramsay» и «Albin Michel». Вскоре к ним прибавились совершенно офигительные и офонарительные новые друзья из «L'Idiot International». Большее количество друзей-писателей я переварить не мог бы.
Так что с Echenoz дружбы не получилось. По той же причине не получилось сближения и со знаменитым когда-то Роб-Грийе. К тому же, к тому времени он был уже порядком подзабыт. Я думаю, в 1980-е в Paris я был намного известнее его.
Умер он в 2008 году в Кан, а не в Каннах. Я уже долгое время жил в России, основал партию, отсидел в тюрьме. Мир его праху, он так увлечённо рассказывал о пахучем дереве, под которым мы стояли.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых 3: Кладбища» • 2014–2015 гг.
Мэри
Это были весёлые парижские дни! Сейчас также случаются весёлые и чудесные дни, вот, например, вчера весь день шёл пушистый, отчаянно белый снег, и на ветви лип, куда выходят окна двух моих комнат в центре Москвы, налипла сказка! Но тогда в Париже, в 1980 году летом, я был молод, и только в мае приехал в Париж, и книгу у меня купил Жан-Жак Повэр для издательства Жан-Пьера Рамзэя, и случилось это по адресу 27, rue de Fleurus, улицы, ведущей от Люксембургского сада к бульвару Распай.
Сами эти слова: «бульвар Распай, rue de Fleurus, 27, бывшая мастерская американской писательницы Гертруды Стайн, имена моих издателей Жан-Жак, Жан-Пьер» — всё повергало меня в восторг.
В Люксембургском саду в 80-е годы на теннисных кортах можно было увидеть невысокого молодого мужчину с хорошо развитой мускулатурой. Всякий раз, когда я проходил через Люксембургский сад, а я одно время бывал там чуть ли не каждый день, подходил к мускулистому парню и ждал, когда он доиграет, и ненадолго задерживался, чтобы побеседовать. Это был мой друг журналист и писатель Дмитрий Савицкий, мы были знакомы с 1970 года, и дружба наша прервалась в 1974 году, когда я улетел в Вену, а потом — в Соединённые Штаты, так как в те годы только две страны предоставляли эмигрантам из России политическое убежище: Соединённые Штаты и Канада.
Я улетел, Савицкий остался в СССР, но потом и он уехал, заключив брак с парижанкой из рода старых эмигрантов Ольгой Потёмкиной. Дмитрий всегда был парнем практичным, уехал по-умному, сразу в приятную во всех отношениях Францию, которая эмигрантам из России убежища не предоставляла, предпочитала сниться им во снах. Не всё у Дмитрия в Париже сладилось. Так, явившись на адрес своей супруги Ольги и позвонив в дверь, Савицкий был встречен большого роста грубияном, который, узнав, что Дмитрий приехал из СССР к жене Ольге, посоветовал ему убираться побыстрее, пока «я не спустил тебя, русский, с лестницы».
Впоследствии Ольга объяснила Дмитрию, что считала свой брак с ним фиктивным, что она всего лишь помогла симпатичному русскому парню, поэту, уехать из скучной советской России. Савицкий пострадал немного, поскольку влюбился в шикарную с хриплым голосом Ольгу, но пережил.
Это Дима, Димочка, Дмитрий Савицкий, симпатичный, обаятельный, с русой густой чёлкой, прыгавшей у него на лбу, пока он играл в теннис, познакомил меня с литературным агентом Mary Kling.
Случилось это вот как. В ноябре 1980 года вышла в Париже моя первая книга «Это я, Эдичка». Во французском варианте мы назвали её «Русский поэт предпочитает больших негров». «Мы» — это в первую очередь я, поскольку в кабинете Жан-Пьера Рамзэя я увидел книгу фотографий Мэрилин Монро под названием «Джентльмены предпочитают блондинок», а остальные компоненты добавили Повэр и Рамзэй. Книга вышла в ноябре и наделала много шуму. Впрочем, она успела наделать шума ещё и до своего выхода, летом, потому что несколько глав её были опубликованы в «Сэндвиче» — приложении к популярной газете «Libération». Я стал звездой и ко мне немедленно прилипли люди, люди ведь прилипают к каждой звезде. Всё это было хорошо, это было отлично, ко мне приходили журналисты, из окна моей студии на rue des Archives я мог видеть мою книгу, выставленную в витрине магазина «Mille Feuilles» (тысяча листьев), но у меня кончались деньги. Я истратил пять тысяч долларов, привезённых из Нью-Йорка и те тысячи франков, которые получил от Повэра–Рамзэя.
Я было предложил имевшуюся у меня рукопись второй моей книги «Дневник неудачника» Повэру–Рамзэю, но издатели сообщили мне, что хотят дождаться финансовых результатов продажи «Русского поэта», и вообще, мне следует знать, что во Франции не принято издавать книги каждый год.
Я приуныл, потому что в самолёте «Pan Am», летевшем из Нью-Йорка в Париж, я поклялся себе, что отныне буду жить только на литературные труды. И, пожалуйста, сбой. В мрачном настроении я пошёл в Люксембургский сад, намереваясь выпить с Савицким вина. Я не ожидал, что он решит мою проблему. Возможно, и он не ожидал. Он сказал, что познакомит меня со своей литературной агентшей, Мэри Клинг, «Le Nouvelle Agence» совсем рядом, только выйти из Люксембургского сада, агентство рядом с театром «Одеон», на одноимённой короткой улочке.
Нужно сказать, что в те годы французские писатели не пользовались услугами литературных агентов. Не было такой традиции. Литературные агенты во Франции, пусть и в незначительном количестве, существовали, но они не работали непосредственно с авторами, а в основном продавали книги иностранных писателей во Францию и французских писателей в зарубежные страны от агента к агенту, минуя авторов.
Впрочем, если импорт зарубежных авторов процветал, французы традиционно переводят большое количество иностранцев, то экспорт шёл плохо. А Mary Kling, бывшая журналистка журнала «L'Express», работала с авторами. Савицкий с её помощью издал антипутеводитель по Москве и повесть «Вальс для К.», так, кажется, называлась его книга.
И вот, в один из летних дней прямо после тенниса, Савицкий, в белых брюках, в модных кроссовках на липучках, с модным рюкзачком на плече, из рюкзачка торчит ракетка, и я пришли в «Le Nouvelle Agence», во дворе, на второй этаж. Лестница винтовая натёрта вкусно пахнущей мастикой.
В агентстве нас встретили девушки, и Савицкий обменялся с ними их «ça va?» на его «ça va bien». На меня взглянули любопытные несколько пар глаз. Из своего задымлённого кабинета именно в этот момент вышла маленькая, худая, очень загорелая горбоносенькая женщина. «Димитри, comment ça va?» А Димитри отвечал, что вот, Мэри, я привёл тебе парня, о котором я тебе говорил.
Я не знаю, чем я подошёл Мэри. И спросить уже нельзя, потому что умерла она. Возможно, поскольку я вдруг стал известен, она рассчитывала, что будет меня продавать без особых усилий. Тут следует сделать поправку на то, что книжный бизнес вообще не очень приносит прибыль. И издатели не особо обогащаются, и авторы не очень, если только не продаются сотнями тысяч. Посему я думаю, я её привлёк своей энергией, верой в свою литературную судьбу, работоспособностью, таким себе ореолом русского Джека Лондона. Савицкий, тот был помягче, человечнее меня и, я думаю, выглядел слабее со своими кулинарными способностями, аккуратностью, тренажёрной мускулатурой.
Меня Мэри привлекла своей работоспособностью, железной бульдожьей хваткой, суровой, не женской манерой жить и управлять небольшим коллективом из девушек. Без особого труда Мэри устроила мою книгу «Дневник неудачника» в издательство «Albin Michel», но книга вышла не в 1981-м, как я бы хотел, а в 1982 году.
Без особого труда, я пишу, потому что литературным директором «Albin Michel» был в те годы Иван Набоков, племянник знаменитого писателя, сын его брата Николя, композитора. Вероятно, во всяком случае, может быть, Мэри была какое-то время любовницей Ивана, а может быть — нет, но их дружба была заметна.
С другой стороны, «Дневник неудачника» расценивается профессионалами как одна из моих лучших книг, потому ничего удивительного в том, что после известности моего первого романа «Русский поэт…» такую классную книгу охотно взяли.
Тут следует ещё подчеркнуть тот факт, что продавать русский текст во Франции в десятки раз сложнее, чем туземный, французский. Туземный ведь не нуждается в переводе, а русский — нуждается, а это — дополнительные затраты. Я уже не помню, сколько они мне заплатили тогда, все мои договора давным-давно мною потеряны, однако я получил какую-то сумму и мог жить дальше.
Мэри оказалась до крайности полезной мне, бравому молодому волку. Савицкому она тоже была полезна, но он едва производил одну книгу в несколько лет, а я как пошёл их производить: только в 1981–82 годах я написал, кажется, пять книг.
У Мэри были отличные связи в Германии. Это она продала в Германию «Русского поэта» издательству «Шерц». Иностранные права, да, купили у меня Повэр с Рамзеем, она же выступила в качестве агента Рамзея для Германии.
Я продал «Русского поэта» в Соединённые Штаты сам, а в Италию, в страны Скандинавии и прочие — это Мэри.
Когда она уезжала, ну там, на Франкфуртскую ярмарку или ещё куда, уже подымаясь в агентство по лестнице, можно было понять, что Мэри нет в Париже. Играла музыка, девки бездельничали за кофе, раздавался громкий хохот. При Мэри это было бы немыслимо, они бешено стучали на машинках, таскали стопками книги или мчались по лестнице на задание, ломая каблуки.
Дверь в кабинете Мэри обычно была приоткрыта, и оттуда выползали тяжёлые и густые клубы табачного дыма. Бывшая журналистка «L'Express» курила мужские сигареты, то «Gitane», то «Gauloise».
У меня странным образом сохранились через годы и сквозь войны и тюрьмы две позаимствованные мною в «Le Nouvelle Agence» книги: «The New Mercenaries», автор Anthony Modeler, и «The Revolutionary mystique and terrorism in contemporary Italy» by Richard Drake.
Я взял их у Мэри для прочтения, чтобы не потерять в Париже мой английский. Ну разумеется, я ориентировался на их привлекательные для меня названия. Получилось, однако, так, что эти две книги также сориентировались на меня и сумели внушить мне каждая свои ценности. Годами они стучались в мою душу и добились того, что сформировали меня: «The New Mercenaries» сделали так, что я в 90-е подружился со всеми вооружёнными bad boys европейского континента, от полковника Костенко до знаменитого сербского воина Аркана, а в 1993-м я сам стал на некоторое время mercenary в Книнской Краине.
«Revolutionary mystique» толкала и втолкнула меня в радикальную политику.
Книги, оказавшие, может быть, наибольшее влияние на моё формирование в мои уже зрелые годы, эти две, я подобрал у Мэри, через неё, в аккуратненьком «Le Nouvelle Agence», зелёные ворота которого выходили на здание театра «Одеон». В летние дни, когда движение автомобилей в Париже становилось неплотным, выходя из ворот дворика, где помещалось «Le Nouvelle Agence», можно было услышать детские визги из Jardin de Luxembourge. Париж тех лет был спокойный и сладостный, но книги, уловленные мною от Мэри, сообщали тревогу и неспокойные будущие времена. Вначале в судьбе России и моей собственной судьбе, а затем в судьбе всего мира.
Нашей наилучшей сделкой, моей и Мэри, была продажа тоненькой рукописи моей книги «У нас была Великая эпоха» в издательство «Flammarion» за целых 120 тысяч франков. По тем временам, когда соотношение франка к доллару было пять к одному, сумма в 24 тысячи долларов представлялась грандиозной, да, собственно, и была грандиозной. Мэри вела переговоры с грозной тёткой Франсуаз Верни, известной как делатель гениев, она тогда только что изготовила для всеобщего потребления юного гения Александра Jardin(a), и у Мэри было много надежд, что она превратит в пусть уже и не юного гения меня, я уже был известен как outstanding writer, так называла меня Мэри.
«Фламмарион» издал «У нас была Великая эпоха» под более скромным названием «La Grande Epoque». Они, правда, попутались с обложкой, поместили на неё солдат эпохи революции и Гражданской войны, тогда как в книге речь идёт об эпохе после Второй мировой войны, но это не было бедой, перевод был хороший.
Беда состояла в том, что мои товарищи по радикальной газете «L'Idiot International», где я был членом редакционного совета и одним из ведущих журналистов, опубликовали такой себе скотологический, в высшей степени оскорбительный памфлет о Франсуаз Верни, и моя «La Grande Epoque», как следствие, не имела успеха, потому что издательство её не продвигало, и осталась единственной изданной мною тогда с «Фламмарион» книгой. Друг моих друзей, я остался с «L'Idiot», хотя моя индивидуальная литературная судьба была бы счастливее, если бы я принял сторону старухи Верни.
Верни умерла ещё раньше Mary Kling, но я, поскольку уже не жил во Франции, не знаю, когда это случилось, и не могу даже составить для неё индивидуальный некролог. Это была разбитная толстая тётка с вечной сигаретой и грубым матросским голосом. Она была похожа чем-то на российскую Новодворскую, с тем различием, что её сферой деятельности была литература и литературная жизнь.
В баре, по-моему, он назывался «Парфенон», это был цивильный бар в одноимённом отеле в центре Парижа, я помню, они сидели. Mary и Франсуаз Верни, и хохотали над моим французским. «La Grande Epoque» ещё не вышла из типографии, а я спешил продать «Фламмариону» свою новую рукопись: эссе «Дисциплинарный санаторий», по просьбе Мэри я изложил синопсис моей книги, которая уже была написана.
— Чему вы смеётесь, Мэри?— задал я вопрос.
Женщины переглянулись.
— Твоему французскому, Эдвард,— ответила Мэри, не предполагая, что я обижусь.
А я обиделся, потому что писал на французском статьи для «L'Idiot», и никто там не смеялся, машинистки набирали мои статьи преспокойно, лишь время от времени осведомляясь, что я имел в виду в двух-трёх случаях. Потом разразилась эта история со скотологическим памфлетом в «L'Idiot», её автор — язвительный наш товарищ Marc-Édouard Nabe, и моя карьера у «Flammarion» рухнула. Ну да и чёрт с ней. Я всё равно добился успеха.
«Дисциплинарный санаторий» же был напечатан во Франции лишь через три года после «La Grande Epoque», издательством «La Belles Letters», редактором его был тогда длинноволосый богатый наследник, друг Jean-Edern Hallier(a) Мишель? По дороге к публикации книгу не понял Claude Frioux, мой, впрочем, сторонник, профессор-коммунист, он дал на книгу ужасно отрицательное заключение для издательства «Gallimard», и её не взяли с таким-то заключением.
Когда же книга вышла в 1993-м, то её страшно изругал другой мой доселе сторонник Bernard Pivot. Журналист и телеведущий главнейшего французского литературного шоу «Apostrophes» назвал «Дисциплинарный санаторий» евангелием для скинхедов, и в его рецензии чувствовалась ненависть.
В те годы меня стали вытеснять из литературы. К 1994 году, я уже жил в России, я с трудом нашёл издателя для книги «Убийство часового», за пять тысяч франков всего продал книгу издательству «L'Age d'Homme», его владельцем был серб Владимир Дмитриевич. Когда книга вышла в 1995-м, на неё не появилось ни одной рецензии. Так они меня заклевали. Постепенно от меня стала отворачиваться и Мэри. Однажды пригласила меня к себе, это был, возможно, 1992-й. Я в то время наезжал в Париж, чтобы выспаться, а больше — воевал в Сербии, в Приднестровье, жил кипучей политической жизнью в Москве.
— Эдвард,— сказала она,— don't be offended. Я тебя поддерживала во всех твоих начинаниях. Но ты стал too much даже для меня. Я даже поддержала твой страшный проект книги о Муаммаре Каддафи. Разве нет? Да, поддержала. Но ты испортил отношения со всеми, ты восстановил против себя издателей, журналистов, писателей. Я больше не могу идти с тобой одной дорогой. Я не могу даже предложить твои рукописи, потому что не знаю кому. От тебя все отвернулись.
«Убийство часового», о котором я упоминал выше, я уже продавал сам. Ходил в дождливые дворики, помню, входил в издательства, помещавшиеся в одной комнате. Мне обещали, и только Дмитриевич, серб, взял книгу, потому что я встал на сторону сербов.
Когда умерла Мэри Клинг, я даже и не знаю. А вот вездесущий «Google» подсказывает, что 1 июля 2010 года. Оказывается, она родилась в Лондоне в 1936-м в еврейской семье выходцев из Австро-Венгрии. После книг, повествует «Google», её второй страстью были лошади. Она выращивала их в своём загородном поместье, близком к Орлеанскому лесу. Настоящая её фамилия была Готтлиб.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых 3: Кладбища» • 2014–2015 гг.
Адвокат дьяволов
Представьте себе.
Летний солнечный день. Без преувеличения огромная квартира в историческом центре Парижа. Place des Vosges. Уникальный ансамбль средневековых особняков, все четыре стороны площади — здания исторические, памятники, один к одному. В этом доме жил кардинал Ришелье, и наглые дворяне, рискуя головами, устроили перед его особняком несколько дуэлей. А в этом — жил великий поэт и писатель Виктор Гюго. В центре площади — сквер и в нём, в центре сквера — памятник Людовику XIII, потому что именно здесь он принимал парады. В старые времена площадь называлась Королевской — Place Royale.
А на втором этаже балконная дверь открыта, на балконе сидит деревянный негр в натуральную величину — привлекая восхищённые взгляды туристов; обедаем мы, разбитная, зловещая компания самых удалых журналистов и писателей Франции, редколлегия журнала «L'Idiot International». Пахнет свежескошенной травой.
Я чувствовал себя в те годы тщеславным выскочкой, которому удалось пробиться наверх. Я сижу в самом-самом городе мира, Paris, среди самых-самых… О нас говорят, мы делаем новости, наша газета, о, этот наш «L'Idiot», он порой расходился тиражом 250 тысяч экземпляров, мы даже возродили мальчишек-газетчиков, вынув их из вековой старины, от Диккенса, из Англии, из XIX века, и они бегали по улицам, газеты висят на руке. «Свежий Идио! Свежий Идио!»
На один из обедов пришёл Жак Вержес. Наш директор Жан-Эдерн Аллиер, не лишённый никаких человеческих чувств, напротив, награждённый ими в избытке, позвонил мне накануне: «Limonov, ты завтра будешь? Приходи, придёт Жак Вержес, адвокат, самый знаменитый во Франции! И возьми свою Наташá, пусть адвокат увидит, какие у нас девки…»
Наташá была не в духе, идти отказалась. По правде говоря, меня это устраивало. Если я приходил с ней в компании, она меня напрягала.
Жак Вержес оказался светским, сильным, хорошо одетым и острым как бритва. Физиономия выдавала его происхождение: француз-отец и мать-лаотянка, женщина из Лаоса (по другим источникам, его мать — Pham Thi Khang — учительница-вьетнамка). По правде говоря, Вержес выглядел как киногангстер китаец из фильма о довоенном Шанхае или о Макао. Бледное лицо, узкие зоркие глаза, мягкая походка.
Держался он приветливо, но в то же время на дистанции. Меня тоже представили ему с особой гордостью. «Наш русский товарищ».
Я в то время не так много знал о нём, но то, что знал, меня интриговало. У него была самая загадочная биография из всех незаурядных людей, которые меня тогда окружали. Во-первых, он успел повоевать на стороне де Голля в Италии и во Франции.
Помимо того, что он был другом красных кхмеров, когда они ещё были молодыми студентами в Париже, другом самого Пол Пота, тогда ещё носившего свою родную фамилию Saloth Sar и Khieu Samphan(a), позднее одного из главных лидеров красных кхмеров. Во Франции Вержес таинственно отсутствовал с 1970 по 1979 год. Где он был, он предпочёл не распространяться, существовали и существуют различные версии. Вероятнее всего, он находился у своих камбоджийских друзей юности, у красных кхмеров. Называют также Китай и СССР, последнее представляется мне неправдоподобным.
Ещё мне было известно, что Вержес защищал алжирских товарищей из Фронта национального освобождения. В частности, он сумел добиться для эмблематичной фигуры того времени Джамили Бухиред замены смертной казни на пожизненное заключение. Впоследствии её помиловали и они поженились. Джамиля Бухиред сидела за то, что взорвала кафе Milk-Bar в Алжире. 7 убитых и 60 раненых. Такую супругу, конечно, иметь приятно.
Незадолго до того времени, как я пожал ему руку в квартире Жан-Эдерн Аллиера на пляс де Вож, Вержес выступил, вызывая проклятия общественности, адвокатом бывшего лейтенанта гестапо в Лионе, Клауса Барбье (Klaus Barbie). Это 1987 год. У Клауса была кличка Лионский Мясник. В ходе процесса Барбье приговорён к пожизненному заключению, но вскоре умирает в тюрьме Сен-Жозеф в Лионе в 1991 году в возрасте 78 лет.
Обеды у нас проходили в длинной столовой Жан-Эдерна. Готовила еду Луиза, алжирская служанка Жан-Эдерна, еда была простая. Целый эмалированный таз салата, куски курицы, зажаренные в противне в духовке, многие бутылки красного вина, без затей открываемые членами редакции, кто как умел и мог, передаваемые из рук в руки. Можно сказать, по-студенчески. Элегантный Вержес невозмутимо участвовал во всей этой весёлой кутерьме.
Затем мы перешли в гостиную, расселись как придётся. Вержес вытащил тяжёлую, как пушка, сигару и закурил. Тут мы всё сами поняли, что принадлежим другому классу. Забегая вперёд, спешу заметить, что после себя Вержес оставил 600.000 евро долгов, а похороны оплатил Союз адвокатов Парижа. Так что богатый стиль жизни был просто благоприобретённой привычкой, а богатым человеком он не был.
Мне он с первого взгляда приглянулся, как свой, близкий человек, я охотно допускаю, что известная черта характера, называемая «авантюризм», присуща и ему и мне, может быть, поэтому и приглянулся.
Он вошёл в Совет редакции «L'Idiot», однако долго в нём не пробыл. Дело в том, что этот его жест восприняли как политическую ангажированность, и ему пришлось уйти, потому что адвокату лучше всего быть политически не окрашенным, но он окрашивается, конечно же, каждый раз от своего клиента, это бесспорно.
Последний раз я видел его у Жан-Эдерна на каком-то редакционном торжестве, когда мы ждали Жан-Мари Ле Пена и должен был прийти Кразуки, вождь воинственного союза SGT, близкого к компартии.
По какой-то причине Le Pen не смог появиться, но Кразуки в своей знаменитой кепчонке явился с парой крепких, мускулистых товарищей. Когда он входил, то известный писатель — вождь нового романа Филипп Соллерс — бравурно заиграл на пианино «Интернационал», и мы встали и запели. В том, что Соллерс играл «Интернационал» и мы встали, я уверен, память моя прочно хранит этот яркий эпизод, а вот все ли пели, не уверен.
Наш столик, а это были Наташа и я, и Жак Вержес, мы встали. И пели. Текст французский.
Кразуки был тронут и смущён. Он не ожидал, по всей вероятности, быть так принятым циничными молодыми писателями и журналистами «L'Idiot». Многие тогда считали, что для нас нет ничего святого. А для нас было. Мы всё больше и больше втягивались в политику. Само собой получилось, что, поскольку среди нас были и правые, в Совете редакции одно время пребывал известный правый философ Alan de Benoit, Patrick Besson долгие годы сотрудничал с «L'Humanité» и издательством «Messidor», таким образом, по праву считался левым, и это только два примера. Назревал политический альянс левых и правых. Впоследствии, в 1993 году, именно за этот альянс нас и разгромили, уничтожили рождавшуюся новую политическую силу. Совместными усилиями власти и СМИ.
Жак Вержес. В тот вечер он понравился моей мрачной привередливой подруге. Правда, он был скрытен как бес, разговаривать с ним можно было только о его процессах. Впрочем, все адвокаты приблизительно того же психотипа, могут упоённо часами говорить об отсуженных делах, но никогда не скажут вам, куда они отправятся через час. Сергей Беляк, с которым я задружился через годы после того, как в моей жизни прошёл Вержес, также часами говорит о своих подзащитных, курит сигары, но темнит, если речь заходит о его связях и расписании на завтра.
Может быть, именно потому, что он вызывал моё восхищение, я в те годы не сблизился с ним, а потом я уехал в Россию. Он продолжил свои адвокатские подвиги. Его клиентом, когда того арестовали, стал знаменитый городской партизан Карлос Ильич Рамирес Санчес (Шакал). Вержес предлагал свои услуги Слободану Милошевичу и Саддаму Хуссейну, но в этих двух случаях что-то не срослось. Два эти лидера были замучены, как мы знаем, западными государствами, и кровь их на руках лидеров США и Европы.
Вержес с самого начала жизни, самим фактом своего рождения от туземной матери, не столь важно, вьетнамка она или лаотянка, во времена «L'Idiot» мы все были убеждены, что лаотянка, был помещён судьбою в лагерь угнетённых. Так он себя и воспринимал. Изучая право, учась в Сорбонне, он, однако, был уже тогда Президентом Ассоциации колониальных студентов. Будучи приверженцем де Голля, он вступил в 1945 году в компартию Франции. А вкус к дорогим сигарам и элегантность — это от отца. Доктор Raymond Verges был консулом в Сиаме, затем политиком на принадлежащем Франции острове Реюньен.
Его кредо, он высказал его в 80-е годы в интервью журналу «Le Point»: «Выбирая между псами и волком, я всегда буду на стороне волка, особенно если он ранен». Всё верно. Волчьей породы были его подруга Джамиля Бухиред, клиенты Клаус Барбье и Карлос Шакал. Вообще-то у него было с полсотни знаменитых клиентов, таких как Магдалена Копп — подруга Шакала, как Шайен — дочь Марлона Брандо. Я здесь не пишу его биографию, а лишь делюсь тем образом его, который я уловил, немногочисленное количество раз встретившись с ним в Париже в конце 80-х — начале 90-х годов.
Умер он в августе 2013 года от сердечного приступа в замке своей второй жены (с Бухиред он развёлся) Marie Christine de Solages. Этот блестящий во всех отношениях тип умудрился умереть в той же комнате, где встретил смерть великий Вольтер.
Шикарно! Высший пилотаж, как красиво. Ему было не то 87, не то 88 лет, потому что год его рождения, вероятнее всего, все же 1924-й, а не 1925-й.
Оставив после себя 600 тысяч евро долгов, он оставил также и 33 книги, написанные им. Среди них есть книга стихов, называется «Nocturne» («Ночное»).
На его отпевании в церкви Святого Фомы Аквинского, в двух шагах от бульвара Сен-Жермен:
Белые розы с лаконичной надписью на ленте «Мэтру», красные розы с надписью «Дружески, Жорж Ибрахим Абдалла», среди пришедших проводить Вержеса — алжирский министр культуры, африканцы, целое море народа. Первой жены нет, присутствуют сын и дочь, присутствует Мари Кристин де Солаж, присутствует бывший министр юстиции Франции Ролан Дюма, адвокаты пришли в своих тогах, венок из тюрьмы Ланнемезан от лидера революционной партии Ливана, прилетел с острова Реюньон брат-близнец Вержеса Поль, он лидер компартии острова. Сын Жака Вержеса Лиесс очень похож на него. Стоит крупный негр, генерал Бозизэ, бывший президент Центрально-Африканской Республики.
Из церкви гроб выносят белые, смуглые и чёрные.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых 3: Кладбища» • 2014–2015 гг.
Похожий на кота
Мой первый издатель Jean Jacques Pauvert прожил 74 года в двадцатом веке и ещё 14 лет в двадцать первом.
Я с ним познакомился в мае 1980 года, следовательно, он, родившийся в 1926 году, был тогда крепким пятидесятичетырёхлетним мужиком, высоким и вполне таким мускулистым. Негустые усы делали его похожим на кота. К тому же у него были круглые глаза под очками.
Манера разговора у него была податливая, то есть он казался, может быть, даже безвольным. Однако безволие было обманчивым, несмотря на то, что когда он сердился, в голосе у него появлялись плачущие мяукающие ноты. На самом деле он был твёрд, неуступчив и непреклонен.
Встретились мы, тут я вынужден пересказать уже достаточно известный из моих других книг эпизод, мы встретились по адресу: 27, rue de Fleurus, улице, которая ведёт от задних ворот Люксембургского сада к бульвару Raspay. Дело в том, что по этому адресу помещалось тогда издательство «Ramsay». При встрече Повэру ассистировал издатель Jean Pierre Ramsay или они друг другу ассистировали. Я прошёл через двор, поднялся по лестнице, и два эти человека пожали мне руку.
Почему их было двое, издателей? Тут нужно вернуться в 1979 год, когда русский эмигрант, впоследствии писатель Николай Боков, мой приятель ещё по Москве, умудрился от моего имени подписать с Повэром контракт на издание моей первой книги «Это я, Эдичка». Я давно потерял в странствиях тот блеклый французский контракт, исторический документ, по которому Боков выступал как мой агент, а «Editions Pauvert» обязывалось издать мою книгу, я бы с удовольствием поностальгировал над этим документом. Сумма там стоит незначительная, не то 12, не то 18 тысяч франков. Хотя Боков утверждал, что для первой книги это замечательно.
Далее я сидел в Нью-Йорке и с нетерпением ждал выхода книги. В феврале я получил сообщение, приведшее меня в крайнее смятение духа. Боков написал мне, что Jean Jacques Pauvert имел огромные финансовые неприятности и издательство обанкротилось. Я побродил по улицам и решил ехать в Париж, устраивать каким-то образом издание моей книги. В Нью-Йорке от «Это я, Эдичка» отказались 35 издательств.
И вот я переступаю порог издательства «Ramsay». Дело в том, что Повэр за эти месяцы стал руководителем коллекции в издательстве своего друга Жан-Пьера Рамзэя.
Адрес 27, rue de Fleurus — это не просто адрес, но именно здесь (меня пригласили в библиотеку издательства, она же, видимо, была кабинетом Жан-Пьера) жила и работала американская писательница Гертруда Стайн. И сюда к ней приходили Эрнест Хемингуэй, Шервуд Андерсон, Скотт Фицджеральд с женою Зельдой… и другие великие.
Я волнуюсь, но я хорошо подготовился. Я говорю им, что я талантлив, амбициозен, что у меня есть рукопись второй книги, что здоровье у меня отменное, и я хочу стать и стану великим писателем. Для русского уха, возможно, это звучит чрезмерно, но вот для французского, оказалось, я попал в точку. Я сказал именно то, что интересует издателя, а стоит ли вкладывать деньги, пусть и небольшие, в этого русского, ведь нужно ещё заплатить за перевод его книги.
Повэр читал несколько глав «Это я, Эдичка». Я не помню деталей, читал ли он английский перевод Билла Чалзмы, за который я заплатил трудовыми деньгами хаузкипера нью-йоркского миллионера (я работал мажордомом у Питера Спрэга, владельца «Austin-Martin»), или же уже читал французский перевод Изабель Давидов (псевдоним), который в конце концов и был опубликован. Но он читал несколько глав, потому и купил книгу в 1979-м.
Теперь перед ним стоял автор, сильный, мускулистый молодой мужчина в очках и, широко улыбаясь, доказывал свою писательскую состоятельность.
Мы там же, в библиотеке мисс Стайн, подписали контракт. Я вытащил из них дополнительные 10 тысяч франков!
— Эдуард,— сказал мне Повэр,— мы платим американским писателям меньшие деньги.
— У американских писателей есть в Америке американские мамы, которые их поддерживают, или папы, или они читают лекции в университетах. Я одинок, мне неоткуда ждать средств.
— Ты научился блестяще торговаться, вести бизнес, пожив в Америке,— сказал Повэр. Они рассмеялись оба и вписали в контракт эти дополнительные 10 тысяч франков.
С французским названием книги вышла некоторая заминка. Точнее, большая, поскольку минут сорок мы все трое ничего путного не могли придумать, сколько ни ходили по библиотеке, ни звенели ледышками в стаканах виски, а я и Повэр протирали очки.
Повэр стоял у большого окна, я подошёл к книгам и внезапно остановился глазами на большом coffee-table-издании биографии Мэрилин Монро под названием «Джентльмены предпочитают блондинок».
— О,— сказал я,— можно назвать книгу «Я предпочитаю негров!» — и расхохотался, хотя название звучало разнузданно и принесло в будущем мне массу неприятностей.
— А что, хорошо,— сказал Рамзэй.
— Нужно уточнить, кто «я»,— сказал Повэр.
— Как кто, протагонист книги.
— Читатель должен сразу знать, кто этот протагонист. К примеру, «Русский поэт предпочитает негров».
— Ну, это звучит как название статьи,— возразил я.
Через некоторое время мы сошлись на том, что книга будет называться «Русский поэт предпочитает больших негров».
Я был тогда настолько легкомысленен, да и аморален, конечно же, у меня и в мыслях не было, что судьба занесёт меня когда-либо ещё в пуританскую Россию, что я стану заниматься политикой. Я и ухом не повёл. Да, собственно, так всё и должно было быть. Стигмат на мне я нанёс себе сам. «Всё вокруг героя превращается в трагедию»,— сообщил первым Ницше.
Уже к концу лета издательство «Ramsay» переехало на rue du Cherche-Midi, переводится как «ищу среду» или «ищу середину». Все французские издатели жмутся к центру Парижа, это престижно. Cherche Midi — это было шикарно по тем временам. Чтобы Повэр меня не забыл, я нанёс ему визит по новому адресу. И чтобы Рамзэй меня не забыл. Я пришёл туда с красивой бывшей женой Еленой. Клянусь, чем там клянутся в романах — бутылкой кальвадоса, она произвела на них впечатление. И мне даже не пришлось им врать, назвав её героиней моей книги.
В конце лета куски из книги опубликовал «Сэндвич» — приложение к газете «Libération», и обо мне заговорил весь культурный Париж. В ноябре 1980-го вышла книга, и внизу стоял бренд «Jean Jacques Pauvert chez Edition Ramsay». Книга имела оглушительный успех. С этого момента я исчисляю свою литературную судьбу.
Финансовый успех не спешил нарастать, волны не было. Убытков не отмечалось, но и скорого обогащения моя книга издательству не принесла.
Я стал торопить мой тандем издателей подписать со мной договор на рукопись «Дневника неудачника». Принято считать, что это — лучшая моя книга, но поскольку она написана не в жанре романа, то издателей она могла привлечь меньше, чем «Русский поэт». Рукопись для них прочли, рецензия была отличная. Правда, рецензент отметил сходство «Дневника» с двумя книгами: «Соколов» — произведение известного певца Сержа Гензбура, она в те годы как раз появилась, и с книгой американского писателя польского происхождения Джерзи Козински «The painted bird». Рецензент имел в виду сходство формы моей книги с этими произведениями. Книгу Pauvert–Ramsay брать не отказались, однако с договором просили подождать. «Эдуар, во Франции писатели публикуют одну книгу в несколько лет».
Но у меня кончались деньги, привезённые из Штатов, денег-то и было всего пять тысяч, и закончились те десять тысяч франков, которые Повэр–Рамзэй добавили мне к контракту за «Русского поэта». Ощутимый ущерб моему мизерному капиталу нанёс приезд в Париж моей бывшей жены Елены в 1981-м. Она назначила мне свидание в отеле «Hotel Plaza Athenee», кажется, так назывался отель. Явившись на свидание, я узнал, что за отель буду платить я. Кажется, стоил её номер 530 франков в сутки. Моя студия по адресу 54, rue des Archives, для сравнения, обходилась мне в 1.300 франков в месяц. В конце концов, я перетащил её в мою студию, она находилась в отличном районе, недалеко от центра искусства имени Помпиду, но всё же эта леди успела нанести мне финансовый ущерб. У нас опять вспыхнула любовь, а любовь может сжечь все банкноты, имеющиеся в наличии. Представляете себе, она приехала из Рима в Париж с собакой! С сеттером по имени Василий.
Но её шляпка-канотье из твёрдой соломки была такой милой, бирюзовые глаза так ярки, а красная блузка так пылала… Что я перенёс мои траты без раздражения.
Повэр–Рамзэй сказали мне, что, мол, Эдуард, ты можешь предложить «Дневник неудачника» другому издателю. Я попытался предложить «Дневник» самому престижному их книгопроизводителю, издательству «Gallimard», основания у меня были, перед отъездом из Нью-Йорка я получил от «Gallimard» письмо, они интересовались рукописью, которая потом стала «Русским поэтом». Однако «Дневник» они не взяли, я полагаю, что виной всё-таки была не романическая форма книги, не коммерческая.
Упорный, я познакомился с литературным директором издательства «Albin Michel» Иваном Набоковым. Иван говорил по-русски как обитатель Арбата, был племянником писателя Набокова, сыном композитора Николя Набокова и был женат на дочери бывшего посла в России мсье Жокса, на Клод Жокс. Брат Клод, Пьер, был правой рукой Миттерана, и в 1981 году именно он стал министром внутренних дел. Я приходил к ним в особняк семьи на мосту Генриха VI, особняк ненавязчиво стали охранять жандармы.
Но я ушёл в сторону от великолепного Jean Jacques Pauvert. Он некоторое время ещё работал в помещении на rue du Cherche-Midi, а затем куда-то исчез оттуда. Он каким-то образом сумел открыть новое издательство под своим именем. Время от времени мы с ним встречались на литературных коктейлях, я помню его мяукающий голос и участливое: «ça va, Edouard?» Интерес Повэра–Рамзэя ко мне опять вспыхнул осенью 1981-го, когда на «Русского поэта» обратил внимание кинорежиссёр Фолькер Шлёндорф, знаменитый тогда. Повэр–Рамзэй написали мне в Нью-Йорк (я в это время был там несколько месяцев), чтобы я встретился с Шлёндорфом. Я встретился, тот рассыпал передо мной многочисленные комплименты моей книге, сообщил, что видит её как универсальную историю шока, постигшего европейца от столкновения с Америкой. И сообщил мне, что по возвращении в Европу свяжется с моими издателями для того, чтобы подписать договор на экранизацию.
Мы сидели (ещё было тепло) в модном кафе у Линкольн-центра, я пил за его счёт виски и был счастлив. Чёрт возьми, думал я, как же мне везёт, а? В конце 1980-го я стал культовым автором в Paris, на меня приезжают поглядеть и познакомиться такие необычные типы, как Душан Макавеев, патриарх мирового авангардного кино, молодые журналисты толпами ходят ко мне в мою студию на rue des Archives, и вот меня будет экранизировать сам Фолькер Шлёндорф. В тот год его фильм «Жестяной барабан» гремел на всю Европу.
Я так возгордился, что не стал тащить с собой в Paris постельное белье, доставшееся мне, как хауз-киперу, от тех дней. Я был неопытен и не понимал, насколько кинобизнес сложнее книжного. Вернувшись в Paris, я узнал, что продюсеры Шлёндорфа (одного звали не то Сильвер, не то Зильберман) не дали ему денег на «Русского поэта», и он стал снимать фильм по Марселю Прусту. Тьфу ты, какая гадость этот Марсель Пруст!
«Albin Michel» выпустил «Дневник неудачника» в 1982 году.
В краткий период очарования Шлёндорфом Повэр–Рамзэй купили написанную мной в Нью-Йорке, Калифорнии и Париже книгу «История его слуги». Оглядываясь назад, вижу, что я несколько испортил книгу, я сократил её, следуя указаниям Элендеи Проффер из американского издательства «Ardis Publishers». Оригинал книги я безвозвратно потерял и не могу его восстановить, а то бы восстановил.
Повэр в эти годы писал и выпускал трёхтомную биографию божественного маркиза. Я читал первые два тома и нахожу, что это — самая талантливая биография, написанная когда-либо. Следует отметить тут, что Повэр занимался Садом с ранних лет. Он первый во Франции стал издавать Сада открыто, поставив на «Историю Жюльетты» свой издательский лэйбл. Тогда это было издательство «Éditions du Palimugre», история Жюльетты публиковалась с 1945 по 1949 год. Внутри на титульном листе уже значилась фамилия издателя Jean Jacques Pauvert. До Повэра Сада публиковали анонимно и продавали, что называется, из-под полы.
За его храбрость молодого издателя стали преследовать. С 1956 года он жил под наблюдением полиции. Министерство публичности провело над ним процесс с 15 декабря 1957-го по 12 марта 1958 года. Повэра защищал адвокат Морис Гарсон. Повэр выиграл процесс.
В 1954 году Повэр выпустил в свет шедевр эротической литературы «Histoire d'O», под именем автора Pauline Reage.
Впоследствии он осчастливил мир книгами Андрэ Бретона, Жоржа Батая, контэссы Сегюр, Раймона Русселя, выпустил антологию чёрного юмора.
С присущей мне наглостью заявляю, что самым большим его успехом стал я. Он открыл лихорадочно современного русского писателя и пропустил его через свои знаменитые двери. Я думаю, старик Повэр имел время в этом убедиться, поскольку ещё за три года до его смерти в конце августа 2011-го оглушительно разорвался во Франции роман-биография Эммануэля Каррера под названием «Limonov».
Один из его последних издательских подвигов — в 1991 году он занимался переизданием культового французского философа-ситуциониста Ги Дебора для издательства «Gallimard».
Один из его последних личных подвигов — в 88 лет он женился на писательнице Brigitte Lozere'h, брак был зарегистрирован в мэрии городка Rayol-Canadel-sur-Mer в конце апреля 2014 года. А 27 сентября того же года он отдал богу душу, мой старый друг и благодетель, мяукающий кот.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых 3: Кладбища» • 2014–2015 гг.
Голубой велосипед
Эта рыжая дамочка была подругой Сони Рикель и, может быть, потому носила похожую на ореол из колючей проволоки причёску.
Она избрала для себя образ сексапильной простушки-крестьянки и так и прожила в нём жизнь от 1935 года, когда родилась, до 2014-го, когда умерла. Жан-Жак Повэр, подругой и протеже которого она была и от которого у неё осталась дочь Camille (Камилла), пережил её на пять месяцев. Она носила простые платья с кружевами, вязаные чулки и долго напоминала соблазнительную девушку-провинциалку, только что отряхнувшую с платья солому, было впечатление, что она прибежала после совокупления в стогу.
Её называли «папесса эротизма». Её трилогия «Голубой велосипед», «101, авеню Анри Мартэн» и «Дьявол смеётся до сих пор» имела огромный успех у читателей, более десяти миллионов экземпляров были проданы. Правда, наследники американской писательницы Маргарет Митчелл, автора «Autant en emporte le vent» («Унесённые ветром»), учинили против неё процесс, обвиняя в плагиате. Судьи не согласились с наследниками. Общее в двух книгах, что обе живописуют судьбу молодой женщины на фоне трагических исторических событий. В случае Митчелл это Гражданская война в Америке, в случае Дефорж — оккупация Франции.
Она была первой женщиной-издателем во Франции. В 1968 году она открыла своё издательство «L'Or du Temps» (Золото времени). Первой книгой, вышедшей в её издательстве, была перепечатка романа Луи Арагона «Le Con d'Irene» (Con — это женский половой орган). Весь тираж был арестован полицией через 48 часов, 22 марта 1968-го. Она была осуждена за «оскорбление приличия» и лишена гражданских прав.
Она издавала книги, написанные женщинами, и издала, наверное, сотню книг классиков, среди которых был Теофиль Готье, Гийом Аполлинер и другие. В её собственных романах героини самостоятельны и исповедуют принципы феминизма. Есть лесбийские сцены.
Где-то в самом конце 80-х она случайно стала моим издателем. Дело в том, что обанкротившийся издатель Jean Pierre Ramsay отдал ей за цену в один франк издательство «Ramsay». Главным редактором издательства стал Поль Фурнель. Как она вела дела, не представляю, со мной она была неизменно приветлива, но об этом далее. Лучше бы была неприветлива, потому что в 1992 году она умудрилась обанкротить издательство, и я потерял около 92 тысяч франков, которые мне должны были выплатить до 31 марта 1993 года, потерял авторские гонорары за книги. Деньги, набежавшие за 1992 год. Во французских издательствах принято выплачивать авторские гонорары раз в год, начисляют их с января по конец марта.
Обанкротившись, издательство обязано было вначале заплатить типографам и книжным магазинам, затем коллективу издательства и только потом писателям. На нас ничего не осталось. Я позлился немного на рыжую, но жизнь началась такая, что мне стало не до Режин Дефорж.
Я пытаюсь вспомнить, когда я впервые увидел её. Я думаю, что это было в Ницце, в начале октября, затруднение возникает, какого же года. Вероятнее всего, 1980-го, а если нет, то 1981 года. В Ниццу я прилетел с целым авионом французских писателей, в Ницце проводились Дни литературы. Мы жили в гостинице «Меридиан» прямо напротив пляжа, на Английском променаде, а Дни проходили в шатре, установленном в сквере напротив. История моего пребывания в Ницце на Днях литературы описана мною в рассказе «Салат Нисуаз», лучше вряд ли получится, да и не нужно, поскольку там нет эпизода, в котором присутствовала Режин Дефорж. Точнее, там есть начало этого эпизода, когда я вышел в смокинге, лаковых туфлях и в бабочке. Отправившись во дворец, где должна была состояться главная церемония Дней литературы. И заблудился. Но я всё же успел прийти к танцам. И, видимо, ловко выплясывал с кем-то рок-энд-ролл, потому что Режин Дефорж сделала мне комплимент, наблюдая, как я танцую. Тут я похвалюсь, что хотя мне в тот год было 37 лет, я выглядел на 27 и был очень ловок. Режин подошла ко мне и по-французски, а я его ещё плохо понимал, произнесла несколько раз слова «véritable», «authentic», я так их понял, эти слова, что в моём исполнении она увидела настоящий, подлинный рок-энд-ролл. Я не знал ещё их языка символов, это пришло позднее. Сегодня мне кажется, что я мог пойти с нею в постель в тот вечер. Репутация у неё была такая, и широко распахнутые глаза источали восторг и удовольствие. Я полагаю, что хороша была и её попа, однако из-за того, что она носила крестьянские платья, очертания таза рыжей миледи были скрыты.
Далее у нас были на протяжении лет дружеские симпатии при каждой встрече. Один раз моя тогдашняя подруга контесса Жаклин де Гито пригласила меня к Режин на обед. Помимо меня, Жаклин, Режин, разумеется, и её мужа-художника Вяземского (высокий молодой мужчина, соломенный блондин с бородкой) на обеде присутствовала знаменитый дизайнер Соня Рикель и её любовник, человек лет сорока в бархатном пиджаке и с маслянистыми чёрными глазами. Помню, что это была улица Saint André des Arts. Гостиная, она же столовая, была вся обшита деревом и походила на русскую избу. Вероятнее всего, что interior decorator был сам Вяземский. Он подписывался как художник Wiaz. Кроме того, что он был потомок русской княжеской семьи, он также был внуком, что ли, Франсуа Мориака. Вот до каких высот взлетала порой моя жизнь, о сокамерники! Тут я представил читателей моей книги в виде сокамерников, заключённых со мной вместе в тюремную клетку. В сущности, так и есть, сокамерники.
С 1991 года я стал всё чаще улетать из Paris. Появились на теле Европы горячие точки, и я пропадал в Сербии, в Приднестровье, в Москве или в Абхазии. В Paris если я и приезжал, то ненадолго, и спешил убраться из этого мира, который всё больше становился мне чужим.
Когда после тюрьмы я поселился в «Сырах», на Нижней Сыромятнической улице, однажды туда явился мой старый друг по парижскому периоду жизни, художник русского происхождения. У меня была свободная комната, и я ему эту комнату охотно предоставил в обмен на парижские новости. Так от него я узнал, что Режин Дефорж тяжело переживает свою старость, что у неё одни неудачи в жизни, что она погружена в глубокую депрессию.
Я особо не посочувствовал депрессии Режин Дефорж, я выработал в себе глубокое презрение к стилю и образу жизни европейцев, потому я скорее позлорадствовал. Что-то циничное пробурчал, типа «продавала миллионы книг, теперь любила кататься, люби и саночки возить». Может, я вспомнил басню «Стрекоза и муравей», когда циничный муравей бросает легкомысленной стрекозе: «Ты всё пела, это дело, так поди же попляши!», что, конечно, чудовищно со стороны муравья.
Художник, может быть, желая мне подыграть, принялся вышучивать Режин и поведал мне, что он трахал её у себя в мастерской на столе.
— Во время депрессии?— осведомился я.
— Да,— сказал он весело.— Её трусы зацепились мне за пряжку.
— Значит, депрессия не была столь глубокой.
И действительно, если у женщины есть желание и возможность make love, то у неё не должно быть депрессии. Ведь зачем ещё созданы женщины?
А потом она умерла. Вот тебе и голубой велосипед.
И пусть это не звучит как надоедливый рефрен. Другого выхода у мужчин и женщин нет. Жалеть её не стоит. У неё было всё: успех, прославленные мужчины, любовь мужчин и женщин, слава, она рожала три или четыре раза. Что ещё нужно женщине? Так что депрессия — это зря.
из сборника воспоминаний
«Книга мёртвых 3: Кладбища» • 2014–2015 гг.
Задохлик
Прошлый Париж представляется мне Раем, где по уютным, как бабушкина квартира, улицам ходят ярко окрашенные знаменитости, мужчины и женщины, но, в основном, женщины. Они улыбаются, смеются, открывают рты, но не звучат. Они коммюникируют со мной мыслями, я знаю, что они говорят, не слыша.
Поскольку их окутывает дымка времени, они разгуливают, во-первых, прозрачными; сквозь них видны здания Парижа, в основном, это кусок территории в центре города, квартал за монументальным зданием Французской Академии, тем, что стоит напротив Лувра, у другого конца моста Искусств, на левом берегу Сены…
Во-вторых, во-вторых, они сохранились, окутанные дымками или пеной времени, или покрытые жидкостью времени, они сохранились в среднем возрасте. Не проржавели до старости, но и не изменились в другую сторону: не стали девочками и мальчиками.
Я вижу себя, симпатичного, решительного русского молодого человека, с крутым слоем каштановых волос, крупно литых на голове. Волосы как у античного полководца или ритора, только что не белые, не гипсовые.
Я иду на званый обед к прославленной женщине-писателю, к Режин Дефорж, иду себе как будто так и надо, я, парень, пропутешествовавший в Париж из далёкого предместья города Харькова, из рабочего посёлка, как будто так и надо, шагаю победительно и зло — весёлым по французской столице.
Я тогда считал себя самым-самым, я спал с настоящей контессой древней французской крови, у меня уже вышли четыре скандальных книги, я чувствовал себя победителем и хозяином Парижа.
Я тогда ещё плохо знал их, народ, подвинувшийся, чтобы вместив меня, и потому ещё не презирал их, не то что сейчас, когда мне известны все их слабости.
Свежий ветерок моей юности, и славы, и удачливости, подгонял меня прохладной рукой в бритый затылок, меня, удачливого любовника и успешного литератора, по стопам Джойса и Хемингуэя явившегося завоёвывать их столицу.
Rue Saint-André-des-Arts,— сейчас она, я могу себе представить, во что она превратилась, наверное, по ней бродит в обнимку арабская молодёжь, а тогда она была запущенной, слегка пыльной, и там можно было встретить в середине дня лишь довольно банальных белых клошаров-алкоголиков с сизыми руками и лицами.
Я иду на званый обед к Режин Дефорж, тогда она была на вершине славы: выпустила под руководством её издателя и её любовника Жан-Жака Повера трилогию «Голубой велосипед», «101, Авеню Анри Мартэн» и «Дьявол смеётся до сих пор». Продала она тогда свыше десяти миллионов книг!
Издатель рискованных книг, автор бестселлеров, прозвище «папесса эротизма», всё это так, но я считаю себя куда более вышестоящим типом, к тому же, завоевателем чужих земель, помимо того, что автором рискованных книг, потому я иду без волнения. С волнением я бы шёл к Жану Жене, но его я не смог выудить из сети его арабских знакомств. С волнением шёл я в магазинчик издательства «Champs libres» Жерара Лейбовица, желая познакомиться с издателем Месрина и другом Ги де Бора. А к Режин иду без волнения, впрочем, с любопытством.
Дверь открывает сама Режин. Вид у неё, как у крестьянской девушки, только что плохо о тряхнувшейся от совокупления в стогу сена. Рыжая, огромная шапка пружинистых мелко-колечковых волос, «волосы дыбом» сказали бы в России. Пышная крестьянская юбка, и …ковбойские сапоги. Либо сапоги, похожие на ковбойские. Широко открытые, синие и серые одновременно, нет, синие, васильковые глаза простушки.
— Твоя Жаклин уже здесь!
Режин пропускает меня в квартиру, обшитую деревом, как крестьянская изба. Вот тут они сошлись с её мужем, её крестьянский стиль и его псевдорусский. Муж у Режин, я его вижу сегодня в первый раз, но наслышан о нём от Жаклин (Жáклин, произносит она своё имя с ударением на «а», сама контесса де Гито) — муж её — потомок княжеской фамилии Вяземских. У него и псевдоним (он художник) Wiaz — Вяз. По женской, кажется, линии, он потомок французского писателя Мориака. Вот и он выходит ко мне, высокий, с соломенными бородкой и причёской. Они подходят друг к другу, Wiaz и Режин, у них есть ребёнок, правда, я сомневаюсь в том, что Режин примерная жена.
Нас в тот день, на том обеде, было шестеро. Wiaz, Режин, моя Жаклин, я, а также модельер Соня Рикель и её спутник, такой сытый кот с масляными чёрными глазами, в бархатном чёрном пиджаке по имени Поль. Меня тогда вовсю интересовал феномен женщин, старше своих любовников, и я понаблюдал за парой.
К концу обеда, когда мы перешли к крепким «дижестив» («пищеварящим»), Рикель прилегла на плечо своего спутника, и он довольно запустил руку в её причёску, к её шейке.
На лице её лежала уже такая печать усталости, когда сквозь общую припудренность проглядывают отдельные островки кожи, желающие отделить себя границами от других островков. Это был 1982 год, лето, следовательно, Соне Рикель было в это время, сейчас посчитаем, она родилась в 1930, следовательно, ей было 52 года. Самое время коже женщины разделяться на фацетики, островки и площадки.
Вероятно, она родилась худенькой, в моём Харькове таких называли «задохлик», худенький еврейский ребёнок. Существуют легенды, что она, когда забеременела, такой задохлик, то болезненно чувствовала на коже прикасания одежды. Поэтому будто бы и изобрела свой первый лёгкий свитерок «бедного мальчика» швами наружу.
Легенда кажется мне правдоподобной, поскольку в день, когда мы познакомились, была она существом явно худосочным и страдальческим. Так что в «швы наружу» — верилось без проблем. Когда она изобрела себе такую причёску — крышу, такой домик, в нём удобно спрятаться и выглядывать на врагов,— легенда не озаботилась нам сказать, но домик из волос тоже отличное изобретение, ухищрение болезненной натуры.
Я не помню, что мы там ели, у Режин, возможно, я записал это в моём дневнике того времени, эти дневники того времени хранятся у знакомых в Париже. И там, я воображаю,— написано: ели то-то и то-то, возможно, всего-навсего, курицу, Режин была поклонницей простой еды.
Жаклин, моя Жаклин как-то, многие годы спустя, умудрилась прислать мне в тюрьму (!) письмо из Panama City, из люксового отеля, и письмо её меня порадовало. Чёрт её знает, жива ли она ещё, никогда не унывающая подружка моя? У неё было десятка полтора платьев от Сони Рикель. Они дружили, и потому у Жаклин скопилось много полосатых матрацев «Рикелей».
Феномен «модельер» родился, конечно же, в беспокойном Париже, гостеприимном городе, куда стекались все фрики человечества и развивали там свои таланты. Румынско-еврейско-русской, довольно деловой Соне, где ещё светило стать звездой, как не в Париже, городе, обожавшем и фриков, и задохликов. И поощрявшем их.
Так и вижу её, уже измятую жизнью собачку, прикорнувшую на плечо Поля с его маслянистыми чёрными глазами, упорного, жизнебьющего фонтана, этого Поля, от которого её задохлость явно получила огромное удовольствие.
«Гуд бай, Соня!» — тебя уже нет среди нас.
Если верить художнику Игорю Андрееву, лет за восемь до её смерти он присутствовал на открытии бутика Рикель на бульваре Сен-Жермен, то победоносная старушка-задохлик передала мне привет. Цитирую письмо Андреева:
«Нам выпала честь сопровождать Соню до лимузина, ожидающего у подъезда, она еле шла, опираясь на трость. Жаловалась, что даже с деньгами трудно жить, суставы болят… Лишь яркие, красного цвета волосы блестели неоновым оттенком над бледным лицом. «Лимонову передайте привет, он мне очень нравится»,— прощаясь, произнесла она. ⟨…⟩»
Ну, что скончалась она, пусть и задохлик, в возрасте 86 лет, во главе целой Fashion-империи. Неплохо для болезненной дочки русско-румынской еврейской семьи. Так и прожила рыженькой. Задохликом. Отогреваясь на груди Парижа.
позднее рассказ вошёл в сборник
«Книга мёртвых 4: Свежеотбывшие на тот свет» • 2017–2018 гг.